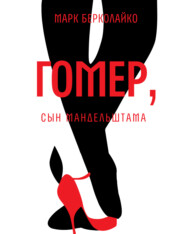скачать книгу бесплатно
Гомер, сын Мандельштама
Марк Зиновьевич Берколайко
Самое время!
«Гомер, сын Мандельштама» – это второе издание опубликованного десять лет назад романа «Гомер», а его новое название позаимствовано с любезного разрешения Елены Зейферт из ее рецензии, появившейся тогда же в журнале «Знамя». Игорь (Гошка) Меркушев, в детстве прозванный Гомером, собирается в день своего шестидесятилетия уйти из жизни – только так он может загнать в ловушку совершившего тяжкое преступление и неотступно им преследуемого высокопоставленного чиновника. Рассказывая о себе, своих родителях, любимых женщинах, друзьях и недругах, Меркушев, некогда крупный ученый-медик, а потом вице-мэр города-миллионника, произносит фразу, которая могла бы стать не только эпиграфом к его повествованию, но и диагнозом для невыносимо болезненного слома эпох: «Мы не потерянное, мы притыренное поколение».
Марк Берколайко
Гомер, сын Мандельштама
Макет, оформление – Валерий Калныньш
«Гомер, сын Мандельштама» – это второе издание опубликованного десять лет назад романа «Гомер», а его новое название позаимствовано с любезного разрешения Елены Зейферт из ее рецензии, появившейся тогда же в журнале «Знамя». Игорь (Гошка) Меркушев, в детстве прозванный Гомером, собирается в день своего шестидесятилетия уйти из жизни – только так он может загнать в ловушку совершившего тяжкое преступление и неотступно им преследуемого высокопоставленного чиновника. Рассказывая о себе, своих родителях, любимых женщинах, друзьях и недругах, Меркушев, некогда крупный ученый-медик, а потом вице-мэр города-миллионника, произносит фразу, которая могла бы стать не только эпиграфом к его повествованию, но и диагнозом для невыносимо болезненного слома эпох: «Мы не потерянное, мы притыренное поколение».
© Марк Берколайко, 2021
© «Время», 2021
* * *
От автора
Не верьте бардам, по лекалам своим обкорнавшим талант Бориса Корнилова, не верьте никому, кто спел: «Качка в море берет начало, а кончается на земле».
Поверьте ему самому: «Качка в море берет начало, а бесчинствует на земле»! Поверьте – он хлебнул сполна и работки, которая качает «лучше спирта и лучше войны», и пирушек «с боку на бок и с ног долой», а тридцати лет от роду был накормлен чекистским свинцом, качнувшись в последний раз.
Всего-то дважды стравил я за борт, когда отец взял меня на Нефт Дашлары, Нефтяные Камни, – первые в мире морские буровые в сорока двух километрах от Апшерона – а как после этого полегчало! Каким крепким мореходом себя почувствовал, просоленным до суховоблости! Попробовать отбить о край столешницы – неизвестно, на чем останется вмятина.
Но в качках земных…
Стойкость – это здорово, кто из нас не восхищался андерсеновским солдатиком, однако мало кому, даже и о двух ногах, присуща эта непреклонная вертикаль от подошв до острия штыка.
Устойчивость? Популярное в любимой моей математике красивое понятие, но что толку уметь восстанавливаться после «малых возмущений», если для судьбы – возиться с «малыми», что песчинки перебирать; если даже у тишайшего каллиграфа она с ухмылкой садиста-переростка отнимает самое выстраданное – новую шинель?
Слово-суть нашли моряки.
Остойчивость.
Остойчивость, способность судна из самого дикого крена вернуться в исконное состояние: прочный киль – строго внизу, клотик как вызов гневному небу – строго вверху.
Вечная качка, помилосердствуй! Остойчивость, спаси и сохрани!
Гомер, сын Мандельштама
Пролог
Областное начальство частенько вспоминало о нобелевских лауреатах, имевших счастье родиться в Недогонежской губернии, и в упоминаниях этих угадывалась решимость вывести на такие же высокие орбиты лучших из тех, кто пока еще сидит, распевая, на горшке или стоит, зареванный, в углу.
Но мэр Недогонежа не припадал к былому величию, он напирал на иное:
– Переработка мусора – следующий по прибыльности бизнес после наркотиков, проституции и казино! Городу необходим мусороперерабатывающий комплекс, и мы его построим!
И вот стало известно, что через двадцать четыре дня будет подписан полный комплект договоров с выигравшим тендер инвестором, а к генеральному подрядчику хлынет первый миллиард, бюджетная часть всего объема финансирования.
Но тут мэр, чутко прислушивающийся к советам астрологов и гадалок, заспешил в длительный отпуск; высшие силы – устами притронных волхвов – велели ему убраться куда-нибудь подальше. А в заветный день знаменательного года все необходимые документы подпишет традиционно «исполняющий обязанности» первый вице-мэр Игорь Осипович Меркушев, которому – так уж сложилось – почти накануне, в субботу, 28 июля, исполнится шестьдесят.
27-го же, в Москве, сезон должен завершиться долгожданным концертом самой яркой звезды мирового вокала, Елены Кретовой.
Впрочем, недогонежцы, гордящиеся ее славой, голосом и гонорарами, слегка обижены: певица наотрез отказалась навестить родной город.
Глава первая
Редко когда любящие друг друга сущности встречались с таким чувством взаимного раздражения, как мы с Валерием Валерьевичем – осенне-зимними утрами у дверей класса, пахнущего щедро хлорированной уборкой.
Отрабатывая нищенскую свою зарплату, уборщица размашисто проходилась по доске половой тряпкой, и мы долго потом стирали белесые разводы с поверхности, взывавшей к написанию незыблемого и вечного – того, в чем сомнений быть не может. Например: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Или: F=?mM/R?.
Нас, еще не проснувшихся, раздражало сияющее готовностью к труду лицо Валерия Валерьевича, очень подходящее лицо для директора лучшей школы и лучшего в городе учителя математики и физики, обреченного на кличку Приам. Горжусь, что этот глас судьбы первым услышал я, но, впрочем, все было очевидно: его странную увлеченность «Илиадой» и его манеру называть точки А1, В1, С1 не «А-один», «В-один», «C-один», но исключительно «А-прим», «В-прим», «C-прим» – оставалось соединить.
Раз уж он – Приам, то старший его пасынок, богатырского сложения одноклассник и мой закадычный друг Виктор, стал Гектором. Младший же, смазливый Александр, – Парисом.
Знать Гомера наизусть в наше время нелепо, но так уж получилось, гены так сплелись – есть у меня три мутантных отклонения: недюжинная память, пониженная болевая чувствительность и редкий, почти всегда одинаковый пульс – 47 ударов в минуту. Стало быть, предназначено мне жить долго, все помнить, но боли не чувствовать. Странное сочетание, неисполнимый замысел…
Была еще одна особенность, приобретенная: научился выдерживать гипнотизирующий взгляд Приама. Как-то, в классе пятом, впопыхах назвал достопочтенного наставника Варелием Варельевичем – и минуты две он был недвижен и зловещ, как собственный портрет, освещенный шаровой молнией, но я выдержал, хотя взгляд призывал меня искупить вину смертью (желательно, героической) на ахейских копьях и мечах, за стенами школы, этой нашей неприступной Трои.
Однажды, лет тридцать с лишним назад, попали мы с Гектором в незнакомую компанию интеллектуалов, декламировавших Мандельштама. После каждой декламации следовала благоговейная цезура, затем – благоговейный же комментарий. Пришел черед обязательного: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
– Как он любил эту недосказанность! – вздохнул самый восторженный. – «Я список кораблей прочел до середины…» Непонятно и прекрасно!
– Ничего непонятного! – возразил я. – Не более чем признание честного человека. Всего в «Илиаде» двадцать четыре песни, каждая как-нибудь называется. Например, вторая: «Сон. Беотия, или Перечень кораблей». Поэт не смог осилить ее дальше середины – и не мудрено, этакую-то галиматью!
Цезура затянулась.
– Вы, собственно, кто по специальности?
– Патологоанатом.
– Это чувствуется! Так препарировать поэзию!
– Любителей поэзии я, поверьте, препарирую еще лучше!..
– Гомер! – посетовал Гектор, когда, пробившись через когорту чрезмерно возмущенных, мы оказались на улице. – Какого хрена ты задирался? Двух долбаков, венеролога и трупореза, допустили посидеть, помолчать, приобщиться к мировой культуре… А ты?! Нет приклеиться к шатенке, которая слева, так полез в бутылку со своим пульсом сорок семь и весом «пера»!
Не мог не задираться! Они читали Мандельштама, как пошлые ахеяне, – не для того, чтобы наполнить мир хорошими стихами, а чтобы шатенка дала. Не мог, потому что неприязнь к ахейцам Приам передал именно мне.
«Тр-р-роянцы, запевай!» – командовал он на вылазках, у жарких костров, и мы запевали: «Когда внезапно возникает еще неясный голос труб…»
«Пр-р-роменаду пр-р-редаетесь, ахеяне?!» – каркал он, застукав нас праздношатающимися по проспекту, и это уничижительное «ахеяне» клеймило несмываемо, оно навсегда отлучало от всего талантливого, вышвыривало в сумеречный мир посредственностей.
Приам любил нас как своих посланцев в 1980-е, в начало коммунистической эры, которая непременно взрастет из такого зримого научного первенства замечательной страны. Потому и отвращался от нашего раздолбайства, царапавшего его в дни фронтальных опросов и контрольных работ; от обреченности, с которой осенне-зимними, угрюмыми утрами мы тянулись в класс, пахнущий щедро хлорированной уборкой.
А вот папа римский, узнав о решимости построить через восемнадцать лет коммунизм, вздохнул: «Фатальная ошибка! Нельзя указывать точную дату Второго пришествия».
Он преподавал математику и физику, а жена его, Галина Леонидовна, была словесницей. Однако семья их сложилась не как школьная: бездетный строевик лишился долго болевшей жены, а муж Г. Л., в непривычно сильный мороз поехал на охоту привычно пьяным, заблудился и оледенел. Прошло отпущенное на траур время, и добровольные свахи подсуетились, справедливо рассудив, что связывать судьбы внутри Богом забытого военного городка надо быстро и напористо.
И вдруг оказалось, что брак умницы-майора и уютной училки был и вправду задуман на небесах, что небесный ЗАГС не зря отозвал наверх Приамову жену и забулдыжного отца Гектора и Париса. Пацаны всегда воспринимали Приама как кровного и родного, а уж на Г. Л. он надышаться не мог, оттого и рухнула его военная карьера – об этом, правда, я узнал гораздо позже, когда ухаживал за ними, умирающими от лейкемии.
– То-то и оно, Гошенька, – рассказывала она тихо, чтоб не разбудить задремавшего в соседней комнате мужа, – это ведь из-за меня, дуры, Валеру в запас отправили.
Перед самым Днем Советской Армии в части околачивался проверяющий из Москвы, «паркетный» полковник, из-за нелетной погоды опаздывающий на пьянку в Минобороны, а потому заявившийся на местный хлебосольный банкет.
– Сидел, конечно, во главе стола, рядом с командиром, – частила она, – пил-жрал за троих и на женщин так поглядывал… будто дворовую девку выбирал, постель ему на ночь расстелить!
Те полковые дамы, что обычно доступны не только взору, были как на подбор в прекрасной форме, могли в любой ответственный момент вывалить обильный бюст и сказать подобно героине феллиниевского «Амаркорда»: «Угощайтесь!» Но то ли товарища полковника сбило с толку разнообразие возможного угощения, то ли, наоборот, оно показалось ему однообразным, поскольку такие амаркордовские и в Москве надоели – пригласил он на медленный фокстрот Г. Л., нашептал кучу сальностей, а на последних па молодецки потрепал за задницу.
– Было б что трепать! – сердилась самокритичная словесница. – И я, взрослая баба, завелась, как тургеневская девица!
Как все же – от поколения к поколению – меняется восприятие одного и того же набора слов! Для Г. Л. решающим было противопоставление «взрослая баба» – «тургеневская девица»; для меня – слово «завелась»… а дальше, как водится, пыхтенье и стоны в укромном уголке… Но ничего подобного: дала пощечину, крепкую, на добрую память. Это углядел Приам. Подойдя к полковнику, загипнотизировал его остановившимся взглядом и принялся размеренно отвешивать оплеухи, от которых «проверяющая» голова перекладывалась туда и обратно с амплитудой хорошего маятника. А еще и вопрошал: «Будем стр-р-еляться или встанете на колени?!»
– Так ведь встал же, Гошенька! Встал, подлец, перед моим сумасшедшим Валерой!
Скандал замяли, Приама уволили якобы по болезни, но с лестной характеристикой. Семья переехала в Недогонеж, супруги учительствовали в рядовой школе нашего района, потом В. В. стал директором – и потащил ее в гору по всем учебным, олимпиадным и спортивным показателям.
Глава вторая
От парт, попавших под горячую руку уборщицы, несло хлоркой. Мы вдыхали ее часами, чувствуя, как начинает гореть то место, которое тетенька-отоларинголог, заслонявшая лицо круглым зеркальцем с дырочкой в геометрически выверенном центре, называла «носоглоточкой» («А носоглоточка-то опять воспалена!»). Ее туго натянутый на плечах и груди халат был всегда так бел, словно его отстирывали верткие «зайчики» от ослепляющего зеркальца. Эта белизна, эти охи по поводу носоглоточки сулили освобождение от физкультуры – а когда болезных набиралось по полкласса, громадина-физрук, экс-чемпион Европы, которого весь Недогонеж звал просто Борец, с отчетливо заглавным «Б», неспешно отбывал в кабинетик при спортзале; мы же рассаживались на матах и замирали.
Приам клал на «козла» книгу, упирался в его края пудовыми кулаками и, умудряясь каркать нараспев, читал «Илиаду». Торс его каменел, кулаки, белея, все глубже вдавливались в черную обивку, но правая нога непроизвольно дергалась, подчеркивая звучность ударных слогов. Этот тремор, контрастирующий с растопыренной устойчивостью «снаряда», словно предвещал конвульсии обреченной Трои, и мало кто из нас не представлял себя на крепостной стене с луком, но лучше – с пулеметом, выкашивающим ряды грабителей-ахеян.
А Борец наслаждался чаем и думал: как не повезло школе с директором. Себе самому плохую жизнь уже накаркал: служил, где атомные бомбы взрывают, в жены досталась баба с двумя пацанами, а болт, небось, висит – от радиации. Вот оттого и бесится, всех заколебал своей дисциплиной. Когда пронюхал, что городские пацаны, тренирующиеся в школьной борцовской секции, втихую платят по пятерке в месяц, смотрел в глаза, не моргая, и всаживал кулачищи в некогда стальной, а теперь оплывающий живот. Борец кривился, вспоминая, как ойкал от боли и бормотал: «Валерьич, больше сукой не буду, теперь половина – тебе», а майоришка не моргал и всаживал, всаживал… неделю потом чихать было больно, а в матах всегда так много пыли и так всегда хочется чихать. И вздыхал, и чай, подхваченный вздохом, устремлялся в золотозубый рот теплой, ластящейся волной.
Однажды, когда Приам додекламировал бесконечный список кораблей, я спросил:
– Валерий Валерьевич, почему Гомер так однообразен? Эскадры, на которых к Трое приплыли греческие царьки, состоят в основном из тридцати или сорока кораблей. И все они либо «красивые строем», либо «примчалися черных»…
– Чер-р-ных, – прокаркал Приам, – потому что на них приплыли делать чер-р-ное дело. И запомни: тот, кто препар-р-ирует шедевр-р-ы – не исследователь, а р-расчленитель. Впрочем, – неожиданно развеселившись, он даже перестал раскатывать «р» (веселое карканье, видимо, невозможно), – ты ведь ГОшка МЕРкушев. Получается почти «Гомер», так напиши лучше классика!
Кажется, я все же взбудоражен известием о приезде Ленки. Подумать только, всего-то через двадцать три дня легендарная дива – триумфы в Ла Скала, Венской опере, Метрополитен-опера и несть числа, где еще, – ступит на родную землю, откуда упорхнула двенадцать лет назад.
Впервые за столько лет позвонила и сказала… скорее, промолвила (любимое слово Жюля Верна, у него все «молвят» – и ученый Паганель, и бандит Айртон): «Я приеду на твой юбилей, Гомер. Никто об этом знать не должен». И дала отбой…
Вспомнила про мой юбилей, а что в этот же день – двенадцатая годовщина похорон Гектора, наверняка забыла.
Мои «юбилейные торжества» запомнят надолго. И подписание документов – тоже. И миллиард, который я якобы собираюсь запулить генподрядчику, и мусороперерабатывающий комплекс.
…Там параллельно конвейеру, в метре над ним, должны курсировать магниты, выискивая в грудах мусора металлы – то немногое, что способно держать нагрузки, чья родословная идет от твердых руд.
Я тоже хотел взлететь над бесконечным конвейером, на который из родильных домов ежегодно вываливались порции населения – и для меня магнитами были Приам, Троя и фильм «Девять дней одного года». Смотрел его три раза, испытывая подлую, но неподдельную радость оттого, что нутряная гениальность Баталова и рафинированная – Смоктуновского (приправленные пикантной женственностью Лавровой) с управляемой термоядерной реакцией, термоядом, не справились. А моя, подкрепленная ровным, редким пульсом Бонапарта и стойкостью Муция Сцеволы, справится!
На любовные шараханья решил не отвлекаться, хотя… пикантная женственность… кто ж от нее откажется?
Смастерить управляемое солнце, чтобы помчались по проводам сотни гигаватт почти даром достающейся энергии, чтобы ревущая сила толкала звездолеты сколь угодно далеко, – да, это триумф, ради которого стоит жить! А гоняться за титулами и званиями – бестолковая забава ахейцев; почести – приманка для примитивных мозгов Агамемнона, Ахилла или Аякса. Свершение – вот единственно стоящая награда, превращаться же в имя нарицательное – удел таких, как Эйнштейн.
Надо сказать, Эйнштейну в моих мечтах особенно не везло, ибо, забежав в девятом классе довольно далеко в университетскую программу физики, я разобрался в знаменитом тензоре гравитации и почему-то преисполнился скепсиса…
К слову, до сих пор не люблю лохматых, кудлатых и бородатых. Как неприлично шумлив Ландау рядом с ненаигранно сосредоточенным Капицей, как примитивен Хемингуэй в сравнении с гладко выбритым Сэлинджером!
Гектор, в знак почитания рано облысевшего Приама, почти зеркалил череп, зато Парис – о! эти его локоны до плеч! Не Владимир Ленский, окрыленный вольнолюбивыми мечтами, а буколический прелестник с небесно-голубыми глазами. Но не холодными (упаси Бог!), а переливчатыми, будто бы мерцающими сквозь непролившиеся слезы. В общем, дружная греза трех недружных богинь.
Глава третья
Сегодня утром все шло по-субботнему, чуть расслабленно, пока вдруг не явилась Инна Сергеевна, элегантная дама немного за тридцать, заместитель начальника финансово-экономического управления…
С областной администрацией с тех самых пор, когда нынешний мэр непредсказуемо победил на выборах, мы дружим по принципу «Para bellum»[1 - Из фразы «Si vis pacem, para bellum» – Хочешь мира, готовься к войне (лат.).] – вот и просочилась в наше здание группка «детей их друзей» и «друзей их детей». Теперь каждое слово, произнесенное у нас, гуляет многократным эхом – у них…
Дама пришла, чтобы доложить о подготовке кредитного договора на тот самый миллиард.
– Кредит нам дают, – пустила она пробный шар, – на крайне невыгодных условиях.
– Увы! – вздохнул я. – Но нужно учитывать, что строительство в Недогонеже мусороперерабатывающего комплекса, да еще крупнейшего в Европе, имеет важное политическое значение.
– У меня такое впечатление, – улыбнулась Инна Сергеевна, – что о политическом значении этого строительства говорится только потому, что экономическая логика хромает на обе ноги.
– И много ли подобных впечатлений, – улыбнулся я, мысленно поздравив ее с четкостью мышления, – вы накопили за полгода работы у нас?
– Гораздо меньше, чем ожидала.
– Неужели даже меньше, чем ожидал Александр Константинович? Если не ошибаюсь, именно он вас сюда ввинтил?
– Вы имеете в виду – рекомендовал? Дело в том, что моя мать, она умерла три года назад, была кузиной жены Александра Константиновича…
– И вы, племянница первой леди, стали номером два в гареме первого лорда?
Вскочила.
– Кто вам дал право?!
– Сам взял. Равно, как и вы, в нарушение всех правил, взялись излагать не аргументы, а впечатления. Будете визировать проект договора?
– Нет.
– Тогда ступайте вон.
У дверей обернулась.
– Вам доставляет удовольствие так общаться?
– А вам доставляет удовольствие трахаться с губернатором?
– Безусловно. Он каждый вечер дает жене снотворное, и ровно в три ночи мы безумствуем на третьей слева скамейке в Бунинском сквере. «Темные аллеи» сгорают от стыда.