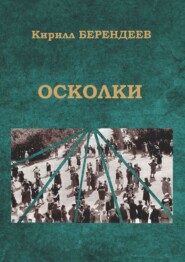скачать книгу бесплатно
И потому все сказано еще вчера, когда я показывал повестку из военкомата и много говорил, лишними, неумелыми, штампованными фразами о долге. Моя девушка, с которой я попрощался последней, вчера вечером, слушала, кивала, соглашаясь, а как можно не согласиться с неизбежным? – но когда речь зашла о завтрашнем прощании, наступила неловкая пауза, заглушенная кстати словами ее родителей, пришедших не то мне, не то ей на помощь. Пауза все равно сказала куда больше, чем все прежние слова.
Так что я простился со всеми прошлым вечером, мои оглядывания напрасны, сколь я ни пытался убедить себя в обратном. Грусть, легкая, как отзвучавшая из репродукторов музыка, охватывает и относит мысли прочь, заставляя и меня сосредоточиться на приближающемся поезде.
А он уже вышел из-за поворота. В нашей серой толпе слышен ропот разочарования. Заурядная, потрепанная временем «овечка» тянет за собой небольшой состав, вагонов десять теплушек. Первой едет платформа с расчехленной зенитной установкой, наводчиком, подающим и командиром расчета. Эта платформа заставляет меня вздрогнуть. Впрочем, не меня одного.
Я замечаю, как наш сержант, шагая к месту остановки паровоза, внимательно всматривается в деревянный пол платформы, ища что-то. Только чуть позже, я догадываюсь, что именно. Он высматривает стреляные гильзы.
Вот и весь литерный, поезд вне расписания, он занимает всего две трети платформы. Кажется, его прибытием недовольны и те, кто находится на той стороне путей и в зале ожидания. Они, все мы, рассчитывали на большее, на добротные вагоны, на удобства. Сам сержант недовольно крутит головой и посмотрев последний раз на часы, стремительно идет к месту остановки головного вагона.
И едва он выходит из спасительной прохлады платформенной крыши, как репродуктор снова оживает. Но голос его не похож на прежний. Барабанные перепонки разрывает заунывный вой сирены. Кто-то пригибается под его тяжестью, кто-то оглядывается. Но никто не сходит с места. В этом городе подобное в диковинку.
И тотчас утробный вой подхватывают по всему городу. Торопливо, захлебываясь словами, диктор произносит непонятные слова. И в голосе его звучит все то же: страх перед неизвестным и какая-то неловкость.
– Внимание, воздушная тревога. Внимание, воздушная тревога. Внимание, воздушная тревога.
И так до тех пор, пока поезд, с шумом выпустив пар, не заставляет репродуктор замолчать.
Мгновение тишины. Никто не шевелится, все заворожены произнесенными репродуктором словами и тем ревом, что предшествовал им. Ожидающие столпились у запертых дверей и смотрят на нас, точно надеясь получить хотя бы здесь подтверждения, опровержения, какого-то нужного добавления к прозвучавшему, чье эхо еще не смолкло в закоулках города. Смотрят так, что я, прежде сам выглядывающий в толпе знакомое лицо, не в силах вынести взглядов, отворачиваюсь.
И смотрю на сержанта. Тот уже добежал до головной платформы, что-то спрашивает у командира расчета. Затем, у офицера, выскочившего по сигналу тревоги из кабины машиниста. И так же бегом возвращается обратно. Офицер, младший лейтенант, чуть помедлив, спешит за ним.
Это неожиданно, а значит, тревожно. Толпа начинает шевелиться, но по-прежнему не отходит от дверей.
Я слышу голос лейтенанта:
– Почему они здесь? Они что, не слышали предупреждения?
Ответа ему нет. Просто некому дать. Я вспоминаю, что с нами, ровно год и два месяца назад проводились учения по действиям во время тревоги, в самом начале войны, когда фронт был прорван, и чужие сапоги стремительно приближались к Свияте. Однако, с той поры прошло бесконечное множество дней, когда страхи укладываются, когда беспричинное беспокойство уже не тревожит. Мир вернулся в привычную стезю. И только патрули на улицах и комендантский час, введенный с самого дня прорыва фронта и так и не отмененный, смутно, через силу, напоминают об опасности. Но какой опасности? За время, прошедшее с единственных учений по действиям во время сигнала тревоги прошло больше года. И с тех пор рубеж, на котором был остановлен враг, почти не менял своего местоположения. Там, очень далеко, в трехстах километрах от города, который не считается прифронтовой зоной.
Все замерли в ожидании. Кажется, снова должна прозвучать сирена и последовать обнадеживающие слова: «отбой воздушной тревоги», повторенные, как положено, трижды. Как молитва в церкви.
Паровоз гудит. Лейтенант именно в это время начинает что-то кричать собравшимся в зале ожидания, его не слышат, только последние слова «немедленно в бомбоубежище», прозвучавшие после гудка, различимы. И услышав их, толпа уподобившись волне, медленно начинает отступать от запертых дверей.
– В городе вообще есть бомбоубежища? Где ближайшее? – спрашивает, перекрикивая начавшийся гомон, лейтенант.
– У вокзала, у здания бывшей тюрьмы. Сейчас там гостиница….
Даже сержант впервые сталкивается с реальностью, которая подминает его слова и действия под себя, с хрустом и лязгом неумолимо надвигающегося танка.
– Откройте двери!
– Ключи у начальника вокзала.
Лейтенант ругается, и его ругань внезапно становится понятна всем, кто стоит у стеклянных дверей. Почему-то кажется, даже мне, что здесь, среди военных, среди хоть какого-то командования, безопаснее, чем где бы то ни было в городе.
Хотя вокзал – единственное место Свияты, которое могут, и скорее всего будут бомбить.
Лейтенант разбивает двери подошвой высокого сапога. Они распахиваются настежь, звон стекла подавляется хрустом под ногами военного. Голос, усиленный, размноженный гулким эхом, обрушивается с высоты потолка на собравшихся.
– Живо, все вон отсюда! Немедленно. Все в бомбоубежище! Это приказ!
Важны не слова, важно действие. Ему и подчиняются в первую очередь. Сержант кричит собравшимся на той стороне путей, через платформу с зенитной установкой. Его почти не слушают – он не совершал подобного лейтенанту, действия и потому не может столь же успешно командовать штатскими.
Из зала собравшиеся выметаются в течение полуминуты. Шум, паника, беготня, гомон, – все это сопровождается непрерывными указаниями лейтенанта, напоминаниями о бомбоубежище, расположенном под гостиницей. Он наступает на все еще находящихся в зале, и те невольно пятятся прочь, словно один вид лейтенанта может ввести в паническое бегство.
Они бегут через открытую площадь к гостинице, уже почти не стесняясь своего поспешного бегства. Кто-то впрочем, стесняется, и потому, идет, нагруженный вещами, скоро, как может. А лейтенант поворачивается к нам.
– Почему новобранцы все еще здесь?
Сержант оглядывается, мгновение, на его лице читается испуг перед безусым молодым человеком, который моложе его лет на десять. Он хочет ответить, но не успевает.
Звук, ни с чем не сравнимый, мешает сержанту произнести слова, заставляет поднять голову к крыше, у центра перрона. Он спохватывается, снова пытается заговорить, и в тот же миг звук этот становится пронзительным.
Два штурмовика выныривают из хрустального неба, с ревом пикируя, в считанные мгновения превращаясь из точек в отчетливо различимые машины смерти с опознавательными красно-белыми кругами на бортах.
– По вагонам!
Это лейтенант. Кто-то кричит, там с того перрона, невидный за составом. Кричит сквозь рев моторов и визг приближающихся со страшной, ужасающей всех скоростью, самолетов.
– По вагонам! – повторяет он команду. И ее же дублирует очнувшийся сержант.
Зенитка внезапно оживает. Она медленно поворачивает дуло в сторону приближающейся опасности. Слишком медленно. Штурмовики открывают огонь первыми.
Очереди проходят наискось – по две с каждого самолета. Пересекают асфальт перрона, оставляя за собой черное крошево, уходят в кусты и выскакивают на излете пикирования в самой нижней точке, на площадь. Где все еще бегут, торопясь скрыться от опасности, несколько десятков человек.
Нас загоняют в вагоны. Мы медлим. Я неотрывно смотрю, заталкиваемый в нутро теплушки, как трое так и не ставших пассажирами останавливаются, когда очередь, пропарывая асфальт, добирается до них, и как-то картинно размахивая руками, медленно валятся посреди площади. Коробки, сумки, падают в стороны, их содержимое медленно рассыпается.
Второй штурмовик целенаправленно бьет по уходящим. Две дорожки прокладываются вдоль площади, сквозь бегущих, растерявшихся от грохота и грома, не знающих, что лучше в данное мгновение, – спешить по площади к спасительному бомбоубежищу или попробовать скрыться в подъездах зданий. Ведь это же пулеметы, не бомбы….
Еще несколько человек падают, просто падают лицом вниз. К ним подбегают, их пытаются поднять. Кричат что-то. Штурмовики уже проскочили площадь, должно быть, разворачиваются для новой атаки.
А сверху рушится новая смерть. То, что на фронте зовут «чемоданом» – с глухим посвистыванием падает на площадь, прямо на людей, пытающихся поднять мертвецов.
Какое-то дикое немыслимое мгновение я наблюдаю, как бомба, словно бы нехотя, приземляется на площадь.
И более не вижу ничего. Одновременно со взрывом меня заталкивают в теплушку. Последним, кроме меня, все уже выполнили приказ лейтенанта. Но я слышу. И ощущаю.
Чудовищный удар, сбивающий с ног, осколки стекол, вылетевших из всех помещений вокзала и устремившихся к нам, забарабанивших в доски вагонов, в шинели. Ядовитые шершни, призванные с небес, ищущие себе добычу. Кто-то кричит от боли, падая рядом со мной. Падает и не шевелится.
Дверь немедленно захлопывается, словно пытаясь отрезать нас от начавшегося кошмара. И тотчас же новый взрыв, чуть дальше, чуть тише, чуть слабее. Я вспоминаю, что рядом лежит кто-то, кто еще недавно был смутно знаком мне, кто, стоя по соседству, рассказывал своим друзьям озорные истории – и смеялся с ними. Я касаюсь его плеча. Он еле шевелится, чуть слышно постанывая. Стекла пронзили шинель, просквозили ее, точно картечь. Он что-то пытается сказать, но слова тонут в невнятном бормотании, кто-то помогает мне, поворачивая его неестественно вывернутую на сторону голову, и только тут я замечаю, что она липкая. Насколько она липкая.
И резко откатываюсь, пытаясь встать. Остальные недоуменно смотрят на меня, пока еще не понимая моего страха. Еще двое так же получили ранения от осколков стекла, но незначительные.
Мне слышится грохот, но не от нового взрыва, для них, вероятно, еще рано, грохот обрушившегося здания. Какого – неизвестно. Двери теплушки закрыты снаружи, до высоко расположенных оконец мне не дотянуться.
Грохот и тишина, на несколько секунд охватившая город. Эти мгновения мне кажется, после взрыва я стал плохо слышать – лишь иллюзия, ибо я различаю чей-то бег по перрону, и далекий голос:
– Ну подходите же, подходите, гады, – голос беззлобный, вероятно, привыкший ко всему происходящему, голос скорее успокаивающий уверенностью в собственных силах. Новая реальность давно уже стала для обладателя голоса истинной, приелась ему, и он чувствует себя в ней достаточно комфортно, чтобы позволить себе негромко посмеяться над возвращавшейся смертью.
Я слышу, как кто-то из склонившихся над балагуром вскрикивает, понимая – только сейчас понимая, – что же произошло. Зажимает пробитую вену на шее, не то пытаясь помочь уже недвижному телу, не то надеясь таким образом нащупать пульс. Бесполезно, склонившийся сам прекрасно понимает это и едва не плачет, уговаривая своего товарища, а больше, себя, потерпеть. Чуть-чуть.
– Сейчас мы поедем, и все закончится. Все закончится.
Последние слова повторяются, словно эхо, несколько раз. Все тише и тише, пока не замолкают совсем.
И снова слышен гул. Тот самый, ожидаемый.
Далекий голос, пока еще способный перекрыть его:
– Ходу давай. Что ты стоишь, ходу!
И паровоз начинает медленно трогаться с места, скрежеща мотовилами, проворачивая колесные пары на рельсах; в эти секунды мощь его никак не может найти выхода. Он теряет бесценное время, неспособный отойти быстро от станции. Пар клокочет в котле, выбрасываемый все ускоряющимися толчками наружу – но медленно, ох, как же медленно! Ведь гул с небес уже перерастает в рев.
И в ответ на усилившийся гул перекрывая его, доносится первый выстрел зенитки, а следом за ним, вдогонку, второй, третий, медленно, толчками сердца. Совсем не так споро, как в фильмах, демонстрируемых нам в последних классах, в те времена, когда войны еще не было, но уже никто не сомневался, что рано или поздно она будет. Обязательно для всех получивших приглашение, именно так это и звучало, «приглашение на освидетельствование медкомиссии», и штампик в военный билет с хрустящей корочкой и единственной, все объясняющей надписью «годен». Первый, после начала боевых действий, приказ министра обороны обязывал проводить «дополнительно курсы военной подготовки среди лиц мобилизационного возраста» – от восемнадцати до тридцати пяти. Кто-то пошел сам, кого-то как меня, бывшего студента, «пригласили» на освидетельствование, а затем вручили повестку и билет.
Билет этот до сих пор не заполнен, только фотография, личные данные и время направления на курсы молодого бойца. Взятия на учет в должности «рядовой». На страницах посвященных прохождению службы и получения званий пока еще пусто. Нас отправляют с предписанием туда, где постепенно в течение шести месяцев начнутся неспешно заполняться свободные восемь листков. Или гораздо быстрее, если снова взглянуть на небо….
У плечистого балагура с широкой улыбкой записей в билете более не прибавится.
Зенитка продолжает ухать. А штурмовики уже несутся над площадью, открывая огонь по составу. Люки открываются, я словно бы чувствую это, и из них выпадает еще одна бомба.
Состав наконец, сдвигается с места. Очереди пронзают теплушки. Где-то крик:
– На пол!
И мы, следуя этому крику, послушно ложимся, падаем, ожидая милости небесной. Рядом со мной снова оказывается липкое лицо новобранца, все в осколках витражей. Я пытаюсь отвернуться, и только сейчас ловлю себя на мысли, что не в силах не смотреть на открывшийся мне внезапно ужас – ужас смерти. Он сковывает меня, подобно пудовым цепям и держит, не давая вздохнуть полной грудью.
Единственная мысль способная противостоять натиску смерти. Она не пришла проводить меня. А значит, с ней все в порядке. Все должно быть в порядке.
Значит это счастье, что она не пришла. Что наше расставание состоялось вчера, и мои просьбы остались неуслышанными. Что ее не было на площади сегодня.
Поезд медленно набирает ход, зенитка продолжает строчить, как испорченная швейная машинка, выбрасывая из себя снаряд за снарядом. В пустоту, все в пустоту.
– Крути, давай, крути!
Штурмовики промчались над нами и снова ушли – осталось лишь дождаться двух взрывов. Я сжимаюсь, пытаясь стать маленьким и незаметным, сделаться недосягаемым ни для бомб, ни для пуль. Столь крохотным, что никакое оружие неспособно более причинить мне вреда.
Два взрыва сливаются в один. Совсем рядом. Буквально в нескольких метрах.
– О, Господи! – всхлип на выдохе.
Значит, мимо.
Ударная волна бьет, что есть силы в двери теплушки. Неожиданно окатывает волной горячей воды. Словно далекое море вышло из берегов и девятым валом добралось до нас. В расширившиеся щели теплушки виден дым и пар, искореженные куски железа, мимо которых проносит нас, уже на порядочной скорости, паровоз.
Взрывами разбило водокачку. Ее останки виднеются в щели вагона, закрываемые искореженным кряжистым тополем.
Мы отползаем от накатившей и схлынувшей волны, точно потерпевшие бедствие на необитаемом острове.
– Не подниматься, не подниматься! – крики сержанта из соседнего вагона.
Значит, будет и третий заход. Зенитка не прекращает стрельбу. Мне кажется, частота выстрелов увеличилась – или это только иллюзия? Ведь она – единственное оружие, что защищает от атак не только и не столько наш состав: целый город. Всю Свияту, которой более нечем ответить на атаки двух штурмовиков, лишь пытаться укрыться – где угодно, как угодно. Этому городу никогда не было чем ответить на любые атаки. Свията считается гражданским объектом.
А потому единственное орудие, способное хоть как-то защитить город теперь стремительно удаляется от него. Не прекращая отвечать огнем на огонь неприятеля.
А Свията остается беззащитной – там, позади.
Вопль. Дикий вопль, исполненный какого-то безумного счастья, слышится с головы состава. Не в силах усидеть на месте, мы бросаемся к оконцам теплушки. Всматриваемся, отталкивая друг друга, в небесную синь – единственное, во что мы можем всмотреться. И отвечаем тем же восторженным криком.
С примесью восторженной злости – ведь один из нас по-прежнему лежит на полу в липкой луже темного цвета. И он никогда не увидит того, что видим мы. И это добавляет в наши голоса еще большую ярость, еще больший восторг от увиденного.
Штурмовик, вероятно, слишком близко стал делать разворот. И один из снарядов, выпущенных зениткой, разорвался совсем рядом с левым мотором, изничтожив винт, раздробив крыло. Самолет тяжело заваливается на побитый бок, из которого вырываются, словно разорванные куски красного полотнища, языки пламени и черная копоть дыма. Летчик, невредимый, откинув раму, вываливается из кабины. Штурмовик уходит по широкой дуге из поля нашего зрения, теряется за лесом. Но это не имеет значения, судьба его предрешена. А вот судьба летчика – сейчас решается уже она. И то, как она решается, вселяет в наши сердца тот самый дикий восторг, который исходит неистовыми криками из множества юношеских глоток.
Второй штурмовик уходит, бессильный помочь товарищу. Белый парашют раскрылся подобно блеклому цветку в хрустальной лазури неба. И вокруг него расцветают такие же блеклые цветки, но с примесью желтых и бежевых тонов. Это наша зенитка продолжает стрельбу по зависшему в небе пилоту.
Один, второй, третий, четвертый. И только седьмой выстрел прекращает затянувшееся действо.
Снова слышится восторженный крик, но злобы в нем больше, много больше. И совсем не слышно облегчения, как во время первого вскрика. Что же, война учит именно первому, учение второму дело самих воинов.
Теперь можно сказать, что это наше дело.
Бежевый цветок расцветает на месте, мгновение назад занимаемом летчиком. Разом превращаясь в черно-красный. Парашют, лишенный тяжести, уподобляется белой тряпке, заваливается и планирует уже сам по себе, без драгоценного груза. Теряется в лазури неба.
И только тогда мы отходим от окошек. Возвращаемся назад – к раненым, вспомнившим о засевших в спинах осколках, к вмятым последним взрывом доскам вагона. К лежащему на полу балагуру. И разом замолкаем, сгрудившись подле него.
Крик сержанта из соседнего вагона заставляет нас снова опуститься на пол.
– Быстрее, сколько вам повторять.
И мы опускаемся. Последнее, что я вижу в оконце – железный мост окружной дороги. Он проходит над нашими головами, означая, что мы покинули город. Свията осталась позади.
Глава четвертая
Молодой человек, на вид, лет двадцати дожидался сестры, подле эскалатора, пытливым взглядом окидывал толпу, запрудившую станцию. Елена приблизилась, обменялась парой фраз, он кивнул в ответ и пошел, привычно взяв ее под руку.
Вид у него был, что называется, затрапезный. Невыразительный болоньевое пальто, серая вязаная шапочка, костюмные брюки, достаточно легкие, мне показалось, что их Павел носит всепогодно, вне зависимости от сезона. И тяжелые ботинки армейского образца с высокой шнуровкой, совершенно не вяжущиеся с остальной одеждой.
Я подождал, пока они поднимутся в город, и только после этого последовал за ними. И всю дорогу наблюдал, как держится Павел за крепкую руку своей сестры, подставляемую со столь давних пор, что этот жест вошел у Елены в привычку. Равно, как и у брата тоже.
Они вошли и расположились в приемной. Никого не было в этот час, точно город парализовал всех жителей в бесконечных пробках. Обычно к моему появлению выстраивается небольшая очередь записанных – люди привыкли приходить заранее на встречу, ведь для многих она решающая. В битве против своего второго «я», с которым до этого несколько месяцев, а порой и лет велась непрестанная скрытая или явная борьба.
Иногда заведомо проигрышная. Заведомо, когда сопротивление захватчику начиналось слишком поздно, тот уже контролировал мысли и поступки, внося разлад в устоявшиеся представления, заставляя пересматривать жизненные позиции – тем пересмотром пугая родных и близких. Иногда настолько, что они, опасаясь столь хорошо знакомого, а ныне ставшего бесконечно далеким человека, готовы были на все, лишь бы отгородиться от него пространствами, с зарешеченными камерами и комнатами с охраной – любя и боясь одновременно. Ибо человек распадался на две составляющие, что ведут нескончаемую битву на их глазах – а подобное трудно вытерпеть, ежедневно, еженощно находясь подле сопротивляющегося из последних сил неумолимому. И меняющего его столь разрушительно быстро, что страх потерять близкого тушуется перед страхом за собственную безопасность.
Для людей, обходящимися приветствиями и пожеланиями здоровья, такой человек не перерождается. И перемены настигают сослуживцев врасплох, постфактум, известием об окончательной победе захватчика. И те, недоумевая, с чего бы это «такой замечательный парень» и «душа компании» вдруг оказывается в желтом доме, часто решают, что сумасшествие своего рода грипп, не передающийся воздушно-капельным путем, но столь же стремительный в своем течении. Просто они не были свидетелями месяцев и лет напрасной борьбы, долгого отступления и неминуемого угасания того, с кем некогда прежде вели задушевные беседы.
Вот только это уже не мой профиль. Я муниципальный психоневролог, а не психиатр, хотя обыватели часто путают эти понятия. Я прихожу на помощь осажденному бастиону, но не в моей компетенции, да и не в моих силах – их требуется куда больше, и чаще всего, не одного врача, – вести долгие переговоры о капитуляции. Чаще всего именно о ней и идет речь с захватчиком. Как известно, шизофрения неизлечима.
Ко мне же приходят за подмогой.