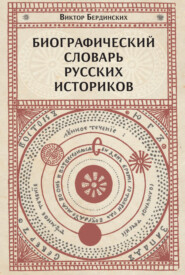скачать книгу бесплатно
В аристократичности мысли крылся секрет обаяния болезненного человека со слабым голосом и худым смуглым лицом. Это был старый русский барин во фраке и светский человек, а не казенный чиновник в мундире. Историографичность – яркая черта в целом научного таланта К. Н. и стиля его исследовательской и лекторской работы.
Убежденный сторонник женского образования, К. Н. отдался всей душой Высшим женским курсам, открытым в 1878 году на его имя и получившими название «Бестужевских». Но перенапряжение (университет, курсы, научные работы, климат города) сломили слабое здоровье профессора. В 1882 году он после тяжелой болезни (сложное воспаление легких) уехал на два года в Италию лечиться. Полностью он так и не поправился. В 1884 году он оставил университет и курсы. Жил К. Н. в тесном кругу своих близких знакомых и учеников, собирал их на «вторники». Рецензировал много книг.
В 1885 году он вновь ездил на лечение в Италию, в 1888 году болел брюшным тифом, в 1890 году перенес инсульт. Научные работы его после 1882 года в основном остановились. В 1890 году К. Н. был избран академиком АН, что явилось для него большим нравственным утешением. Погребен (1897) в Новодевичьем монастыре в Петербурге.
Из 364 учтенных газетных, журнальных заметок, научных статей и трудов К. Н. наибольшее значение имеют диссертация о русских летописях и два тома «Русской истории» (1872, 1885). В первом (наиболее интересном) томе К. Н. дает тщательный критический анализ источников самого разного характера: летописей, «записок», актов, археологических, устных преданий, а также обзор историографии. Автор считал своей задачей дать материал и разные объяснения в руки читателю, который сам сделает выбор и станет историком. Своих оценок он, по сути, не давал. Предисловие к 1-му тому «Русской истории» К. Н. закончил ключевыми словами: «…еще не описаны все библиотеки и все архивы, еще многие вопросы только затронуты. Зная это, мы должны стараться быть как можно более осторожными в своих общих выводах». Взгляд Бестужева-Рюмина на русскую историю как на развитие народного самосознания объективно противоречил теории и трудам С. М. Соловьёва, оживил течение нашей историографии. Его стремление к конкретному в истории, установка на знание источника, пересмотр всех теорий через призму конкретности драгоценны для нас.
БИЧУРИН ИАКИНФ (до монашества – Никита Яковлевич)
(29.08.1777–11.05.1853) – синолог, востоковед.
Родился в селе Акулево Цивильского уезда Казанской губернии в семье дьякона Якова Данилова, предположительно чуваша. Учеба в Казанской духовной семинарии, затем Казанской академии (окончил в 1799), где и получил фамилию. Учитель духовной академии. В 1802 году принял монашество и назначен архимандритом в иркутский Вознесенский монастырь, затем переведен учителем в Тобольскую семинарию.
В 1807 году отправлен начальником духовной миссии в Китай, где жил 14 лет, до 1822 года, и основательно изучил китайский язык. Перевел ряд ценных трудов по истории и географии Китая. Первый настоящий русский ученый-синолог. По возвращении в Петербург предан суду за расстройство миссии и миссионерскую нерадивость. В 1823 году лишен сана архимандрита и сослан пожизненно в Валаамский монастырь. Подготовил важные переводы для Азиатского департамента МИДа. По ходатайству последнего возвращен в столицу с проживанием в Александро-Невской лавре. В 1828–1830 годах опубликовал шесть книг, в том числе «Записки о Монголии», «Описание Тибета в нынешнем его состоянии»… В 1828 году избран членом-корреспондентом ИАН. В 1831 году ездил в Забайкалье, где собрал замечательные монгольские и тибетские книги. Дружил с декабристами, А. С. Пушкиным, другими писателями. В 1831 году подал прошение о снятии духовного сана (признавал себя бессильным соблюдать обеты), отклоненное царем.
В 1834 году получил Демидовскую премию за «Историческое обозрение ойратов или калмыков». В 1835–1837 годах создал в Кяхте училище китайского языка. Широкий и масштабный ученый, вся жизнь которого – «восточный роман». Очень активен в 1830–1840-е годы. В 1849 году пожертвовал свою ценнейшую библиотеку и рукописи Казанской духовной академии. В 1851 году опубликовал свое «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена» (Ч. 1–3), за что получил уже третью Демидовскую премию. История, культура, философия Китая, народов Центральной и Средней Азии – предмет упорных и талантливых исследований о. Иакинфа. Был влюблен в предмет своих исследований, отличался широкими исследовательскими интересами. Труды – собрание ценнейших сведений и фактов, важных и по сей день.
Слабости автора: дилетантизм, малое знакомство с европейской литературой, не всегда точные переводы, скудный комментарий, недостаточно критичное отношение к свидетельствам китайских историков и писателей (идеализация прошлого). Пионер китаистики в России.
БОБРИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(19.05.1852–02.09.1927) – археолог.
Родился в знатной богатой семье, близкой к царской. Граф, потомок Екатерины II, крестник Николая I. Мать из рода Шуваловых. Получил прекрасное домашнее образование под руководством известного педагога В. Я. Стоюнина. В 1870 году поступил на юридический факультет Петербургского университета, но из-за болезни курс не окончил (учился лишь два года). С 1878 года – губернский предводитель петербургского дворянства. С 1886 и до 1918 года – председатель Императорской археологической комиссии.
Замечательный руководитель ведущего археологического учреждения дореволюционной России. Археолог-любитель. Обер-гофмейстер. Сенатор. Председатель «Совета объединенного дворянства» с 1906 года. Монархист и консерватор. Кавалер многих орденов. Основа его состояния – огромное и высокодоходное имение Смела в Киевской губернии. С ранних лет интересовался археологией и раскапывал степные курганы в своем имении. Известна его книга об этих раскопках. Участник археологических съездов. Оппонент П. С. Уваровой (председатель Московского археологического общества).
Благодаря А. А. с 1889 года на Археологическую комиссию возлагается надзор за охраной и реставрацией памятников в империи. Выдача открытых листов стала формой контроля за раскопками. Масштабные раскопки на юге России, увеличение штата комиссии и жалованья его членов – заслуга графа. Активно боролся он и за сохранение памятников старины, их реставрацию. Раскопки в Херсонесе, Ольвии, знаменитого кургана Солоха шли при его участии. В последнем сын А. А. нашел известный сейчас на весь мир золотой гребень со скифами. Раскопал более 500 курганов. Педантичен в зарисовках и дневниках раскопок. В статьях описателен. В борьбе за лидерство в русской археологии с Московским археологическим обществом одержал победу. Известна его книга «Херсонес Таврический», ряд статей. Неутомимый и страстный коллекционер. В 1918 году дворец его и все коллекции национализированы. А. А. выехал в Одессу из Петербурга и в 1919 году прибыл в Константинополь без больших средств. Здесь в 1920 году он заключил второй брак (первая жена – Н. А. Половцева, от нее четыре дочери и сын), через год у него родился сын Николай (графу 69 лет). В 1921 году переехал в Ниццу, долго тяжело болел. Его руководство Археологической комиссией – яркая страница русской археологии.
БОГДАНОВИЧ МОДЕСТ ИВАНОВИЧ
(26.08.1805–25.07.1882) – военный историк.
Из харьковских дворян. Учился в Дворянском полку. С 1823 года служил офицером. В 1836 году окончил Военную академию. С 1838 года адъюнкт-профессор по кафедре военной истории и стратегии, которую занимал почти до смерти. С 1863 года состоял в распоряжении военного министра, реально являлся официальным военным историографом. Генерал-лейтенант с 1863 года. Автор капитальных трудов по истории войн России в XVIII – первой половине XIX века (о походах П. Румянцева, Г. Потёмкина, А. Суворова, Наполеона), а также истории военного управления в России, редактор второго издания «Военно-энциклопедического лексикона» (Т. 1–14. 1852–1858). Обширный документальный материал систематизирован и позволяет сегодня отнестись к книгам М. И. как к источникам. Описательность, официозность, монархизм и апологетика личностей царей, отсутствие серьезного анализа источников – отличительные черты трудов Богдановича и ряда других военных историков России.
БОГОСЛОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(13.03.1867–20.04.1929) – историк.
Родился в Москве в семье чиновника – выходца из духовенства. Семья была очень религиозна и патриархальна. В 1886 году с золотой медалью окончил гимназию. Ранний интерес к истории. Спокойный, доброжелательный юноша; в 1886–1890 годах – студент-историк Московского университета. Школой научной работы для него стали семинары П. Г. Виноградова. Его дипломная работа по писцовым книгам XV–XVII веков очень понравилась В. О. Ключевскому и получила золотую медаль. Оставлен для приготовления к профессорскому званию. Долго колебался в выборе исследовательской темы. Служил управляющим домами (вместо отца). Упорно и трудолюбиво занимался в Московском архиве Министерства юстиции (МАМЮ). С 1898 года – приват-доцент Московского университета. Работа над диссертацией заняла четыре года. В 1902 году защитил ее по теме «Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–1727 гг.».
Книга содержательная и талантливая, написана по архивным источникам. Она посвящена проблеме соотношения замыслов и реальному функционированию новых административных и финансовых институтов. С точки зрения историка, русское общество проявило полнейшее равнодушие к местному самоуправлению. Дворянству оно не давало дополнительных привилегий, а простому люду не сулило никаких улучшений в социальном положении. Оппоненты – М. К. Любавский и А. А. Кизеветтер. Еще более широка и интересна его докторская диссертация «Земское самоуправление на русском севере в XVII в.» (Т. 1–2. М., 1909–1912), защищенная с теми же оппонентами. Первый том (собственно докторская) посвящен анатомии земских учреждений на основе писцовых книг и дел Новгородской и Устюжской четвертей. Автор показал двойственный характер собственности на черные земли (государства и крестьян), нарисовал облик поморской деревни, отношения государства и земства. Исследовательский талант М. М. очевиден. «Из огромной глыбы архивных документов он сумел изваять стройное скульптурное изображение северного русского поморья…» – писал Г. Вернадский.
В 1907 году историк женился, через год у него родился сын Михаил. Ведет много занятий: понедельник и вторник – лекция и семинар в духовной академии (Сергиев Посад), среда – Высшие женские курсы, четверг и суббота – Московский университет. С 1910 года – профессор, с 1911 года – преемник В. Ключевского на кафедре в университете. Желал сберечь традиции последнего в университете. Человек консервативный, он считал противление власти ненужным. А. А. Кизеветтер так нарисовал облик М. М.: «Богословский говорил басом, имел вид степенного и положительного человека, ступал твердо, его телодвижения были медленны, но вески. На первый взгляд его можно было принять за человека тяжелого во всех отношениях. Но достаточно было сойтись с ним поближе… как вы с удовольствием находили в нем человека изящного и острого ума, ярко выраженной талантливости. К либеральным идеям он относился с немалым скептицизмом и был упорен в отстаивании своих мнений». 1910-е годы – расцвет научной и педагогической деятельности ученого. Он много пишет об эпохе Петра I, чья биография стала делом жизни историка. М. М. считал себя продолжателем М. П. Погодина, желавшего описать жизнь Петра I день за днем. Работа над «Петридой» (так называл он свой труд) его очень увлекала. Он с головой погружался в Петровскую эпоху. «До пяти часов за работой над страницами о Кожуховском походе. Радостное чувство, что можно заняться своим делом. <…> Утром я опять осаждал Азов, следил за осадой день за днем и как бы переживал ее», – писал он в дневнике. После Октябрьской революции вынужден был пойти на сотрудничество с новой властью. Служение науке для него – служение Отечеству. Профессор Московского университета до 1924 года. С 1920 года – член-корреспондент, а с 1921 года – академик РАН.
По-прежнему изо дня в день он добросовестно работает над «Петридой», собирая, анализируя, хронологически располагая события из жизни Петра I. Надежды на издание труда тогда было мало. Основным местом его работы стал Исторический музей. Человек обязательный, ответственный, не любивший многословия и суеты, он был полезен и в Музее, и в Институте истории РАНИОН. Интересовался краеведением. Жизнь его, как и всех ученых старой школы, в 1920-е годы была нелегка. Но смысл жизни он видел в научной работе. Интересен и остр цикл его историографических очерков. Скончался ученый на 63-м году жизни после тяжелой болезни сердца.
Возможно, за тему Петра I он взялся, предчувствуя еще до революции гибель петровской империи. Труд его построен очень своеобразно. Личность Петра стоит в центре, но вокруг нее рисуется облик всех, с кем царь вступал в контакт. Читая книгу, проживаешь жизнь Петра. Пять томов биографии, глубоко научной и фактически достоверной, доведены до 1700 года. Последняя строчка написана автором 6 апреля 1929 года. Через две недели историк умер. Политически отношение к Петру I изменилось в 1940-е годы (идеализация Сталиным Петра и Ивана Грозного). Тогда и был издан (с купюрами) замечательный пятитомник Богословского (М., 1940–1948).
БОЛОТОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(07.10.1738-04.10.1833) – выдающийся русский просветитель и ученый.
Родился в семье полковника, командира полка. Превосходно знал немецкий язык. Участник Семилетней войны. Самообразование – главная школа его жизни. Он прожил очень длинную жизнь и очень достойно. Значительную часть своей жизни зафиксировал письменно в своих черновых дневниках и обработанной автобиографии «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». История русской частной жизни XVIII – начала XIX века дана на примере всех событий его жизни Андреем Тимофеевичем настолько глубоко, детально, скрупулезно, ярко и таким хорошим слогом, что и по сей день мемуары Болотова – одни из самых интересных русских мемуаров XVIII–XX веков. Впрочем, в значительной мере это вовсе не мемуары, а сознательно написанная на основании черновых дневниковых записей многотомная история жизни одного человека.
Историзуя собственную жизнь и все ее события, Болотов создавал замечательную эпопею (историко-назидательного характера в духе эпохи своей молодости) и стал первым историком и певцом приватной (частной) жизни человека. Впрочем, этим значение его личности не ограничивается. Оригинальный просветитель и садовод, интересный естествоиспытатель, трудолюбивейший автор примерно 350 томиков сочинений обычного формата (в значительной части оставшихся в рукописях) по экономическим, нравственным, историко-политическим и прочим темам.
Большой удачей для Андрея Болотова стало определение на службу в занятый русскими войсками Кёнигсберг (1758). Любовь его к наукам и страсть к книгам здесь расцвели. Слушал лекции в университете. Универсальный любитель наук, он легко и быстро учился практическим прикладным вещам: физике, оптике, геометрии, географии, агрономии… В нем жила петровская страсть к рукоделию, изобретательству, хитроумным выдумкам и творчеству.
Стремление принадлежать самому себе и делать свою жизнь по собственному усмотрению принуждают его накануне переворота 1762 года (за шесть дней) получить отставку на основании нового указа о вольностях дворянства. В сатирической повести В. Шкловского начала 1930-х годов Болотов выведен в виде труса и «премудрого пескаря». Это вовсе не справедливо. Осознанное стремление не служить государству, в армии, обществу по дворянским выборам, крестьянству как жертве помещиков – все это ничуть не умаляет Болотова. Став свободным русским человеком, он всю жизнь положил на то, чтобы жить в гармонии с самим собой, и этим сделал для России невероятно много. Культ частной жизни независимого человека продвинул русскую культуру далеко вперед.
Наследниками архива просветителя стали его внуки. Андрей Тимофеевич Болотов – отец помологии (яблоневедения) в России. Но самый замечательный агроном и садовод страны известен потомству не этим. Слава его в конце XIX–XX веке зиждется на его многолетних автобиографических записках «Жизнь и приключения Андрея Болотова», которые он писал с 1789 по 1816 год (27 лет!), обрабатывая черновые дневники. 29 рукописных томиков его «Записок» – драгоценнейшее наследие исторической жизни Андрея Болотова. Они ярко изображают быт русского общества XVIII века в его мельчайших деталях и нюансах. Это – воистину хрестоматия и энциклопедия русской жизни. К счастью, у Болотова не было таланта стихотворца или беллетриста. Поэтому он скрупулезно воссоздает максимально точно дела, факты, поступки, чувства своей жизни. Ничего подобного этой историзации частной жизни Россия не знала ни до, ни после. Врожденный талант историка быта дополняется неутомимым письменным трудом. Живой, гибкий и сочный язык «Записок» Болотова ничем не хуже языка «Истории» Карамзина, а в чем-то и лучше его. Это разговорный (диалогичный) стиль речи во всех своих особенностях – тип современной русской речи, вот почему будущее этих трудов Андрея Болотова столь лучезарно. Ни профессионалы, ни любители-историки XVIII–XX веков не владели так искусством живого письма, как этот любитель наук. Это – история России глазами провинциала. Структурная основа текста записок – форма «письма к другу» определенного объема, объединенного единством места, времени и действия.
Огромное наследие А. Т. Болотова дошло до нас не полностью. Его внук, Н. Киселёв, продал часть архива деда в разные руки. Часть записок Болотова пострадала от его невестки. Она вырезала из рукописных томиков листы с критикой в свой адрес.
Шире всего «Записки» Болотова напечатаны в 1870 году, в первый год издания «Русской старины», в виде четырехтомного приложения к ней. Они охватывают период с 1738 по 1795 год. Между тем значительная часть «Записок» не издана по сей день. Драгоценны для исторической науки его «Дневные записки» и «Домашний исторический журнал», «Отечественник, содержащий в себе современные записки и замечания о происшествиях в России…» (1814–1826) (не издавались), «Памятник протекших времен, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах» и ряд других сочинений.
БОЛТИН ИВАН НИКИТИЧ
(01.01.1735-06.101792) историк и генерал-майор.
Родился в богатой дворянской семье. Мать его, несмотря на три своих брака, все же закрепила за сыном основную часть состояния отца – 900 душ крестьян. Умный, практичный, осмотрительный и хозяйственный, он сохранил и приумножал свое состояние в течение жизни.
Служба с 16 лет в лейб-гвардии конном полку требовала больших расходов, но предоставляла близость ко двору и хорошие связи. Именно в полку Болтин подружился с Григорием Потёмкиным (служили вместе в 1761–1765 годах), впоследствии своим сильным покровителем.
В 1769 году он стал директором пограничной таможни в Василькове. Служба его здесь была вполне успешна, но лишь через десять лет только по просьбе Г. Потёмкина он получил повышение (1779) и был назначен в главную таможенную канцелярию в Петербург, а по закрытии оной назначен прокурором Военной коллегии (1781), где и служил до своей смерти членом коллегии в чине (с 1786) генерал-майора.
Добросовестный, тщательный, скрупулезный, Иван Никитич родился с такими чертами характера. Образ Стародума писан с него. Но это – черты настоящего историка, который и проявился в нем, пускай на склоне дней. После приезда из Крыма Болтин активно принялся за научные труды. Привычка с юности, читая книги, делать выписки очень пригодилась историку. С 1783 года он становится членом Академии наук и принимает участие в некоторых ее работах, например участвует в составлении академического словаря. Эпоха любила словари, лексиконы и энциклопедии.
Труды и познания Болтина в академии вознаграждены золотой медалью 1786 года (по предложению Е. Дашковой). Тогда же, вероятно, он сошелся с графом А. И. Мусиным-Пушкиным. Можно предположить, что в конце 1770-х – начале 1880-х годов Болтин активно занимался составлением терминологического и историко-географического словаря для древнего периода русской истории. Он тщательно штудирует «Историю» Татищева, ставшего для него главным наставником в исторической науке. Болтинский «Словарь географический всем городам, рекам и урочищам, кои вспоминаются в летописи Несторовой» вводит нас в подготовительный этап работы Болтина. Словарь составлен исключительно по Татищеву и представляет собой нечто среднее между конспектом и указателем к татищевской «Истории» с точными ссылками на источник. Болтин не просто тщательно изучает труд В. Н. Татищева, он его детально усваивает.
Очевидно, в 1784–1786 годах И. Н. Болтин и написал свой капитальный двухтомный труд «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным». Задетый за живое в своем патриотизме, возмущенный множеством нелепиц и ошибок «наглого и лживого ея сочинителя», Иван Болтин принялся «по мере чтения» делать письменные замечания на «Историю» Леклерка. Он и не думал предпринимать специальных штудий, он просто мобилизовал накопленный запас сведений и знаний. Случай открыл возможность сформировавшемуся историку явить свету свои дарования и таланты. Он не просто опроверг ошибки и грубые искажения фактов Леклерком (критическая часть), но решил задачу положительную: попутно создал цельную систему взглядов на русскую историю, что сразу поставило его на первое место среди современных историков с заслуженной репутацией умнейшего и талантливейшего русского историка XVIII века. Через два года после написания два толстых тома – при содействии Г. А. Потёмкина и на собственные средства Екатерины II – были изданы. В «Примечаниях» Болтина императрица хотела дать публике своеобразный «антидот» против сочинения француза.
Порой на несколько строк текста Леклерка Болтин пишет несколько страниц примечаний. Конечно, труд Болтина от начала до конца проникнут полемическими приемами, которые, собственно, и придают ему живость изложения и легкость слога. Вспомним, что этот двухтомник Болтина был излюбленным чтением Василия Ключевского. У Болтина было не менее сильное, чем у Татищева, врожденное чувство исторического процесса, неразрывной связи настоящего с прошлым, невозможности осмыслить одно без другого.
Обращение к этнографии, географии, социальной истории России, постоянные переходы в своих этюдах и экскурсах от современности в прошлое, использование живой исторической традиции (изустных слухов и рассказов стариков, а не только сугубо научных работ) – все это сделало труд Болтина оригинальным, интересным и общественно значимым. Он имел успех, и его читали. «Не писавши истории, – подметил П. Н. Милюков, – Болтин сразу стал первым русским историком и занял место никогда никому не принадлежавшее, – не то что философа русской истории, но, во всяком случае, – человека, впервые думавшего над русской историей и впервые понявшего ее как живой и цельный органический процесс».
Идейный философский противник Леклерка (а за ним и Щербатова) с их теорией господства нравов и разума в обществе, Болтин считал основой исторического развития действие исторических законов, единых для всех народов. Пороки нашего народа «не больше как и другие народы». «Правила природы повсюду суть единообразны».
Менталитет XVIII века оказался зафиксирован им очень ярко, сочно и образно, что сегодня только повысило ценность трудов Болтина. Найденная им живая связь прошлого и настоящего вскоре была вновь утрачена. Критикуя Леклерка, Иван Никитич бил и по Щербатову, философскому единомышленнику француза и источнику некоторой части его фактажа.
Ни Щербатов, ни Болтин не увидели уже появления в свет нового двухтомного труда последнего «Критические примечания генерал-майора Болтина на первый и второй том Истории князя Щербатова», изданных в 1793 и 1794 годах усилиями А. И. Мусина-Пушкина, через которого они еще в рукописи попали и к Екатерине II. Последняя высоко ценила труды генерала, а его словари служили для нее настольными книгами.
И. Н. Болтин умер в Петербурге 6 октября 1792 года, по одним сведениям, от каменной болезни, а по данным метрических книг, – от чахотки, в возрасте 57 лет (как и Щербатов) и похоронен в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище.
Блестящее знание жизни и России Болтина не может не восхищать нас сегодня. Строгостью и самостоятельностью мысли, русским взглядом на предметы своего изучения он на голову превосходил современников – М. Щербатова, А. Радищева, Н. Новикова… Но невозможно не видеть при этом, что от Болтина нельзя вести никакой исторической школы, никакого научного направления. Критика им Щербатова разрушала «Историю» последнего, но не вела исследования дальше. Она возвращала нас на рубежи В. Н. Татищева. Его деятельность не создала переворот в науке. Самые замечательные черты научного подхода Ивана Никитича: глубокое понимание русской реальности, живая связь общества и исторической традиции, внесение опыта масштабной государственной деятельности в изучение прошлого – все эти замечательные черты ряда русских историков XVIII века (начиная с В. Н. Татищева) напрочь исчезли в XIX веке из оборота в нашей историографии. Блестящий и показательный тупик Болтина в науке – это, в конечном счете, тупик всего хода русской жизни XVIII века. Но и сейчас симпатия к живым страницам томов Болтина современного историка-читателя намного сильнее, чем к покрывшимся пылью трудам множества наших историков XIX–XX веков.
БУЗЕСКУЛ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
(24.02.1858–01.06.1931) – историк-античник.
Окончил Харьковский университет. С 1885 года – приват-доцент, с 1890 года – профессор этого университета. Один из лучших античников России. Магистерская диссертация «Перикл» дает детальный пересмотр источников и литературы по теме (1889). Докторская – «Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в.» (1895). Это первый всесторонний анализ вновь открытого труда Аристотеля. Работа «Введение в историю Греции» (1903, 1915) содержит критический обзор основных источников и историографии по истории Древней Греции. Полезна она и сейчас. Ученый тонко понимал источники и глубоко знал литературу предмета. Историографический труд Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и в начале ХХ века» (Ч. 1–2. 1929–1931) – единственный в своем роде. В. П. дает обстоятельный, но несколько эклектичный обзор значительной части всеобщих историков России со своими живыми оценками их трудов и личностей. Такое цельное восприятие мира русских историков (кроме исследователей России) совершенно замечательно. Острота исторической критики и литературное дарование автора очевидны. Если первая часть труда вышла в авторской редакции, то вторая – со значительными цензурными купюрами; третья при жизни ученого не вышла вообще (опубликована только в 2008 г.). С 1922 года – академик РАН. Умер после тяжелой болезни.
БУСЛАЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
(13.04.1818–31.06.1897) – языковед, историк литературы.
Родился в г. Керенске Пензенской губернии в семье судебного чиновника. Рано потерял отца, учился в Пензенской гимназии (одно время его учитель – В. Г. Белинский), на словесном отделении философского факультета Московского университета (1834–1838). Учитель гимназии, воспитатель детей графа С. Г. Строганова (два года в Италии). В 1846 году защитил магистерскую диссертацию «О влиянии христианства на славянский язык», а в 1861 году – докторскую (обе в Московском университете). Преподавал русскую литературу наследнику престола. С 1846 года 35 лет преподавал в Московском университете. С 1852 года – член-корреспондент ИАН, а с 1860 года – ординарный академик по отделению русского языка и словесности с проживанием в Москве.
Кроме исследований истории русского языка, много работ посвятил древнерусскому искусству и древнерусской письменности. В заграничных командировках (1864, 1870, 1874, 1880) занимался изучением иконографии и орнаментики византийского, романского и готического стилей. В последние годы жизни потерял зрение, а затем заболел раком. Умер на своей подмосковной даче в селе Люблино, погребен у Новодевичьего монастыря.
Научные работы Буслаева впервые ознакомили русское общество с новым историческим методом Я. Гримм. Уже в магистерской диссертации ученый исследовал влияние христианства на древних славян, их семейный и общественный быт в период язычества. С помощью сравнительного и исторического методов (влияние «мифологической» немецкой школы) Ф. И. изучал народный эпос («Исторические очерки русской народной словесности и искусства». М., 1861). Любопытна для историков и его книга по истории искусства «Мои досуги» (М., 1861), где «с поразительным знанием и любовью к делу повторена попытка Гримма (в его “Мифологии”): путем исторического изучения языка восстановлены мифические представления славян, давно исчезнувшие из народного сознания…».
Но общий взгляд Буслаева на народное творчество не как плод суеверий и невежества, а отражение глубокого и нравственно-исторического строя мысли не устарел и сейчас. Без всякой идеализации прошлого он предлагал ученым не снисходить до народной поэзии, а подниматься до нее.
Оригинальна «Историческая грамматика русского языка» Ф. И. (1858). Интересны его работы по истории искусства: «Общие понятия о русской иконописи» (1886) и «Русский Лицевой Апокалипсис» (1884), а также его «Воспоминания» (Вестник Европы. 1890–1892). Целостное отношение к прошлому как духовной сокровищнице нашего народа – явление редкое среди ученых. Около 200 научных работ языковеда и историка русского языка глубоко самостоятельны. Буслаев был идеальным представителем чистой науки. Для него наука и преподавание были единственным достойным в жизни делом. Он желал быть только ученым и профессором и никем другим. Никакой публицистики и беллетристики. Сам себя он считал энциклопедистом. Он не западник и не славянофил. Язык для него стал историческим источником, а слово – отражением менталитета нашего народа, плодом народного творчества.
БЫЧКОВ АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ
(15.12.1818–02.04.1899) – археограф и историк.
Родился в г. Фридрихсгаме (Финляндия), где служил офицером его отец (из ярославских дворян). Матери лишился в семь лет. С 1832 года жил у деда. Ярославская гимназия, Московский университет (до 1840). М. П. Погодин желал видеть его своим преемником. Затем сразу – служба в Археографической комиссии, где он с 1854 года – главный редактор по изданию летописей. С 1844 года – хранитель отдела рукописей и старопечатных церковнославянских книг в Публичной библиотеке (СПб.), которой он посвятил более полувека своих трудов. Преемник А. Х. Востокова, Бычков сделал для главной библиотеки страны (сейчас РНБ) чрезвычайно много: разбор и описание рукописей, составление каталогов, пополнение «Россики» недостающими книгами, розыск и покупка редких книг и рукописей – все это входило в деятельность Бычкова 1840–1850-х годов. Стоит сказать о приеме в 1852 году в библиотеку Древлехранилища М. П. Погодина (более 2 тысяч названий) и библиотеки Эрмитажа. В ежегодных отчетах библиотеки А. Ф. помещал описания новых приобретений рукописей, каталоги редких книг, а затем описания собраний рукописей Н. М. Карамзина, Ф. И. Прянишникова и многих других.
Очень тщательно и скрупулезно трудился Бычков как главный редактор Полного собрания русских летописей (ПСРЛ). Под его редакцией вышли 7–10-й и 15–16-й тома, Лаврентьевская летопись. А. Ф. издал также «Дворцовые разряды» в 4 томах (1850–1855), Юрналы и походные журналы Петра Великого с 1695 по 1725 годы, Камер-фурьерские журналы за 1726–1772 годы (1853–1857), «Письма и бумаги Петра Великого» в 4 томах (из русских и иностранных архивов) (1887–1900) и множество других материалов по русской истории, а также несколько работ о русских писателях XIX века. Замечательны и работы А. Ф. по книговедению (например, каталог по изданиям гражданской печати эпохи Петра I).
В эпоху расцвета научных обществ он был деятельным членом Русского археологического общества и Русского исторического общества в Петербурге. Член всевозможных комиссий, комитетов, обществ, университетов… Но если главные труды его были отданы Публичной библиотеке, директором коей он состоял в 1882–1899 годах, то важнейшим хобби, любимым научным занятием Бычкова стала с 1872 года десятилетняя работа по собиранию писем и бумаг Петра Великого. Не только главные архивы России (Государственный, Сената, Военного министерства, Главного штаба) были лично им обследованы на этот счет, но и архивы Берлина, Вены и Дрездена.
С 1855 года – член-корреспондент, а с 1869 года – ординарный академик ИАН (в 1859 году не прошел баллотировку в Общем собрании АН). В. О. Ключевский считал важнейшей научной заслугой Бычкова «описание и критическую обработку источников». Действительный тайный советник с 1887 года, кавалер многих орденов империи (даже ордена Св. Владимира I степени).
В списке научных работ и изданий А. Ф. Бычкова – более 210 названий. Интерес к нумизматике, лексикографии, истории русской литературы также отразился в его деятельности.
ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
(20. 02. 1818–27.04. 1900) – известный русский синолог, академик с 1886 года.
Родился в Нижнем Новгороде в семье мелкого чиновника. Грамоте учился у своего дяди – дьячка. Окончил уездное училище и гимназию (1832). Отец умер. До 16 лет, когда можно стало поступать в университет, давал частные уроки (имел заработок до 800 рублей в год). В 1834–1837 годах – студент Казанского университета (историко-филологический факультет по разряду восточных языков).
Успехи Васильева в татарском и монгольском языках обратили внимание попечителя округа М. Н. Мусина-Пушкина, который рекомендовал выпускника в Пекинскую духовную миссию. В 1839 году Васильев защитил магистерскую диссертацию о буддийской философии. Будучи зачислен в Пекинскую духовную миссию, 5 января 1840 года выехал из Казани. В Пекине прожил безвыездно десять лет, всесторонне исследуя Китай в его прошлом и настоящем. Упорно изучал он восточные языки: санскрит, маньчжурский, монгольский, тибетский и китайский.
Позднее в старости Васильев писал в автобиографии: «Отец мой был строг, учителя – жестоки; начальник миссии – притеснитель… Думаете, я хочу предать их осуждению? Время надобно осуждать… <…> И вся беда в том, что я был ориенталист. Мог ли я что-нибудь придумать для руководства западников? У них такие светлые головы, что и лбы медные! Да, я каюсь, мои мысли, мои взгляды родились в Китае. <…> Я видел пред собой страну богатую, с многочисленным трудолюбивым населением, а между тем погруженную в классическую дребедень… Меня спасла любовь к России».