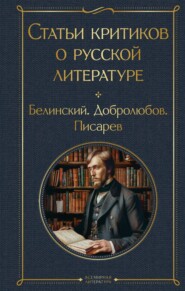скачать книгу бесплатно
Меня, мой друг, не позабудь.
Чувство, составляющее пафос этого стихотворения, лишено простоты и естественности, а следовательно, и истины; оно может быть напущено на человека мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямством фантазии; но и напущенное чувство, по странному противоречию человеческой природы, так же может быть источником блаженства и страдания, как и чувство истинное. Под этим условием мы охотно допускаем, что приведенное нами стихотворение, несмотря на его сентиментальность и отсутствие всякой страстности, есть голос души, язык сердца, красноречие чувства; но оно – не поэзия. Его форма более красноречива, чем поэтична; в его выражении, болезненно-грустном и расплывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и нежности художественной отделки. А между тем это одно из лучших произведений старой школы русской поэзии и в свое время производило фурор. Теперь сравните его с пьесою Пушкина, в которой выражена та же мысль разлуки с любимым предметом:
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко там луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами…
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами.
Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… Никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна… ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Никто ее любви небесной недостоин.
Не правда ль, ты одна… ты плачешь… я спокоен;
……………………………………………
Но если………………………………
Здесь не то: в пафосе стихотворения столько жизни, страсти, истины! Луна, восходящая над сосновою рощею, напоминает поэту другую луну, которая, в это томительное для его души время, восходит далеко, там, где природа так роскошно-прекрасна, – и поэт предается невольно мечте о ней, которая в эту пору одна идет к берегу моря и садится под его скалами… Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляет его успокоивать себя мыслию, что она – одна и что ему должно быть спокойным… И сколько жизни, какой энергический порыв страсти высказывается в слове: «Но если», – отрывисто заключающем пьесу!.. Все это так просто, так естественно, во всем этом столько глубокой страсти, столько истины чувства… А форма? – Какая легкость, какая прозрачность! На каждом стихе, даже отдельно взятом, так и виден след художнического резца, оживлявшего мрамор! – Какая бесконечная разница!..
Чтобы еще более показать эту разницу (а это мы считаем особенно важным и необходимым по смыслу статьи нашей), сделаем еще сравнение. Вот два куплета из лучших в большой и прекрасной пьесе Жуковского, принадлежащей уже к позднейшему времени его поэтической деятельности:
О наша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты,
И где навек минувшее одно…
Почто ж мы здесь мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено?
Внимая глас надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов беды грядущей.
……………………………………………
Здесь радости – не наше обладанье;
Пролетные пленители земли,
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали;
Земли жилец безвыходный страданье;
Ему на часть судьбы нас обрекли;
Блаженство нам по слуху лишь знакомец;
Земная жизнь – страдания питомец.
Это уж не «напущенное» чувство; нет, это вопль страшно потрясенной души, это голос растерзанного, истекающего кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки более красноречие, чем поэзия. Стих тянется как-то тяжело и однообразно, во всей форме этого стихотворения есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, в нем слишком заметно преобладание метафоры. Разумеется, мы говорим сравнительно, а не безусловно. Кто не знает пьесы Пушкина «19 октября»?[17 - «Роняет лес багряный свой убор…» (1825).] После обращений к каждому из отсутствующих друзей своих поэт говорит:
Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы! наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Какая глубокая и вместе с тем светлая скорбь! Каждая мысль сама по себе так исполнена поэзии, независимо от формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всяких метафор! Этот переживший всех друзей своих друг, докучный, лишний и чужой гость среди новых поколений, дрожащею рукою закрывающий глаза при воспоминании о своих друзьях, – это не просто поэтические стихи, это – поэтическая картина! Но не в духе Пушкина остановиться на скорбном чувстве: словно торжественным музыкальным аккордом оканчивается пьеса этими полными бодрого чувства стихами:
Пускай же он с оградой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.
Пушкин не дает судьбе победы над собою; он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на «здесь» указывал ему, как на источник и горя, и утешения, и заставлял его искать целения в той же существенности, где постигла его болезнь. И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в промысл и оправдания путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма.
Нам скажут, может быть, что мы сравнили между собою только по несколько куплетов, вырванных из больших пьес, а не целые пьесы. Выписка вполне таких огромных пьес была бы неуместна в журнальной статье; притом же пьесы эти должны быть слишком известны каждому образованному читателю. Кто хочет, пусть сам сравнит их в целом: он тогда увидит еще яснее, что и в целом огромное преимущество на стороне пьесы Пушкина, потому что, несмотря на ее значительную величину, она везде ровна, везде выдержана и как будто в одну минуту, легко и свободно, излилась из взволнованной души поэта, – между тем как поэма Жуковского очень неровна, потому что не чужда мест растянутых, холодных и вялых, почему ее трудно прочесть зараз. Первая пьеса – это ария, пропетая певцом, который вполне владеет своим голосом, не дает пропасть ни одной нотке, не ослабеет ни на мгновение от начала до конца арии… Вторая пьеса – это ария, пропетая местами превосходно, а местами холодно и даже фальшиво… Мы нарочно остановились на этом обстоятельстве, потому что особенная принадлежность поэзии Пушкина и одно из главнейших преимуществ его перед поэтами прежних школ – полнота, оконченность, выдержанность и стройность созданий. Поэзия чувства, поэзия естественная, не отличается этим качеством: в ней всегда видно усилие высказать чувство, и оттого стройность и соразмерность исчезают в плодовитости. В поэзии художественной соразмерность, стройность, полнота и ровность бывают уже естественным следствием творческой концепции, художественной мысли, лежащей в основании поэтического произведения. У Пушкина никогда не бывает ничего лишнего, ничего недостающего, но все в меру, все на своем месте, конец гармонирует с началом, – и, прочитав его пьесу, чувствуешь, что от нее нечего убавить и к ней нечего прибавить. И в этом, как и во всем другом, Пушкин является по преимуществу художником. Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равно исполнены поэзии. Его «Онегин», например, есть поэма современной действительной жизни не только со всею ее поэзиею, но и со всею ее прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тут и благодатная весна, и жаркое лето, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тут и столица, и деревня, и жизнь столичного денди[18 - Денди – светский щеголь, франт.], и жизнь мирных помещиков, ведущих между собою незанимательный разговор
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне;
тут и мечтательный поэт Ленский и тривиальный забияка и сплетник Зарецкий; то перед вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирного слуги, отворяющего, с метлою в руке, дверь кофейной, – и все они, каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзии. Пушкину не нужно было ездить в Италию за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него под рукою здесь, на Руси, на ее плоских и однообразных степях, под ее вечно серым небом, в ее печальных деревнях и ее богатых и бедных городах. Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия. Осень для него лучше весны или лета, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться с ним, по крайней мере на то время, пока не увидите его же картины весны или лета:
Дни поздней осени бранят обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной.
В ней много доброго, любовник не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зова,
Играет; на лице еще багровый цвет —
Она жива еще сегодня – завтра нет.
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса;
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой багристою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Русская зима лучше русского лета – этой карикатуры южных зим, она похожа на самое себя, тогда как наше лето столько же похоже на лето, сколько декорационные деревья в театре похожи на настоящие деревья в лесу. Пушкин первый понял это и первый выразил. Его зима облита блеском роскошной поэзии:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный, —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена, веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь, не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня,
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом… Национальный поэт – великое дело! Обращаясь к Пушкину, мы скажем по поводу вопроса о его национальности, что он не мог не отразить в себе географически и физиологически народной жизни, ибо был не только русский, но притом русский, наделенный от природы гениальными силами; однако ж в том, что называют народностью или национальностью его поэзии, мы больше видим его необыкновенно великий художнический такт. Он в высшей степени обладал этим тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Русалка»: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму «Каменный гость»: она и по природе страны, и по нравам своих героев так и дышит воздухом Испании; прочтите его «Египетские ночи»: вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира… Таких примеров удивительной способности Пушкина быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни мы могли бы привести много, но довольно и этих трех. И что же это доказывает, если не его художническую многосторонность? Если он с такою истиною рисовал природу и нравы даже никогда не виданных им стран, как же бы его изображения предметов русских не отличались верностию природы? Чтоб исследовать основательнее этот вопрос, мы считаем нужным сделать довольно большую выписку из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине»:
При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла…
Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.
…Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи в беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух, потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? – по крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне не тронуты.
Все это очень справедливо, особенно определение национального поэта: «Поэт даже может быть и тогда национальным, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». И, если хотите, с этой точки зрения Пушкин более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников; но дело в том, что нельзя определить, в чем же состоит эта национальность. В том, что Пушкин чувствовал и писал так, что его соотечественникам казалось, будто это чувствуют и говорят они сами? Прекрасно! Да как же чувствуют и говорят они? чем отличается их способ чувствовать и говорить от способа других наций?.. Вот вопросы, на которые не может дать ответа настоящее, ибо Россия по преимуществу – страна будущего…
Обращаясь снова к нашей мысли о художественности как преобладающем пафосе поэзии Пушкина, заметим еще его удивительную способность делать поэтическими самые прозаические предметы. Что, например, может быть прозаичнее выезда в санях модного франта в сюртуке с бобровым воротником? Но у Пушкина это – поэтическая картина:
Уж темно; в санки он садится.
«Пади, пади!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
Или что может быть прозаичнее такой мысли, что-де в городе не было мостовой и все тонули в грязи, но что уже в нем начали делать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль в стих! Но Пушкин этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина в прекрасных поэтических стихах:
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.
Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Для Пушкина также не было так называемой низкой природы; поэтому он не затруднялся никаким сравнением, никаким предметом, брал первый попавшийся ему под руку, и все у него являлось поэтическим, а потому прекрасным и благородным…
…Как прекрасна у него вот эта «низкая природа»:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью лип густых.
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака;
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой…