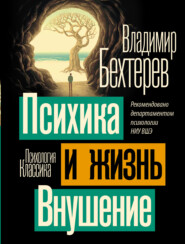скачать книгу бесплатно
Всеми этими и подобными им примерами авторы желают подчеркнуть то обстоятельство, что мы не можем одновременно воспринимать и физическое, и психическое как одно целое, а можем воспринимать его лишь поочередно с двух сторон – внутренней и внешней, а это и служит причиной того, что одно и то же явление нам кажется состоящим как бы из двух процессов, из которых каждый воспринимается нами порознь.
Однако и в таком виде монистический параллелизм далеко не всеми разделяется, так как в нем дело идет скорее о более или менее удачных сравнениях, нежели о настоящем объяснении. В самом деле, если мы говорим, что два по существу различных процесса представляют собой две стороны одного и того же процесса, то это, в сущности, есть не что иное, как уподобление, а не отождествление.
Мы приведем здесь по этому поводу слова Цигена, которые вместе с тем выражают и наши мысли: «Какой научный смысл мы можем здесь связывать со словами «внутрь», «наружу», когда дело идет совсем не о пространственных отношениях? Кто тот, с чьей точки зрения действительное является то психическим, то материальным? Нам необходимо придумать себе еще третье существо или же приписать физическим чашкам замечательную способность представляться друг другу, существовать друг для друга, чтобы быть в состоянии провести эту гипотезу тождества. Но этот выход кажется мне бесконечно более сомнительным, чем, например, любая окказионалистическая гипотеза»[14 - Ziehen T. H. Отношение мозга к душевной деятельности. СПб., 1902.].
Ввиду очевидной несостоятельности вышеуказанного объяснения некоторые из видных представителей параллелизма, как, например, Авенариус, ничуть не допускают сближения или тождества между физическим и психическим миром. В мире физическом мы встречаемся только с материальными явлениями, причем все материальное происходит исключительно из материального же, тогда как все психическое возникает только из психического, а не из материального; таким образом, как между физическими явлениями существуют причинные отношения, так и между явлениями психическими существуют причинные отношения. Не существует лишь причинных соотношений между явлениями физическими и психическими.
Таким образом, несмотря на параллельное течение явлений в мире физическом и психическом, оба мира представляются совершенно обособленными друг от друга, отдельными мирами, и, несмотря на то, между обоими рядами явлений существует полное соответствие, как бы по предустановленной гармонии Лейбница или по какому-то необъяснимому для нас действию высшего начала, явления физические в каждом отдельном случае приходят в согласие с психическими, как учили окказионалисты.
Очевидно, что гипотеза параллелизма, не внося, в сущности, ничего нового в объяснение взаимности между физическим и психическим миром, устанавливает только как факт то постоянное соотношение между физическим и психическим, которое предполагалось уже давно и которое в учении параллелизма получило только определенную научную формулу.
Между тем гипотеза параллелизма, допуская постоянное соотношение в наших центрах психических, или внутренних, явлений с материальными, или внешними, в сущности сама по себе не только не исключает того противоположения между духовным, или психическим, и материальным, которое установилось в философии и психологии со времен Декарта, но скорее его поддерживает и вместе с тем поддерживает и учение Лейбница о представленной гармонии, если иметь в виду, что вряд ли кто-либо стал бы в настоящее время придерживаться учения окказионалистов. До какой степени это противоположение психического, или духовного, физическому, или материальному, является и поныне господствующим воззрением в психологии, показывают, например, недавно высказанные В. Вундтом мысли по поводу психической причинности и психофизического параллелизма в его «Очерках психологии»[15 - Вундт В. Очерки психологии. Пер. Д. В. Викторова. Москва, 1897 г. С. 22–23.].
По взгляду Вундта, «физическое определение величины имеет своим предметом объективные массы, силы и энергии; психическое определение имеет предметом субъективные ценности и цели». Далее еще полнее выражает свою мысль В. Вундт в следующих словах: «Движения мускулов при внешнем волевом действии и физические процессы, сопровождающие чувственные восприятия, ассоциации и функции апперцепции, неизменно следуют принципу сохранения энергии, и при одинаковой величине этой энергии выраженные в ней духовные ценности и цели могут быть различны по своей величине». И далее: «Физическое изменение имеет дело с количественными величинами, которые допускают градацию только по количественным отношениям измеряемых явлений; напротив того, психическое изменение имеет предметом в своем итоге всегда качественно ценные величины. Поэтому способности производить чисто количественное действие, которое мы определяем как величину физической энергии, можно противопоставлять величину психической энергии, как способности производить качественно различные ценности. Прирост психической энергии не только совместим при таком предположении с обязательным для естественно-научного рассмотрения постоянством физической энергии, но оба эти положения служат даже взаимно дополняющими друг друга масштабами при обсуждении нашего опыта в его целом. Ведь прирост психической энергии является в надлежащем освещении лишь постольку, поскольку он составляет обратную сторону физического постоянства. Непрерывности физических процессов противостоит, с другой стороны, как ее психологический коррелят, факт исчезновения психических ценностей, без сомнения, данный в опыте».
Легко видеть, что понятие психической энергии в глазах В. Вундта нечто иное, нежели понятие физической энергии; оно прямо противополагается последнему, как приводящее к качественным ценностям, по временам исчезающим, в противоположность постоянству физической энергии, дающей количественные величины.
Очевидно, что психическая энергия в понятии В. Вундта мало что прибавляет к обыкновенному мировоззрению, которое противополагает дух материи. В данном случае на место духа является лишь психическая энергия, а на место материи – физическая энергия. Но оба эти понятия, т. е. психическая и физическая энергии, столь же несоизмеримые величины, как дух и материя философов прежнего времени.
Энергетизм в физике и понятие психической энергии
Совершенно аналогичный дуализм мы встречаем и в физике, в понятии о силе или энергии и материи; но так как со времени развития учения о сохранении энергии явилась возможность подчинить энергию математическому исчислению, то очевидно, что этот дуализм в физике не мог принести столько вреда, сколько принес дуализм в сфере изучения психической деятельности. Тем не менее и в физике за последнее время раздались могущественные голоса против дуализма, скрывающегося под понятиями силы и вещества, или материи. В этом отношении заслуживает внимания, между прочим, попытка Майера, а в позднейшее время профессора Оствальда[16 - Ostwald W. Die ?berwindung der wissenschaftlichen Materialismus. Leipzig. 1895. (Рус. пер. в «Научн. обозр». 1896) См. также его сочинение «Натурфилософия». Рус. пер. Г. А. Котляра.] подвести весь видимый мир под понятие энергии, устраняя совершенно материю из обихода научного мировоззрения.
По Оствальду, реальной можно признать в природе только энергию, представляющую собой единственную величину, открываемую нами в природе, тогда как материя есть не что иное, как продукт нашей мысли. По Оствальду, все свойства так называемого вещества могут быть рассматриваемы как те или другие проявления энергии; так, масса, по автору, есть не что иное, как способность двигательной энергии наполнять пространство, иначе говоря, это есть энергия объема (Volumenenergie), тяжесть – есть выражение энергии положения (Lagenenergie), химические свойства тела сводятся к химической энергии.
Таким образом, все, что мы знали о внешнем мире, может быть сведено к отношениям энергии. Допускать еще особого носителя энергии, т. е. материю, нет основания уже потому, что об этой материи мы не можем ничего узнать, так как различными проявлениями энергии можно объяснить все нам известное.
По Оствальду, «всюду дело идет только об энергиях, и если отвлечься от понятия о различных родах материи, то не остается более ничего, даже занимаемого ей пространства, так как и последнее мы познаем лишь через трату энергии, необходимую для проникновения в него, т. е. для движения. Таким образом, материя в сущности есть не что иное, как пространственный распорядок разных энергий и все, что мы говорим о ней, в сущности говорим об этих энергиях».
Удар палкой производит в нас соответствующее ощущение лишь благодаря энергии удара, сама же палка, по Оствальду, вещь совершенно невинная. При ударе о покоящуюся палку мы ощущаем опять-таки различие состояний энергий по отношению к нашим чувствующим органам, и вообще все наши органы чувств реагируют лишь на различия энергий между этими органами и окружающей нас средой. Таким образом, по Оствальду, все реальное в нашем мире сводится на различные формы и количества энергии, откуда это учение и получает название энергетизма в отличие от общепринятого воззрения, признающего существование атомистической материи, или атомизма.
Явившись в виде реакции против безмерного дуализма, господствовавшего до последнего времени в физике, гипотеза Оствальда, как всякая смелая попытка разрушить старое учение, воссоздав на его обломках новый взгляд на вещи, не могла не встретить многих и не несущественных возражений.
Мы не войдем в подробности этих возражений и заметим лишь, что особенностью гипотезы Оствальда является то обстоятельство, что она приписывает самостоятельную реальность энергии, под которой в физике понимается обычно лишь способность к работе и которая как таковая предполагает существование другого реального «нечто» в окружающем нас мире, под которым разумеют обыкновенно материальную среду.
Существенным же недостатком этой гипотезы служит тот факт, что, уничтожая материю и подставляя взамен ее столь же неизвестную в самом существе энергию, Оствальд увеличивает число различных форм энергии до необычайных размеров, что вряд ли может служить к пользе науки. Все внешние свойства и отношения тел, по учению Оствальда, дают основание к признанию новых энергий, как энергии объема, расстояния, поверхности и пр. Но как доказать существование этих энергий в природе, к которым, руководясь тем же принципом, можно присоединить многое множество других энергий, и не служат ли они более или менее плотной ширмой того, что и так сокрыто от нас в природе? Ведь если вещества или массы нет, а тела суть лишь формы энергии, то очевидно, что тела без остатка должны переходить в другие формы энергии, а между тем ничего подобного не наблюдается в природе, так как при всевозможных химических превращениях тела лишь видоизменяют свой состав, форму и объем, но не уничтожаются в настоящем смысле, обнаруживая один и тот же вес своих видоизмененных по внешности частей.
Словом, трудно или даже невозможно помирить гипотезу Оствальда с законом неуничтожаемости материи, если не допускать новой, противоречащей нашим понятиям об энергии гипотезы, что есть формы энергии, которые не переходят ни в какие другие энергии. В самом деле, в какие другие энергии может перейти, например, энергия объема или энергия поверхности? Ясно, что в этом пункте гипотеза Оствальда наталкивается на непреодолимые препятствия.
Нелишне заметить здесь, что, хотя Оствальд, как и Майер, первый основатель энергетики, восстает против гипотез, но разве энергия формы или поверхности не есть чистая гипотеза, которая к тому же допускается без всяких фактических в пользу ее данных.
Поэтому, как ни симпатично в идее ввести в науку вместо понятия материи и энергии одно понятие энергии, мы не видим достаточного оправдания для совершенного устранения материи и замены ее понятием энергии, в сущности не менее отвлеченным, как и понятие материи.
Вот почему, признавая совершенно неправильным старое воззрение, противополагающее материю, как косное или инертное вещество, понятию силы, как деятельному началу, мы скажем просто, что в природе везде и всюду мы имеем лишь деятельную среду. Пусть эта среда в первичном своем состоянии не будет представляться нами в той форме, в которой мы обыкновенно представляли себе вещество, пусть даже эта среда будет лишена тех свойств, которыми мы обыкновенно награждаем материю и которые в сущности обязаны своим происхождением силе, тем не менее мы не можем представлять себе в мире одну лишь силу вне той или другой среды.
Ум человеческий вообще не может мириться с мыслью, что окружающий нас мир не представляет собой ничего, кроме видоизменения одной силы в пустоте. В этом отношении, устраняя материю, подобно философскому спиритуализму, учение Оствальда наталкивается на ряд логически неустранимых препятствий.
Мы не видим, таким образом, необходимости удерживать в конечном анализе обыденное понятие материи с присущими ей свойствами, но мы полагаем, что сила от среды неотделима, и понятие этой среды мы исключить не можем, так как немыслимо представить себе, чтобы сила, будучи величиной нематериальной, могла проявлять себя в пустоте.
Очевидно, что нельзя увлекаться энергетическим учением в том именно его виде, как мы его находим в учении Оствальда.
Да и какую роль могло бы играть деятельное начало, если бы в мире ничего не было, кроме самого деятельного начала, если бы не было даже беспредельной среды, в которой могло бы проявляться действие силы?
Таким образом, не допуская противоположения силы, как деятельного начала, веществу, как косному началу, мы полагаем, что сила от среды неотделима, как и среда без силы немыслима.
В окружающем нас мире везде и всюду мы встречаемся с деятельной средой, которая заключает в себе одновременно и силу, и массу, и которую мы лишь мысленно можем разложить на вещество, как материальное косное начало, и силу, как нематериальное деятельное начало; в действительности же деятельная среда содержит в себе и то и другое в постоянном и нераздельном единении.
С этой точки зрения, весь доступный нашим чувствам мир представляется деятельной средой. Иначе говоря, по нашему воззрению в мире нет вещества, как особого отдельного от силы косного начала, как нет, в сущности, и силы, как особого, т. е. самостоятельного деятельного начала, так как и то и другое есть не что иное, как продукт нашего умозрения, возникший из желания разложить неразделимую в природе деятельную среду на два противоположных по своей сущности и природе начала.
Наше понятие деятельной среды, таким образом, вмещает в себя понятия вещества и силы. Вещество в доступных нам его видах, т. е. в форме физических тел, является не чем иным, как внешней формой проявления деятельной среды, внутренняя же причина ее деятельного состояния называется нами силой, тогда как взаимоотношение среды и силы в форме деятельной среды образует собой то, что мы называем энергией. Смотря по условиям этого соотношения, мы различаем несколько видов энергии, хотя в сущности в природе имеется всюду одна и та же, однородная в своем существе, единая мировая энергия в виде одной общей деятельной среды.
Поэтому нам нет надобности создавать подобно Оствальду новые формы энергии. Для нас достаточно, если мы скажем, что та или другая, например, кристаллическая или иная форма виденного нами тела, его тяжесть или вес, его внутренний или химический состав являются результатом видоизменения отдельных частей деятельной среды, которое в отдельных случаях, смотря по внешним его формам, мы можем условно называть энергией притяжения, энергией химической, электрической, тепловой, световой и т. п., хотя в сущности, как мы уже упоминали, везде и всюду дело идет об одной и той же деятельной среде, различной лишь в своих проявлениях.
Выше мы видели, что, с точки зрения Оствальда, разные формы энергий внешнего мира познаются нами благодаря тем соотношениям, в которые они вступают с энергией наших органов чувств.
Отсюда естественно, что учение Оствальда неизбежно приводит к учению о психической энергии наших органов чувств и вообще нашей нервной системы. Действительно, философ Лассвиц[17 - Lasswitz K. ?ber psychophysische Energie u. ihre Factoren, Arch. f. syst. Philosoph. 1895. Bd. I. Heft. I.] делает попытку установить учение о психофизической энергии, согласно с гипотезой Оствальда, как дальнейшее ее развитие.
По Лассвицу, если все физические изменения обусловливаются обменом энергий и если все психические, сознаваемые нами, изменения связаны с физическими изменениями в нашей нервной системе, то мы имеем основание сочетать со всеми изменениями индивидуального сознания изменения в состоянии энергии в соответствующем нервном аппарате. По Лассвицу, под названием психофизической энергии следует подразумевать ту часть энергии нервной системы, изменения которой вызывают изменения в состоянии сознания, иначе говоря, под психофизической энергией подразумевается та часть энергии нервной клетки, колебания которой мы испытываем под видом индивидуального состояния сознания. Процессы превращения психофизической энергии, по автору, и образуют собой физиологический коррелят психических явлений.
Наши ощущения и их комплексы обязаны обмену энергий между образованиями, к системе которых принадлежит и наш мозг. Если особенностью психической энергии является то обстоятельство, что ее факторы не поддаются измерению, тогда как для потенциалов прочих форм энергии имеются известные масштабы, то отсюда следует лишь, что математическое обращение с ними представляется невозможным, но ничуть не обозначает, что эти факторы не могут быть допускаемы теоретически. Сущность гипотезы автора, по его собственным словам, состоит в том, что фактор способности в работе психофизической энергии, или так называемая эмпатия (Empathie), по автору, составляет физиологический коррелят чувства.
Из вышеприведенного ясно, что по Лассвицу психофизическая энергия составляет физиологический коррелят психических процессов, что колебания этой энергии и ощущаются нами в форме индивидуального сознания.
Надо при этом заметить, что, по Лассвицу, обычные психологические понятия, как чувство, ощущение и представление, не находятся ни в каком функциональном соотношении с психофизической энергией, так как они не являются какими-либо определенными величинами, а представляют собой отвлеченные понятия, условно принимаемые нами при анализе нашего внутреннего мира. Лассвиц при этом указывает на бесплодность всех существовавших до сего времени стремлений найти физиологические корреляты психических состояний, но они все возникали из молекулярной или атомистической теории. Ввиду этого, по его мнению, должна быть по крайней мере сделана попытка выяснить, к каким результатам могут привести методы энергетики.
Преимущество последней перед молекулярно-механической теорией, по Лассвицу, должно заключаться в признании новых форм энергии, причем она открывает для своего исследования новые области, в которых процессы, благодаря их сложности, не представляются доступными с точки зрения атомистической теории. Вопрос должен состоять в том, насколько факты психической деятельности могут быть согласованы с общим состоянием мозговой или психофизической энергии, подчиняющимся общим законам энергии.
Ясно, что как Оствальд устраняет из внешнего мира материю, так и Лассвиц всю психическую деятельность сводит к особой психофизической энергии, совершенно не касаясь или игнорируя те физические или материальные изменения, которые, как мы знаем в настоящее время, сопутствуют нашей психической деятельности.
Но в попытке Лассвица нетрудно усмотреть так много искусственного и подтянутого под гипотезу Оствальда, которую нужно еще доказать, что вряд ли после всего вышеизложенного она заслуживает даже критики.
Существование особой психической энергии и превращение ее в физические энергии и обратно допускается также и некоторыми другими авторами. Между прочим, Зигварт и Штурмер устраняют воззрение на энергию как на движения молекулярных частиц. Они придерживаются того взгляда, что превращение одной энергии в другую, например, электрической в световую или тепловую, ничуть не должно истолковывать механически в смысле изменения характера движения молекулярных частиц. Таким образом, по этому взгляду для обычного представления, что теплота, происходящая при столкновении двух масс, обязана превращению массового движения в молекулярное, нет достаточных оснований и вообще не доказано, что теплота есть род молекулярного движения. Мы можем ограничиться лишь определением, что теплота есть один из видов энергии, не предрешая ее сущности.
При таком понимании дела, конечно, нетрудно допустить и психическую энергию, и возможность превращения ее в физическую энергию и наоборот, так как энергия в таком случае является лишь способностью к работе, а будет ли эта энергия психическая или физическая – это представляется уже безразличным.
Этот взгляд, конечно, мог бы иметь значение при условии, если бы можно было устранить коренное различие между физическими и психическими явлениями, о котором мы уже говорили раньше и которое для всех является непререкаемой истиной. Поэтому и это воззрение не может быть признано удовлетворяющим своей цели.
По Штумпфу[18 - Stumpf C. Die Rede zur Er?ffnung d. III Internat. Congresses f. Psychologie. Цит. по: Челпанов Г. И. Очерк современных учений о душе. //Вопросы философии и психологии. Март – апрель. 1900.] закон сохранения энергии есть просто закон превращения.
Если кинетическая энергия или живая сила видимого движения превращается в другую форму энергии и затем эта последняя энергия, в свою очередь, может быть превращена обратно в кинетическую энергию, то получается та же сумма энергии, которая была употреблена вначале. Так как закон не говорит, в чем именно должны состоять различные виды энергии, то поэтому можно было бы смотреть на психическое как на скопление энергии особого рода, которая могла бы иметь свой механический эквивалент. Таким образом, дело, очевидно, сводится к тому, что физика не нуждается в том, чтобы под энергией понималось непременно нечто физическое, а это уже дает возможность говорить о превращении известных нам видов энергии в психическую энергию и наоборот.
Это воззрение, как легко видеть, просто устраняет или обходит понятие о психическом, иначе говоря, закрывает глаза перед тем, что, собственно, и должно быть предметом научного анализа.
Впрочем, некоторые авторы не находят противоречия даже и в возможности превращения физического в психическое. «Со времени Декарта говорят, что причинность может быть только между явлениями однородными; но это неправильно и вот почему: это было бы правильным только в том случае, если бы мы под причиной понимали нечто такое, что созидает действие, или если бы мы искали какую-нибудь внутреннюю связь между причиной и действием – между тем в действительности под причинностью мы должны понимать совсем не это. При помощи термина “причинность” мы желаем только обозначить, что если дано А, то вслед за ним появляется В, изменение А вызывает изменение В и т. д. Поэтому нет никакой надобности, чтобы между причиной и следствием существовала однородность. Самые разнородные явления могут находиться друг с другом в отношении причинности. Обыкновенно кажется, что причинное отношение в мире физическом в высшей степени просто и понятно, а причинное отношение между психическим и физическим совсем непонятно. Если, например, движется шар и на пути своем встречает другой шар, который приводится им в движение, то мы говорим, что движение первого шара является причиной движения второго. Эта связь нам кажется простой и понятной; но если у меня вслед за известным волевым решением возникает движение руки, то кажется, что причинное отношение между одним и другим непонятно. В действительности же одно причинное отношение не более понятно, чем другое и даже, может быть, второе более понятно, чем первое; может быть, первое отношение становится для нас понятным только потому, что мы уже знакомы со вторым»[19 - Челпанов Г. И. Очерк современных учений о душе. // Вопросы философии и психологии. Март – апрель. 1900.].
Нетрудно, однако, заметить, что здесь под понятие причинности подставляется понятие функционального отношения, о котором мы уже упоминали выше. Вряд ли, однако, этот софизм может удовлетворить многих. Во всяком случае, если бы даже и согласиться с изложенным воззрением, то мы бы имели лишь простое переложение факта передачи волевого импульса в движение, но не объяснение самого явления по существу.
Надо, однако, заметить, что понятие психической энергии поддерживается и развивается другими авторами в ином смысле. Здесь в особенности заслуживает внимания попытка русского философа Н. Я. Грота ввести понятие о психической энергии в психологию. Задачу свою Н. Я. Грот сам определяет следующим образом: «Дело будет идти в последующем анализе исключительно о том, существует ли особая психическая энергия в основе психических процессов и психической деятельности и подчинена ли она закону сохранения энергии наравне с физическими энергиями, входя в общую систему энергий природы, которые со включением в нее энергии психической уже не могут называться (ни одна) чисто физическими, а окажутся все, так сказать, психофизическими энергиями (т. е. способными превращаться в психическую форму) или просто формами единой мировой энергии
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: