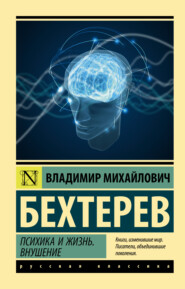скачать книгу бесплатно
Ум человеческий вообще не может мириться с мыслью, что окружающий нас мир не представляет собой ничего, кроме видоизменения одной силы в пустоте. В этом отношении, устраняя материю, подобно философскому спиритуализму, учение Оствальда наталкивается на ряд логически неустранимых препятствий.
Мы не видим, таким образом, необходимости удерживать в конечном анализе обыденное понятие материи с присущими ей свойствами, но мы полагаем, что сила от среды неотделима, и понятие этой среды мы исключить не можем, так как немыслимо представить себе, чтобы сила, будучи величиной нематериальной, могла проявлять себя в пустоте.
Очевидно, что нельзя увлекаться энергетическим учением в том именно его виде, как мы его находим в учении Оствальда.
Да и какую роль могло бы играть деятельное начало, если бы в мире ничего не было, кроме самого деятельного начала, если бы не было даже беспредельной среды, в которой могло бы проявляться действие силы?
Таким образом, не допуская противоположения силы, как деятельного начала, веществу, как косному началу, мы полагаем, что сила от среды неотделима, как и среда без силы немыслима.
В окружающем нас мире везде и всюду мы встречаемся с деятельной средой, которая заключает в себе одновременно и силу, и массу, и которую мы лишь мысленно можем разложить на вещество, как материальное косное начало, и силу, как нематериальное деятельное начало; в действительности же деятельная среда содержит в себе и то и другое в постоянном и нераздельном единении.
С этой точки зрения, весь доступный нашим чувствам мир представляется деятельной средой. Иначе говоря, по нашему воззрению в мире нет вещества, как особого отдельного от силы косного начала, как нет, в сущности, и силы, как особого, т. е. самостоятельного деятельного начала, так как и то и другое есть не что иное, как продукт нашего умозрения, возникший из желания разложить неразделимую в природе деятельную среду на два противоположных по своей сущности и природе начала.
Наше понятие деятельной среды, таким образом, вмещает в себя понятия вещества и силы. Вещество в доступных нам его видах, т. е. в форме физических тел, является не чем иным, как внешней формой проявления деятельной среды, внутренняя же причина ее деятельного состояния называется нами силой, тогда как взаимоотношение среды и силы в форме деятельной среды образует собой то, что мы называем энергией. Смотря по условиям этого соотношения, мы различаем несколько видов энергии, хотя в сущности в природе имеется всюду одна и та же, однородная в своем существе, единая мировая энергия в виде одной общей деятельной среды.
Поэтому нам нет надобности создавать подобно Оствальду новые формы энергии. Для нас достаточно, если мы скажем, что та или другая, например, кристаллическая или иная форма виденного нами тела, его тяжесть или вес, его внутренний или химический состав являются результатом видоизменения отдельных частей деятельной среды, которое в отдельных случаях, смотря по внешним его формам, мы можем условно называть энергией притяжения, энергией химической, электрической, тепловой, световой и т. п., хотя в сущности, как мы уже упоминали, везде и всюду дело идет об одной и той же деятельной среде, различной лишь в своих проявлениях.
Выше мы видели, что, с точки зрения Оствальда, разные формы энергий внешнего мира познаются нами благодаря тем соотношениям, в которые они вступают с энергией наших органов чувств.
Отсюда естественно, что учение Оствальда неизбежно приводит к учению о психической энергии наших органов чувств и вообще нашей нервной системы. Действительно, философ Лассвиц[17 - Lasswitz K. ?ber psychophysische Energie u. ihre Factoren, Arch. f. syst. Philosoph. 1895. Bd. I. Heft. I.] делает попытку установить учение о психофизической энергии, согласно с гипотезой Оствальда, как дальнейшее ее развитие.
По Лассвицу, если все физические изменения обусловливаются обменом энергий и если все психические, сознаваемые нами, изменения связаны с физическими изменениями в нашей нервной системе, то мы имеем основание сочетать со всеми изменениями индивидуального сознания изменения в состоянии энергии в соответствующем нервном аппарате. По Лассвицу, под названием психофизической энергии следует подразумевать ту часть энергии нервной системы, изменения которой вызывают изменения в состоянии сознания, иначе говоря, под психофизической энергией подразумевается та часть энергии нервной клетки, колебания которой мы испытываем под видом индивидуального состояния сознания. Процессы превращения психофизической энергии, по автору, и образуют собой физиологический коррелят психических явлений.
Наши ощущения и их комплексы обязаны обмену энергий между образованиями, к системе которых принадлежит и наш мозг. Если особенностью психической энергии является то обстоятельство, что ее факторы не поддаются измерению, тогда как для потенциалов прочих форм энергии имеются известные масштабы, то отсюда следует лишь, что математическое обращение с ними представляется невозможным, но ничуть не обозначает, что эти факторы не могут быть допускаемы теоретически. Сущность гипотезы автора, по его собственным словам, состоит в том, что фактор способности в работе психофизической энергии, или так называемая эмпатия (Empathie), по автору, составляет физиологический коррелят чувства.
Из вышеприведенного ясно, что по Лассвицу психофизическая энергия составляет физиологический коррелят психических процессов, что колебания этой энергии и ощущаются нами в форме индивидуального сознания.
Надо при этом заметить, что, по Лассвицу, обычные психологические понятия, как чувство, ощущение и представление, не находятся ни в каком функциональном соотношении с психофизической энергией, так как они не являются какими-либо определенными величинами, а представляют собой отвлеченные понятия, условно принимаемые нами при анализе нашего внутреннего мира. Лассвиц при этом указывает на бесплодность всех существовавших до сего времени стремлений найти физиологические корреляты психических состояний, но они все возникали из молекулярной или атомистической теории. Ввиду этого, по его мнению, должна быть по крайней мере сделана попытка выяснить, к каким результатам могут привести методы энергетики.
Преимущество последней перед молекулярно-механической теорией, по Лассвицу, должно заключаться в признании новых форм энергии, причем она открывает для своего исследования новые области, в которых процессы, благодаря их сложности, не представляются доступными с точки зрения атомистической теории. Вопрос должен состоять в том, насколько факты психической деятельности могут быть согласованы с общим состоянием мозговой или психофизической энергии, подчиняющимся общим законам энергии.
Ясно, что как Оствальд устраняет из внешнего мира материю, так и Лассвиц всю психическую деятельность сводит к особой психофизической энергии, совершенно не касаясь или игнорируя те физические или материальные изменения, которые, как мы знаем в настоящее время, сопутствуют нашей психической деятельности.
Но в попытке Лассвица нетрудно усмотреть так много искусственного и подтянутого под гипотезу Оствальда, которую нужно еще доказать, что вряд ли после всего вышеизложенного она заслуживает даже критики.
Существование особой психической энергии и превращение ее в физические энергии и обратно допускается также и некоторыми другими авторами. Между прочим, Зигварт и Штурмер устраняют воззрение на энергию как на движения молекулярных частиц. Они придерживаются того взгляда, что превращение одной энергии в другую, например, электрической в световую или тепловую, ничуть не должно истолковывать механически в смысле изменения характера движения молекулярных частиц. Таким образом, по этому взгляду для обычного представления, что теплота, происходящая при столкновении двух масс, обязана превращению массового движения в молекулярное, нет достаточных оснований и вообще не доказано, что теплота есть род молекулярного движения. Мы можем ограничиться лишь определением, что теплота есть один из видов энергии, не предрешая ее сущности.
При таком понимании дела, конечно, нетрудно допустить и психическую энергию, и возможность превращения ее в физическую энергию и наоборот, так как энергия в таком случае является лишь способностью к работе, а будет ли эта энергия психическая или физическая – это представляется уже безразличным.
Этот взгляд, конечно, мог бы иметь значение при условии, если бы можно было устранить коренное различие между физическими и психическими явлениями, о котором мы уже говорили раньше и которое для всех является непререкаемой истиной. Поэтому и это воззрение не может быть признано удовлетворяющим своей цели.
По Штумпфу[18 - Stumpf C. Die Rede zur Er?ffnung d. III Internat. Congresses f. Psychologie. Цит. по: Челпанов Г. И. Очерк современных учений о душе. //Вопросы философии и психологии. Март – апрель. 1900.] закон сохранения энергии есть просто закон превращения.
Если кинетическая энергия или живая сила видимого движения превращается в другую форму энергии и затем эта последняя энергия, в свою очередь, может быть превращена обратно в кинетическую энергию, то получается та же сумма энергии, которая была употреблена вначале. Так как закон не говорит, в чем именно должны состоять различные виды энергии, то поэтому можно было бы смотреть на психическое как на скопление энергии особого рода, которая могла бы иметь свой механический эквивалент. Таким образом, дело, очевидно, сводится к тому, что физика не нуждается в том, чтобы под энергией понималось непременно нечто физическое, а это уже дает возможность говорить о превращении известных нам видов энергии в психическую энергию и наоборот.
Это воззрение, как легко видеть, просто устраняет или обходит понятие о психическом, иначе говоря, закрывает глаза перед тем, что, собственно, и должно быть предметом научного анализа.
Впрочем, некоторые авторы не находят противоречия даже и в возможности превращения физического в психическое. «Со времени Декарта говорят, что причинность может быть только между явлениями однородными; но это неправильно и вот почему: это было бы правильным только в том случае, если бы мы под причиной понимали нечто такое, что созидает действие, или если бы мы искали какую-нибудь внутреннюю связь между причиной и действием – между тем в действительности под причинностью мы должны понимать совсем не это. При помощи термина „причинность“ мы желаем только обозначить, что если дано А, то вслед за ним появляется В, изменение А вызывает изменение В и т. д. Поэтому нет никакой надобности, чтобы между причиной и следствием существовала однородность. Самые разнородные явления могут находиться друг с другом в отношении причинности. Обыкновенно кажется, что причинное отношение в мире физическом в высшей степени просто и понятно, а причинное отношение между психическим и физическим совсем непонятно. Если, например, движется шар и на пути своем встречает другой шар, который приводится им в движение, то мы говорим, что движение первого шара является причиной движения второго. Эта связь нам кажется простой и понятной; но если у меня вслед за известным волевым решением возникает движение руки, то кажется, что причинное отношение между одним и другим непонятно. В действительности же одно причинное отношение не более понятно, чем другое и даже, может быть, второе более понятно, чем первое; может быть, первое отношение становится для нас понятным только потому, что мы уже знакомы со вторым»[19 - Челпанов Г. И. Очерк современных учений о душе. //Вопросы философии и психологии. Март – апрель. 1900.].
Нетрудно, однако, заметить, что здесь под понятие причинности подставляется понятие функционального отношения, о котором мы уже упоминали выше. Вряд ли, однако, этот софизм может удовлетворить многих. Во всяком случае, если бы даже и согласиться с изложенным воззрением, то мы бы имели лишь простое переложение факта передачи волевого импульса в движение, но не объяснение самого явления по существу.
Надо, однако, заметить, что понятие психической энергии поддерживается и развивается другими авторами в ином смысле. Здесь в особенности заслуживает внимания попытка русского философа Н. Я. Грота ввести понятие о психической энергии в психологию. Задачу свою Н. Я. Грот сам определяет следующим образом: «Дело будет идти в последующем анализе исключительно о том, существует ли особая психическая энергия в основе психических процессов и психической деятельности и подчинена ли она закону сохранения энергии наравне с физическими энергиями, входя в общую систему энергий природы, которые со включением в нее энергии психической уже не могут называться (ни одна) чисто физическими, а окажутся все, так сказать, психофизическими энергиями (т. е. способными превращаться в психическую форму) или просто формами единой мировой энергии».
Переходя затем к анализу первого вопроса, автор вскользь останавливается на тех философских воззрениях, которые пытались установить между явлениями духовными и телесными, и, отмечая их полную несостоятельность, он справедливо замечает, что в последнее время «взаимная зависимость между психическим и физическим миром, между сознанием и средой, между идеями и элементами природного процесса перешла из области проблем в область фактов. Непрерывное взаимодействие между эмпирическими данными факторами внутреннего психического и внешнего физического существования несомненно». Затем автор высказывается, что для объяснения этого взаимодействия «необходимо… найти такое научное понятие и такой принцип, которые, не нарушая и не устраняя самобытности и своеобразности психического процесса в сравнении с физиологическим и вообще физическим, тем не менее установили бы общую почву для их сопоставления, т. е. для точного определения их взаимной связи и зависимости». Соглашаясь далее с Лассвицем, что «если нельзя было найти этой общей почвы при посредстве молекулярной теории материи, которая не приложима к анализу психологическому иначе как разве в форме уродливой и грубой метафоры Карла Фохта, что „мысль выделяется из мозга, как желчь из печени“, то ее можно и должно искать при помощи методов энергетики. Действительно, мы вправе себе задать такой вопрос: если всякий физический и, в частности, физиологический процесс подчинен закону сохранения энергии и объясняется теорией энергий и их превращений, и если живой потребностью науки является отчетливое установление соотношения и взаимной зависимости физических и психических процессов, то нельзя ли надеяться, что именно при посредстве понятия энергии и закона сохранения энергий удастся выполнить поставленную выше задачу?»
«В ближайшее время не предвидится никакой иной почвы, кроме учения энергетики для научного сопоставления понятий психического и физического процесса, т. е. для решения вопроса о характере взаимной зависимости между психической деятельностью и физической работой. Энергетическое учение действительно способно внести единообразный принцип в анализ психических и физиологических процессов».
Затем, переходя к выяснению вопроса о психической энергии и об отношении ее к физическим энергиям, автор формулирует в 8 положениях закон сохранения энергии, как он излагается физиками, а затем замечает: «Из такой формулировки основных положений физической энергетики обыкновенно делают заключение, что это учение никак не может найти себе никакого приложения в области чисто психической работы, где, по-видимому, не может быть речи ни о „телах“ как носителях энергий, ни о „конфигурации“, ни о „массе“, ни о „квадрате скорости движения“».
Опираясь частью на учение энергетистов, частью анализируя, частью критикуя некоторых из положений закона сохранения энергии, автор делает следующее замечание, которое характеризует его взгляды на предмет: «Факт распространения психической энергии в пространстве с известным ускорением при переходе ее в физические формы (а затем обратно в психические) не подлежит сомнению. Если идеи известной личности, через посредство ее сочинений, более или менее быстро распространяются по свету, причем ими проникаются сотни тысяч личностей в разных странах или на них реагируют, – такой случай происходит на наших глазах с учением Л. Н. Толстого, – и если эти идеи через посредство физических буквенных знаков, воспринимаемых глазом при помощи световых лучей, увеличивают или ослабляют психическую энергию множества человеческих организмов или же видоизменяют ее проявление и формы ее разряжения, то разве это не факт, доказывающий, что и психическая энергия должна иметь эквиваленты в движении пространственном, совершающемся с известной скоростью и имеющем известное ускорение во времени?»
Из этого рассуждения ясно, как Н. Я. Грот понимает психическую энергию. Поясняя в другом месте это понятие психической энергии, он определенно настаивает, что его психическая энергия не может быть отождествляема с психофизической энергией Лассвица и не может быть также смешиваема с нервной энергией. «Нервно-физическая или нервно-мозговая энергия есть несомненная реальность, признанная наукой и составляющая необходимый постулат энергетики и „органической физики“, которая, впрочем, как особая наука, находится еще только в зародыше. Но наряду с нервно-мозговой энергией столь же несомненно существует психическая энергия, как особая форма природных энергий, проявляющаяся при своем действии для самосознания (или внутреннего опыта) особыми признаками или явлениями: сознания, ощущения, чувствования, стремления и т. п., подобно тому как и физические энергии и движения проявляются для нашего сознания различными и своеобразными признаками, которые определяются их восприятием (во внешнем опыте), т. е. нашими ощущениями (света, цвета, звука, тона, давления, вкуса, запаха и пр.)».
Заменив затем в формулировке закона сохранения энергий физическое понятие «тела» более отвлеченным понятием «деятеля», как более пригодным с философской точки зрения, Н. Я. Грот приходит к выяснению вопроса о том, можно ли говорить о психической энергии в том же строго научном смысле, в каком мы говорим об энергии физической?
«Для этого необходимо показать, – говорит далее Н. Я. Грот, – что психическая энергия подлежит количественной оценке, представляет собой известную форму превращения других энергий природы и сама в них непрестанно превращается, что ей свойственны те же переходы из потенциального состояния в деятельное или кинетическое и обратно с вероятностью сохранения общей ее меры, как и так называемым физическим энергиям, т. е. что закон сохранения нисколько не нарушится, если мы допустим, что в общую сумму энергий природы входит, как слагаемая, особая психическая энергия».
В дальнейших рассуждениях Н. Я. Грот стремится показать, что психическая энергия, которую автор, очевидно, понимает в смысле силы умственных способностей вообще или сознательно волевой деятельности, подлежит количественной оценке (большая или меньшая способность людей, сила их таланта и проч., балльная система как мера умственной работы, и т. п.).
Автор затем указывает на то, что существует «психическая способность производить „работу“», так как на самом деле вся наша психическая жизнь и психическая деятельность есть непрерывная работа; после истощения психической энергии вновь возникают неисчерпаемые психические силы из организма и среды путем питания и дыхания, действия света, тепла, электричества и даже механических толчков. При этом вещества превращаются через питание и дыхание в духовные силы, а физические энергии веществ сложным физиологическим процессом превращаются в нервно-мозговые и уже через посредство последних в психические.