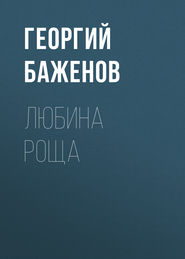скачать книгу бесплатно
Но это они так, просто так, не ругая и не виня никого, они и правда опаздывали…
– Мама, ну где вы там? – укоризненно встретила их у роддома Вероника. – Уже одежду спрашивали…
Саша им ничего не сказал, обнял, подмигнул обоим, рассмеялся.
У Вероники в руках был огромный букет гвоздик.
В комнате ожидания они передали нянечке одежду для Любы и малыша, и Валентин выскочил на улицу – ловить такси. Видимо, такси ему никак не попадалось; во всяком случае, когда в дверях с малышом на руках показалась няня, а за ней счастливая Люба, Валентина все еще не было. Так он и прозевал в своей жизни это единственное в своем роде мгновение. А Люба, когда огляделась и не увидела Валентина, чуть не расплакалась от обиды: ну вот, опять его где-то носит!..
И когда наконец он прибежал, они все немного успокоились и теперь уже с покровительственным чувством наблюдали за его растерянностью: он не знал, бросаться ли ему к Любе или к малышу, и получилось, он бросился все же к жене, а мать в это время протянула ему ребенка, и Валентин, неуклюже приняв сына, держа его неумело, на вытянутых руках, ткнулся Любе в лицо, что-то такое пробормотал, вроде: «Привет…» – банальное, глупое, и Люба смотрела на него с обидой, со слезами на глазах, а он толком ничего не мог понять, кроме одного, горького: «Опоздал!» – и вот так, гудящей толпой, они вышли на улицу, стали рассаживаться в такси, и тут вдруг малыш в первый раз подал голос, закуксился, расплакался, чем дальше, тем сильней, и Люба всполошилась, взяла его на руки, запричитала над ним, стала уговаривать, а он все плакал – громче, просительней, и тогда Люба без всякого стеснения выпростала из-под кофточки большую тугую грудь и дала малышу.
А Валентин смотрел на это странными глазами, ему показалось диким: прямо на виду у всех… Но почти тотчас он забыл об этих ощущениях, он только проникался мыслью, до чего прекрасна, почти божественна сейчас его Люба с этим тщедушным, страшненьким на вид существом, а Валентин, как ни странно, что-то потерял в ней для себя: приобретая детей, чуть-чуть теряешь любимую. Иногда теряешь очень многое в ней. А иногда – даже ее любовь.
Дома, когда уложили Сережика на стол, развернули, он показался таким уродливо-неуклюжим, морщинистым, с воспаленно-красной кожей, что Люба в испуге вскрикнула (она видела его распелёнутым впервые), схватила мать за руку: «Ой, какой он страшненький! Кого же я родила, Господи?!» – и прикрыла рот ладошкой.
А мать, будто не слыша, быстро поменяла пеленки, подложила под Сережика подгузник.
– Он у нас красавец. Вон у него какие ножки сильные! Какие ручки цепкие! Какой ротик упрямый! Как он у нас лобик морщит умно! – Без конца приговаривая все это, мать ловко, быстро, уверенными движениями перепеленала Сережу, так что со стороны даже казалось, не слишком ли туго она перехватывает ему руки и ноги, как бы не сломала чего-нибудь, на что мать только смеялась:
– Нет, они любят, когда их туго пеленают. Он у нас теперь согреется, поест мамочкиного молока и заснет спокойненько, и ничто его тревожить не будет, ни ручки, ни ножки… они у нас еще глупые, еще не понимают, как они нам могут мешать…
Люба немного подкормила Сережика, и, когда голова его сама собой отпала от груди, ей показалось – сын улыбается, и она воскликнула:
– Ой, мама, он, кажется, улыбается! Смотри!..
– А ты как думала, – с горделивыми нотками в голосе проговорила мать, – они еще как улыбаться умеют! Ты думаешь, он глупый, что ли?
Люба спросила:
– Господи, на кого же он все-таки похож? Неужели на меня? Такой страшненький!.. – И не выдержала, счастливо рассмеялась.
– Мужик – сила! – сказал Саша. – Ты что это – страшный? Парень что надо.
– А ты заметила, – сказала мать, – какие у него глаза? Голубые.
– Правда, голубые? – удивилась Вероника.
– И волосики уже есть. Вьются. У затылка.
– Да ты что, мама? – не поверила Вероника.
– Я тебе говорю! Он будет беленький, кудрявый, с голубыми глазами. Весь в моего отца! Отец у меня такой был: давно дед, а какой красавец, какая осанка, любой молодой позавидует!..
А потом началось застолье, вспоминали, какой хилой, почти безжизненной на вид была Наташка, когда тринадцать лет назад ее принесли из роддома, и руки и ноги висели плетьми, голова совсем не держалась, и самое плохое – она почти ничего не ела, не брала грудь, и какое-то время все они, как и врачи, были уверены, что Наташка не жилец на белом свете. Вероника плакала, молоко у нее перегорало, соски трескались, мучений было – не приведи Господи…
Люба с Валентином сидели рядом, настоящие именинники, красивые, молодые, счастливые, и Люба замечала за собой, как среди всего этого веселья и гомона что-то в ней настороженно прислушивается к тому, что делается в другой комнате, не хнычет ли, не плачет ли Сережка, и, чувствуя себя беззаботной сейчас, она в то же время была полна внутренней тревоги за сына, – Боже, она была настоящая мать, даже не верилось!
Валентин видел Любу через полчаса после родов; он забрался по лестнице на какую-то небольшую пристройку, крыша которой была на уровне второго этажа роддома. Мест в палатах не хватало, и Любу на некоторое время оставили прямо на тележке в коридоре; рядом с ней стояла сестра и не давала Любе заснуть, хотя больше всего на свете ей хотелось нырнуть в небытие сна, исчезнуть из мира боли и неимоверных трудов в сладость покоя и безразличия. А ей не давали, и как же она, конечно, ненавидела сестру, хотя ненависть ее была напрасна. Валентин смотрел на Любу, делал сестре знаки, но ни сестра, ни Люба не замечали его, Валентин что-то кричал, бегал по крыше, гремел кровлей, стараясь привлечь их внимание, и наконец Люба – видимо, просто случайно – чуть-чуть повернула голову, и в далеких опустошенных ее глазах почти ничего не отразилось, она смотрела на него, видела, что это Валентин, ее муж, видела и ничего не испытывала, ни радости, ни облегчения, ничего, таким ненужным, не имеющим никакого отношения к тому, что она совсем недавно пережила, показался самый близкий и родной на свете человек. Люба словно была выше всего и всех, и ей почти неприятно было видеть его ликующие жесты, дурацкие воздушные поцелуи, все эти движения и восторги человека, пока еще ничего не знающего на свете, не знающего главного: каково оно, жестокое, мучительное таинство – рожать человека. Слишком поверхностны были его ощущения. Она попробовала что-нибудь сказать, прошептать хотя бы, но губы не стронулись с места, и воздух из легких тоже не шел в гортань, как будто и не было легких и она вообще не дышала, а так просто, пространственно и бездыханно существовала; попробовала улыбнуться (пересилив себя) – тоже ничего не вышло; он только понял, что она видит его, но на лице у нее пустота, губы искромсаны, синие, искусаны от боли, и этот ее пустой взгляд из-за спины медсестры, это ее безразличие, опустошение больше всего поразили Валентина, потрясли его: в сердце его, как открытие, вошла пронзительная и пронзающая боль, – Господи, до чего же это все разное, у нас и у них, до чего же мы не любим их, не жалеем, не жертвуем ради них, не понимаем, не прощаем, мучаем!
Когда он спустился вниз, мать была поражена, увидев его не веселым и счастливым, а подавленным, и встревожилась:
– Что? Плохо? Ты видел ее? Что с ней?
– Видел, – кивнул головой Валентин. – Она? Ничего. Она лежит. А потом ее увезли.
– Куда увезли?
– В палату, наверное.
– Да что с тобой? Что там? Расскажешь ты наконец…
Он перевел дыхание, вздохнул, как бы от тяжести пережитого, и сказал внятно:
– Да нет, все хорошо. Это просто так, действует. Лежит слабая, молчит. Глаза такие – смотреть невозможно.
– А-а… – успокоилась мать. – А ты как думал? Родишь – плясать будешь, смеяться? Тут весь мир не мил…
– Это ужасно, да? – спросил он прямо.
– Это? – задумалась мать. – Мы потом все забываем. Невозможно жить и помнить об этом. К счастью, мы забываем.
– Но что же это?
– Оставь ты глупости! Это просто больно. Разве это так важно теперь? Все позади – и слава Богу! Это просто очень больно. Так у всех. Главное – ты теперь отец. У тебя родился сын. Мой внук! – И, обняв Валентина, она поцеловала его, ткнулась ему в шею и расплакалась…
И теперь, когда мать вспоминала об этом, тихо, одиноко лежа в постели без сна, с тупой ноющей болью в сердце, в мире безумных, то радостных, то горьких воспоминаний, она снова заплакала, как плакала тогда, как бы переживая заново то, прежнее свое состояние, к которому теперь прибавилось что-то такое невыносимое, ужасное, что даже плакать было больно, больно глазницам, и сами слезы были больные, жгучие, разъедающие лицо…
Они сидели за столом, радовались, пили шампанское за здоровье новорожденного. И как они были близки друг другу! Как чувствовали себя одной семьей, как все их мысли и чувства были искренни, понятны, чисты!
Даже Люба – и та выпила немного шампанского, мать сказала, это ничего, это можно, немного разрешается. Сережка только спать крепче будет, и, только она это сказала, послышался тоненький, жалобный плач малыша, Люба, как будто она не из роддома пришла, а из дома отдыха вернулась, резво снялась со стула и – в другую комнату.
Пока Люба кормила сына грудью, как-то сиротливей стало в комнате, грустней, и Вероника сказала:
– А помните, какая она в роддом ушла? Во была! – И показала руками.
И правда, как быстро все забылось: Люба в самом деле была такая толстенная, ее разнесло во все стороны, и не только от беременности, но и от водянки – оказалось, плохо у нее почки и печень работают.
И тут вспомнили, как врачи решили ее подлечить, положили в больницу на сохранение, и как она пролежала там не больше недели и вдруг отчудила: выбросила Валентину в окно план бегства. Там был чертеж внутренних лестниц, нарисован черный ход, назначен день и час, когда Валентин должен был стоять у черного хода с одеждой наготове.
– Ты что, того? – показал ей Валентин снизу.
В ответ написала записку: не принесешь – сбегу так. Он знал ее, они все знали: если что задумала – что хочешь делай, Любу не переупрямишь. Была такая и дикая, и славная черта характера – безумство. А почему, собственно, ей не лежалось? Не могла без дела. Не могла жить, чтобы что-то не делать, не мыть, не готовить, короче – она всегда должна быть в действии. С ней могло и такое статься – в окно выпрыгнет, с какого хочешь этажа, – от бездействия. Ну что было делать?
Сейчас вспоминали об этом и смеялись. Сейчас было легко. Сейчас – все понятно. А тогда?
Как раз вернулась Люба, они встретили ее веселым взрывом смеха.
– Чего вы? – улыбнулась она. – Разбудите…
Стали спрашивать: сбежала бы тогда? Ну, если честно?
– Сбежала бы! Конечно! – Она села на стул и задумалась, вспоминая.
– Да ты что, сумасшедшая?! – смеялась Вероника. – Для чего?
– Я б все равно одежду не принес, – вставил Валентин.
– Не прине-е-ес?.. – удивленно, почти обиженно, почти разочарованно протянула Люба, поворачиваясь к Валентину.
– Чтоб глупостей наделала? – Он беззащитно улыбался.
Люба вдруг махнула рукой:
– Да что вы вспомнили! Ну его. Я от водянки этой с ума сходила. Правда, хоть в окно прыгай – так маялась… Слава Богу, схватки начались. Рожать пришлось, а дурь сама отпала…
И вот сейчас, вспоминая тот день, вспоминая радость его и суматоху, счастье и веселье его, и его легкость, мать, лежа в постели, как бы с удивлением поняла все то, чего не могла принять в характере Любы, с чем боролась, но боролась зря: Люба и тогда, и раньше оставалась сама собою, изменить ее было невозможно, и, если б можно было не только понять, но и смириться с этим, – сколько, может, не было бы совершено зла, сколько горестей, обид и непониманий ушли бы из жизни сами по себе…
За стеной, в который раз за ночь, начинала плакать Люба, было слышно, как Саша успокаивал ее. Просыпалась на своей раскладушке и Вероника, спрашивала тихонько у матери:
– Может, мне сходить туда?
Мать долго не отвечала, прислушивалась к голосам в Любиной комнате.
– Не знаю… – И обе они чувствовали себя беспомощными, только Вероника, в отличие от матери, проваливалась в конце концов в тяжкий сон, а мать все лежала, не спала, думала…
Валентин сидел на седьмом этаже гостиницы в кафе, завтракал, когда заглянула дежурная по этажу. Они встретились глазами, и Валентин с удивлением понял, что дежурная пришла именно по его душу, хотя мало ли кто здесь сидел. «Чего это она?» – невольно, но расслабленно, заторможенно подумал он.
Она осторожно подошла к нему и, слегка наклонившись, тихо сказала:
– Вам телеграмма.
– Мне? Откуда? – удивился Валентин.
С Любой у них не было принято обмениваться ни письмами, ни телеграммами, когда он бывал в командировках.
– Из Москвы, – сказала дежурная. – Пойдемте. Она там…
Странным показались Валентину и слова ее, и голос, он поднялся из-за стола и пошел следом за дежурной.
…Взял телеграмму:
«Срочно вылетай разбился Сережа Вероника».
Он и тогда, и чуть позже, и даже много позже, когда уже летел в Москву, так и не мог до конца понять этой телеграммы. Она ударила по нему, как молния ударяет по дереву в страшную грозу, – ослепила, оглушила, расщепила все внутри. Ударила, но он устоял. Он почувствовал – тут жуткая катастрофа, но только не смерть. Нет. Потому что – «разбился». Что значит – «разбился»? И как мог Сережа «разбиться»? Упал, покалечился, что еще? Ведь тут не написано – умер? Не написано – разбился насмерть? Какое-то дикое, непонятное слово – «разбился». Какой в нем смысл?
Нет, только не смерть. Только не это. Это же ясно из телеграммы. Иначе бы там написали. Объяснили. Точно сказали.
Вот такие мысли были у него. Он был оглушен и раздавлен. Он чувствовал, как уже поднимается в нем тяжелая волна ненависти к Любе, к Веронике, к теще: не уберегли… Но он еще не все до конца понимал. Не хотел понимать. Он еще надеялся.
Утром они поехали в морг. Люба, мать и Вероника. Саше нужно было обязательно на работу. Люба сказала ему: «Я не хочу с ними». И тупо смотрела на него – не видя, не сознавая. Он объяснил: «Одна ты все равно не сможешь. Ты что?! Одной нельзя. Не сможешь». Она кивнула, хотя вряд ли понимала что-то.
Смотреть на нее было невозможно.
За ночь как будто схлынула та опухлость, которая навалилась на Любу вместе с беременностью. Буквально за несколько часов она превратилась в осунувшуюся, изможденную, похудевшую, почти уродливую на вид девчонку, у которой выделялся (как не выделялся раньше) огромный живот.
Глазницы черные, нос заострился, волосы прибраны небрежно, наспех, лишь бы как, в глазах – то тоска, то безумный блеск, то вдруг так посмотрит на мать с Вероникой, что сразу мурашки по коже. А собственно, в чем они виноваты? Никто ни в чем не виноват.
Саша привез их на такси в морг, хотел высадить и поехать дальше, на работу, но не смог, не смог справиться с собой – бросить их и уехать. Это было выше его сил, или же нужно было совсем не смотреть на Любу. Но это тоже было невозможно.
В морге Любе стало плохо перед небольшим окошечком, через которое молодая, борющаяся со своей природной жизнерадостностью девчонка стала спрашивать у них фамилию мальчика, возраст и прочее, ноги у Любы обмякли, подкосились, еле успели подхватить ее, усадить на стул. К лицу прилила густая синь, и дышала Люба слабо, еле слышно; девчонка выскочила из-за дверей, сунула Любе под нос нашатырного спирта, Люба приоткрыла глаза, прошептала:
– Сереженька… – и сидела перед ними потусторонняя, не живая.
– Зачем беременную-то привезли! – почти крикнула девчонка.
– Она мать, – тихо, но с отчетливой неприязнью ответил Саша.
Сережа лежал как при жизни – с чистым лицом, с трогательно поджатой нижней губой, глаза закрыты легко, будто это не смерть, а сон с ним случился. Накрыт он был простыней.
Обмывала сына Люба сама. Закрылась в ванной, они слышали только прерывистое журчание падающей струи. А чтобы она там плакала, этого они не слышали. И мать с Вероникой поглядывали друг на друга с недоуменным ужасом.
Когда Сереже было всего полторы недели, Люба, мать и Валентин – втроем – впервые купали его в ванночке. Эта ванночка, розово-выцветшая, местами белесая, осталась еще от Наташки, и вот лежала, ждала тринадцать лет, чтобы теперь в ней барахтался двоюродный Наташкин братец. Мать с Валентином пробовали приделать к ней широкие марлевые полосы, нечто вроде гамака, чтобы Сережка мог лежать в нем, и тогда, лишь придержи его руки и ноги, можно было бы купать его на весу.
Но эти полосы, этот чудный на вид гамак никак не устраивал Сережу, он колотил руками и ногами, и гамак все время съезжал то вниз, то в стороны, и пришлось мириться, купали его просто так, на руках. Мать держала его на своей широкой, сильной, почти мужской руке, другой лишь придерживая Сережу за голову, Валентин поливал водой из чайника, а Люба мыла малыша. Тесно было, непривычно, мучились, мешали друг другу и очень все переживали, как бы чего не натворить с Сережей. А он, такой маленький, размером с куклу, как-то сразу разобрался, что вода – приятная штука, замер весь, сжался и даже не плакал, а терпеливо позволял держать себя то на спине, то на животе. Позже они купали его вдвоем, а еще позже, после месяца, когда можно было пользоваться водой из-под крана, мать или Люба могли справляться с ним в одиночку, и им было странно, почти не верилось, что совсем недавно такое казалось невозможным делом (мать отвыкла, подзабыла, а Люба просто не умела). В первый раз, когда Сережа раскраснелся, распарился, а потом, тепло укутанный, жадно сосал грудь, а еще позже сладко спал в кроватке, он показался им тотчас повзрослевшим, выросшим, это было чем-то новым в его существовании – купание, и, как всякая веха в жизни, событие это казалось им значительным, чуть ли не революцией. А вскоре стало обыденным делом.
Ссорились они тогда? Да упаси Боже! Всей семьей жили до удивления слаженно, в одном ритме, понимая друг друга без слов.
Когда Люба вынесла Сережу из ванной, они заметили что-то поразительно изменившееся в ее лице, в выражении глаз: она не то что не замечала ничего вокруг, не обращая внимания ни на мать, ни на Веронику, она как бы ушла в себя, спряталась в собственной глубине, и не горечь и отчаяние были в ее глазах, а жесткая сосредоточенность, тяжелое раздумье. С того времени Люба и плакать стала гораздо меньше, кроме особо трудных минут, которые еще будут впереди.
Наряжали Сережу все вместе, втроем. Люба была угрожающе сосредоточена в себе, но не прогоняла их, ничего не говорила.
Они положили его на стол в большой – материной – комнате, тут была своя жестокая ирония судьбы: при жизни мать никак не соглашалась, вернее, не предлагала, чтобы дочь, зять и внук заняли ее комнату, а она бы перешла в маленькую. Мать, как крепость, оберегала свое жилище, ей не хватало воздуха, особенно когда всерьез прихватывало сердце, и она не то что избегала этого разговора, наоборот, не раз говорила: какая у вас, ребята, славная, уютная, теплая комната, как вам хорошо в ней живется, Господи, и какая же она, мать, молодец, что когда-то сумела всеми правдами и неправдами обменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную, и теперь у вас, дети, есть своя отдельная комната, если б мне такое счастье в молодые годы… И таким образом, конечно, ни Люба, ни Валентин не предлагали поменяться комнатами, им внушалась мысль, что они в определенном смысле нахлебники, и они невольно должны были принимать эту мысль. Мать продолжала жить в четырнадцати метрах, а они – втроем – в девяти, и до поры до времени никто, в общем, не придавал этому значения (так было – и все), а когда начались ссоры, а потом завязалась вражда, все это всплыло на поверхность, и много было сказано взаимных жестоких слов. Да только для чего? Все оставалось по-прежнему: права была мать, правы были дети.
И вот теперь, когда Сережа лежал на столе в материной комнате, какими жалкими, глупыми представлялись прежние семейные раздоры, какими ничтожными виделись причины разобщенности перед лицом случившегося.
Люба стояла рядом с Сережей, не шевелясь, впившись взглядом в его спокойное, полное умиротворения лицо, стояла и не плакала, а будто старалась проникнуть в загадку смерти. Вероника молчала просто от страха, от испуга, ей вообще не хотелось, чтобы на нее обращали внимание, она ловила себя на ощущении, что боится Любы, боится какой-нибудь ее неожиданной выходки; заплачешь, запричитаешь, а Люба может такое сказать, вроде: «Заткнись, не прикидывайся!» – или: «Пожалела! Лживого жалела?!» – или еще что-нибудь в том же духе. Уж лучше не гневить Бога, помолчать… Мать плакала, сидя на стуле; горестно раскачивала головой и плакала, вытирая кончиком накинутого на голову черного платка слезы. И больше пока никого не было. Народ начнет приходить чуть позже…
Вероника была старше Любы на тринадцать лет. По сути дела, ей пришлось быть первой и главной нянькой младшей сестры. У них были разные отцы. Вероника родилась еще до войны и родного отца совсем не помнила, а новый материн муж, которого Веронике нужно было называть «папа», отцом ей так и не стал, тем более что вскоре после рождения Любы он от матери ушел. Время было – только-только война закончилась. Есть нечего. Мать работала на заводе. По многу часов. Так что Веронике поневоле приходилось оставаться в доме за хозяйку, и вся возня с Любой упала на ее плечи. Часто теперь, когда мать особенно упирала на то, как ей тяжело было воспитывать двух детей, одной, без мужа, Вероника с горечью и даже обозлённо думала: а как же я? ты забыла, не ты, а я поднимала Любу на ноги? это мне приходилось и стирать на нее, и кормить, и гулять, и наказывать, да что там – все делала, пока она хоть немного не подросла! А когда она подросла, на Веронику уж начали ухажеры поглядывать, ей семнадцать, к примеру, а Любке – четыре, вот когда было особенное-то мучение. Парень придет, на танцы зовет или в парк, а Любка разве понимает что? Уцепится за подол – и в рев: я тоже хочу, возьми меня с собой! Может, Вероника и поцеловалась-то так поздно в первый раз – в двадцать один год, – что был у нее этот груз на плечах, драгоценная младшая сестренка. Первый поцелуи – в двадцать один год! Ну где это слыхано? Конечно, Вероника любила ее, ну как старшей сестре не любить младшую, само собой; но и горя ей пришлось хлебнуть с ней – тоже верно.
Любка такая уж уродилась – нервная, взбалмошная, озорная, непослушная, упрямая, – не жизнь с ней была, а борьба. Но с другой стороны – она росла смелая, добрая, с невероятной фантазией, – какое-то соединение несоединимых качеств, и вот такое чадо нужно было поднимать на ноги, направлять, воспитывать, – сколько на это ушло у Вероники собственного детства и юности, а кто это оценит, поймет теперь?
Помнится, однажды младшая сестра без обычных своих капризов отпустила старшую на свидание, а вечером следующего дня прибежала домой в разорванном платье и в разорванных чулках – дралась с парнями. Люба ничего так не боялась, как гнева матери, когда, прежде чем выпороть, мать говорила повелительным тоном: «Люба, сядь со мной рядом на диван, выкладывай, деточка…» – а потом эта деточка получала заслуженную порку. Но вот это предварительное сидение на диване было самой страшной пыткой для Любы: рассказывать она ничего не рассказывала, только дулась, мялась, а мать тем временем накалялась и, накалившись, говорила сдержанно-злым голосом:
– Ну-ка, снимай штаны… – И начинала учить жизни.
Вот это последнее было для Любки бесполезным: боли она не боялась. Никакой. Она вообще была неуправляемой всю жизнь и никогда ничего не боялась. Только одного – вкрадчивого голоса матери с многообещающими нотками.
А тогда Вероника первая увидела беду Любы. Сжалилась над ней (она же выручила вчера, отпустила на свидание). Спрятались обе от матери, и Вероника давай сама штопать чулки и платье. Тут-то мать и застукала их. Всыпала на этот раз не только Любке, но и Веронике. А ей ведь шел тогда семнадцатый… И мать не посмотрела, лупила ее ремнем, не обращая внимания на внутренний голос: может, зря я, вон уж заневестилась она, а я…