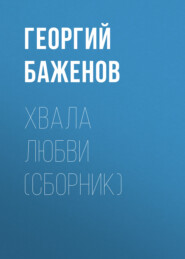скачать книгу бесплатно
– Иди, работай, художник! Хватит лясы точить. Ну?!
Гурий пожал плечами, съежился, как поколоченный пес, и поплелся в комнату: может, работать, а может – просто так сидеть, думать, мечтать.
Глава IV
…Той весной Бажену исполнилось чуть больше года, и хорошо, конечно, было бы прожить с ним долгое благодатное лето на чистом воздухе, в родном домашнем приволье.
Что делать в Москве? Нечего делать. И Вера с Баженом уехали на Урал, в родной поселок. Чуть позже, с началом летних каникул, должен приехать в Северный Гурий с ребятами, а пока Вера с Баженом отправились на Урал вдвоем.
Огород копали сразу после майских праздников. Земля подсохла; лишь кое-где, по низким затененным мыскам близ заборов или надворных построек прощально полеживал ноздревато-крупистый грязный снежок, однако по огородью земля мягко, желанно принимала хозяйскую стопу, будто прося: вскопай, взрыхли, окропи меня семем – буду тебе благодарна, воздам сторицей, придет только время… Правда, на Верин вопрос: «Не пора ли копать?» – отец только хмыкнул: мол, рано девке подол задирать, коли еще не заневестилась, но Вера не послушалась отца, вышла на огород с лопатой – не терпелось окунуться в горячую желанную работу. А что до хмыканья отца, то она его вполне понимала: все еще не может простить, что не по-людски у дочери получилось: сначала родила, потом в невесты угодила. Да и в невесты ли еще? В жены ли настоящие? Вот жизнь-то покажет, ох, покажет…
Копать Вера начала с дальнего уголка огорода, от той березы, которую отец посадил, когда двадцать один год назад появилась на свет божий Верунька. Теперь, рядом с Вериной, давно окрепшей, густо-тенистой в летнюю пору березкой поднялся еще один росток. Посадила его сама Вера в прошлом году в честь рождения Бажена. И росток этот был не березка, а крохотный кленок, во славу мужичка, который, как ни хмурился Верин отец, все же продолжал именно его род, отцовский: фамилию Вера носила прежнюю – Салтыкова, под этой же фамилией жил и Важен.
Рядок за рядком продвигалась Вера вперед, копала неспеша, с упоенным чувством живой телесной радости, которая окатывала ее иной раз с головы до ног как бы совершенно без причины, просто от избытка чувственного наслаждения: теплое солнышко, теплая земля, горячая испарина по спине и плечам, рядом копошится крохотный ее сынок – с детской лопаткой в руке, чумазый, с белозубой простодушной улыбкой на пышнощеком лице… может, это и есть счастье?
Она не думала об этом, просто испытывала радостную слиянность нынешнего душевного настроя и того дела, которым занималась в эти минуты. Да еще дом родной рядом, да сынок-глупышок копошится поблизости, да еще и сам воздух словно напитан сладостью собственных детских воспоминаний и радостей…
Что еще человеку надо?
Конечно, посмотреть на ее жизнь сторонним взглядом – ой сколько бед да сложностей навалилось на молодую девку, уехавшую искать счастья в Москву, а с другой стороны, вот она, Верка, нисколько не потерявшая себя в столицах, не растерявшаяся от неожиданностей и козней жизни, наоборот, с достойным терпением несущая свой жизненный крест на щупленьких, будто еще совсем девичьих плечах. Откуда это в ней?
Ведь тогда, давно, в тот первый день, когда она осталась одна в общежитии, в той комнате, которая должна была стать для нее родным жилищем на долгие-долгие годы, когда опустошенно присела на краешек жесткой казенной кровати, ведь тогда именно душу ее окатил неожиданный и непонятный ужас, тоска окатила, страх, одиночество. И так стало жалко самое себя, что невольно, как у бездомного щенка, вырвался из груди стон не стон, а словно поскуливание какое-то, повизгивание, и она, обхватив голову руками, повалилась лицом на подушку и долго рыдала-плакала, пока в конце концов не унялась, не успокоилась от бессилья и душевного опустошения.
Странно, мечта ее, казалось бы, сбылась: она в Москве. Устроилась в ремонтно-строительное управление по лимиту, ей дали общежитие, живи, работай, радуйся, а она вдруг впала в страх, в тоску, в отчаяние. И, пожалуй, сильней, чем в этот первый день, никогда более не испытала такого страстного желанья уехать, бросить все: Москву, работу, комнату, лишь бы вернуться домой, ко всему привычному, знакомому, родному.
Вот когда она почувствовала (тогда, в тот первый день в чужом казенном общежитии): юность кончилась – началась новая, одинокая, серьезная, взрослая жизнь.
Да, почувствовала это. Страхом, тоской, отчаянием, захлестнувшими душу, почувствовала.
Но поняла ли? Осознала ли до конца?
Нет. Не поняла. Не осознала до последнего предела. Не могла еще осознать. Ибо слаба была душой. И телом. И духом.
Оттого и мучилась так долго. Оттого и слез столько пролила, прежде чем твердо, ясно и окончательно поняла однажды: она – взрослая. И спрос с нее – тоже как со взрослой.
Но до осознания этой истины много должно было воды утечь…
Ведь и Сережа Покрышкин, первый ее настоящий ухажер, первый мужчина, по сути дела, оказался случайным эпизодом в жизни. И все по той же причине: ей было страшно, одиноко, трудно и тревожно в Москве, не к кому прислониться плечом, а тут вдруг сразу поддержка, защита, сила, уверенность в себе. Дан хотелось как-то показать окружающим, девчонкам по комнате, что и она не лыком шита, ей все нипочем, все она знает, все умеет, во всем разбирается. А в результате…
Да ладно, Бог с этим со всем, чего теперь вспоминать!
Вера воткнула лопату в землю, отбросила со лба влажную прядь волос, повернулась лицом к солнцу и сладко прищурилась под его теплыми ласковыми лучами. Господи, сколько ни мотайся по свету, где только ни живи, а нет ничего лучше родного дома, вот этого свежего струистого воздуха, этого нежного тепла весеннего пригревающего солнышка, которое бывает таким только здесь, на родине, и только вот в эту пору, в майские благодатные дни. Казалось бы, жить да жить в родном гнездовье, так нет, все нас носит где-то по свету, все ищем счастье на стороне, вдали от родительских пепелищ. А находим ли счастье? Когда как… иногда находим, но чаще всего – нет, наоборот, теряем последнее, что имеем.
Может быть, думала Вера, это последняя моя свободная весна, последнее вольное лето, потому что осенью Бажену исполнится полтора года, придется возвращаться на работу, заниматься делом, которое вовсе не по душе, которое просто кормит тебя, дает средства для существования.
И так будет продолжаться всю жизнь? Может быть, может быть…
– Мамка, ты чего стоишь? Чего лин-тян-нича-ишь? – вывел ее из раздумий Важен, и Вера легко отмахнулась от мыслей, улыбнулась сынку:
– Ишь строгий какой, прямо инспектор! Ну, давай будем копать дальше, давай.
Наблюдая за ними с крыльца, наконец не выдержал и Верин отец Иван Фомич, подошел к ним с лопатой в руках:
– Устыдили мужика. Ладно, Бог в помощь!
– Становись рядом, отец. Втроем-то мы ого-го как быстро махнем!
– Ого-го! – поддержал их малыш и весело рассмеялся: забавно ему было повторять такое смешное «ого-го».
…К полудню вскопали две больших гряды, и хотя земля, действительно, была еще сыровата, можно бы и подождать с копкой, отец рассудил так:
– Ничего, солнышко погреет, ветерок посушит – в самый раз выйдет. Зато первые с картохой будем, так-то, ребята!
Шестого июня, в день рождения Поэта, приехал из Москвы Гурий, привез на лето старших сыновей Валентина и Ванюшку. Сам Гурий устроился жить в материнском доме, а Валек с Ваньком – в доме Ульяны, с бабушкой Натальей и дедом Емельяном. С тех пор, как Гурий ушел от Ульяны, он всегда сам привозил сыновей на Урал, но жили они не с ним, а с родителями Ульяны.
Так и получалось: Вера с Баженом – в одном доме (отец Веры не хотел признавать Гурия за дочериного мужа: не расписан – не муж); Гурий – в другом доме (со своей матерью Ольгой Петровной); Валентин с Ванюшкой – в третьем доме (у бабушки с дедушкой – с родителями Ульяны).
И все – соседи между собой; рядом друг с другом, но – не вместе. Вот какая штука.
Больше всех томился от этой несуразности Гурий. Во-первых, угнетало чувство вины, во-вторых, чувство неопределенности. Выходил утром из дома, садился на крыльцо – вон через забор, рядышком, строят самокат Ванек с Вальком. Бросал взгляд направо, через другой забор, – там грузит песок в детский самосвал Важен. Младший сынок работает самозабвенно, пыхтит, не замечает отца. А Валентин, тот сразу усмотрел Гурия, кричит:
– Папа, а как тут подшипник крепить, а?
Гурий, сонный, припухший, идет в одной майке к забору; идет огородом, по узким бороздкам между грядами; взошла уже картошка, полезли морковь, свекла, горох; огурцы расправляют листочки, редиска пошла в рост; пахнет свежестью, зеленью. У забора Гурий останавливается, говорит старшим сыновьям:
– Штырь надо потолще, понятно?
– А как крепить? – спрашивает Ванюшка.
Ну, разве объяснишь на словах? Гурий перемахивает через забор, подходит к ребятам. Через минуту забывает обо всем на свете, увлекается, как в детстве, вспоминает до мельчайших подробностей, как сами они, пацаны, в далекие послевоенные годы мастерили самокаты. Тогда не то что сейчас – тогда с подшипниками туго было, пойди достань! Да еще разных калибров… А сейчас? Сейчас подшипник найти – плевое дело, любого диаметра. Но вот смастерить самокат – тут, братцы, все равно смекалка нужна, и Гурий берется за ножовку, молоток, гвозди, начинает открывать сыновьям премудрые секреты самокатостроения. Причем что приметил давным-давно Гурий – что быстрей всех схватывает секреты – буквально на лету – Ванюшка; видать, мастеровой парень вырастет. Гурий и сам, надо сказать, в детстве сообразительным был, многое умел делать своими руками, за многое брался (и получалось, вот что главное), а с годами растерял навыки, разучился инструмент в руках держать; не то что починить что-нибудь в Москве, гвоздь толком не может в стенку вбить, вот до чего дело дошло. Или тут художество его виновато? захватило целиком? душу в плен взяло? Бог его знает.
Гурий вбил в ядро подшипника крепкий дубовый околышек, сквозь дерево пробил негнущийся стальной штырь в полмизинца толщиной, вставил подшипник со штырем в прорезь широкой доски, на которой будет стоять опорная, а не толчковая, нога, и гвоздями-скобами, предварительно остро обкусанными обыкновенными плоскогубцами, намертво закрепил штырь на доске.
– Вот так! – удовлетворенно хмыкнул он и даже, что редко с ним бывало, хвастливо прищелкнул языком: знай, мол, наших
– Спасибо, папа! – в один голос закричали ребята: подшипник, действительно, был накрепко приделан к доске.
Вдруг чувствует Гурий – кто-то трется около его правой ноги, пыхтит-сопит напряженно. Смотрит, а это младший его сынишка Важен, тоже рядом копошится. И главное – даже с самосвалом своим оказался тут.
– Ты еще откуда, пострел? – улыбнулся Гурий.
– Вон, видишь, дырка? – показывает Важен на забор. – Я там лазю. Я всегда! – и с гордецой это говорит, с самоупоением.
– Эх ты, клоп, – нажимает ему на нос Ванюшка, – все бы тебе в дырки лазить. А если б застрял?
– Не, не застрял. Я ух какой!
И все они, четыре родных мужичка, весело смеются.
– Я-то думаю: кто тут с утра веселится? А это вон кто. – Неожиданно к ним подходит мать Ульяны, бабушка Наталья Варнакова, первая теща Гурия. – Ну-ка, ребятня, пошли завтракать!
– Ну-у, бабушка-а, – недовольно заканючили пацаны, – мы потом, попозже…
– Быстрехонько, быстрехонько! – заворчала бабушка Наталья. – Ишь, спозаранку мастерскую тут открыли.
– Мы потом, – продолжали упрашивать ребята. – Ну-у, бабушка…
– Ладно, сынки, идите завтракайте, – поддержал тещу Гурий. – Самокат позже доделаем.
– И я с вами, – закричал Важен, – я тоже!
– Ага, пошли и ты с нами, – погладила его по голове бабушка Наталья. – Яичницу любишь?
– Не, я не есть, я самокат, – нахмурился Важен.
– Ну, пошли, пошли с нами, клоп, – Ванюшка подхватил младшего братца на руки. – У бабушки яйца не простые…
– А какие?
– А золотые… правда, бабушка?
– Правда, Ванюшка, правда, – улыбнулась мать Ульяны.
– Тогда ладно. Тогда пошли, – согласился Важен.
– Может, и ты с нами за компанию? А, Гурий? – как ни в чем не бывало спросила Гурия бывшая теща.
– Да нет, я уже позавтракал, – смутился Гурий. – Спасибо.
– А то смотри, – улыбнулась теща. – У меня к закуске и погорячей что найдется…
– Да нет, ладно, не надо, потом… – забормотал Гурий. – Спасибо.
– Вольному – воля, – вздохнула мать Ульяны. – Ну, пошли, ребятня!
И тройка братцев отправилась, как за наседкой, за нахохлившейся бабушкой Натальей в дом Варнаковых.
Гурий перемахнул через забор, снова уселся на крыльцо.
– Эй, муженек, – услышал вдруг, – здравствуй! Баженчика не видел?
Смотрит – за соседним забором стоит Вера, в легком цветастом сарафане, с открытыми, начинающими полнеть, но все равно такими прекрасными и родными плечами, улыбающаяся, свежая, прямо золотистая какая-то, светящаяся.
– К Варнаковым убежал, – ответил Гурий. – Завтракать его позвали.
– Ну и ладно, – продолжала улыбаться Вера. – Ты-то чего делаешь?
– Да вот, сижу…
– Приходи завтракать!
– Да нет, я уж как-нибудь тут перебьюсь.
– Чего ты? Дома все равно никого нет. Отец в лес уехал, мачеха в магазин ушла.
– Лучше ты сама приходи.
– Ох, дожили, – смеется весело Вера. – Жена мужа завтракать приглашает, а муж жену на свиданку зовет.
– Доживешь тут. С такой-то жизнью.
– Кто у тебя дома-то? – игриво спрашивает Вера.
– Мать дома, кто еще, – говорит Гурий.
– Ну вот, – огорчается Вера. – Не обнимешь тебя… – И вдруг переходит на шепот: – Гурий, Гуричка, ну иди ко мне, иди, я соскучилась. Честное слово.
– Да ты что, дурочка, белены объелась? Средь бела дня?
– Гуричка, честное слово, соскучилась. Ну, чего ты? Иди, ну иди, пока никого нет… ни ребят, ни отца с мачехой.
Гурий, странное дело, воровато оглядывается и вдруг, лихо гикнув, перемахивает через забор – прямо в объятия жены; правда, жены незаконной, не расписанной с ним… Но им-то какое дело?
Потом, когда они лежат в чулане, опустошенные счастьем близости и взаимной нежности, они долго и смешливо шепчутся обо всяких пустяках, но постепенно жизнь как бы отрезвляет Гурия, он начинает жаловаться Вере, что трудно ему здесь, неуютно как-то и неприкаянно, дома косятся, у тебя косятся, у Ульяны – тоже косятся… Не знаешь, куда и спрятаться от всех.
– А ты не обращай внимания, – шепчет, успокаивает его Вера. – Я тебя люблю. Сыновья любят. Это главное. А остальным до нас дела нет.
– Да что я как вор здесь живу?! На улицу выйдешь: «Гурий Петрович, – подзуживают соседи, – как Ульяна поживает? Как Вера? Ах, какие они обе у вас хорошие, красивые, пригожие! А детки? Сыночки? Ну просто прелесть… И главное – все на вас похожи. Вот счастливый отец!»
– И правда, – тихо смеется Вера, – не счастливый, что ли? Плюнь ты на этих соседок, им самое важное – языки почесать. Вот и все.
– Может, уехать мне?
– А мы на все лето одни здесь? Да ты посмотри, как сыновья к тебе тянутся. Вот и пользуйся моментом, воспитывай их. Сколько раньше переживал: как Ваня с Валей будут жить без меня?! Ну вот, они рядом – что же ты? Радуйся!
– Да они-то рядом… Это верно. Зато сколько косых взглядов вокруг?
– Плюнь, не обращай внимания. Лучше поцелуй меня! Еще, Гуричка, еще… вот так. Ах ты мой глупый, любимый, страдалец ты мой… Люблю тебя, люблю, люблю!
Иногда Гурий не выдерживал, уходил из дома.
Как прежде, как много лет назад, брал с собой альбом, карандаши или гуашь и бродил то по лесу, то забирался на Малаховую гору, а то оказывался на Высоком Столбе, откуда по-прежнему открывались безмерные уральские дали, леса, дороги, синие пруды и долгие извилистые речки – Чусовая и Северушка.
Опять и опять он делал наброски, эскизы, мучился все той же прежней идеей: хотел разом выразить суть жизни в каком-то одном рисунке, который бы объял собой все – и смысл, и красоту, и глубину, и единственность жизни. Однако странное дело: теперь, когда он стал старше, умней, опытней, эта идея еще больше ускользала от него: рука слушалась, но сердце молчало. Раньше сердце его разрывалось на части, кричало, неистовствовало, было переполнено горделивой мечтой поразить мир прекрасной совершенной картиной, ибо чувственная предтеча этого совершенства явственно ощущалась в душе, только нужно было передать ее через линию и красоту рисунка; а теперь? А теперь душа оставалась холодной и пресной, то есть никак не подключалась к тому, что назвал он «сердцем работы». Словно душа его – это одно, а рисунок, линия – совсем другое. С некоторого времени он стал все явственней ощущать в себе эту двойственность состояния, и это раздвоение мучило его не меньше, чем прежняя неопытность, когда не слушалась рука и не подчинялась линия; теперь – рука слушалась, линия подчинялась, но рисунок получался неодухотворенным, холодным и пустым, ибо оставался лишь слепой копией жизни.
Раздосадованный, опустошенный, Гурий возвращался домой, где тоже не находил себе места: здесь на его глазах продолжалась прежняя несуразная жизнь, и причиной несуразности был прежде всего он сам, Гурий Божидаров. И еще сильней начинало угнетать чувство вины, ирреальность происходящего.
Впрочем, почему ирреальность?