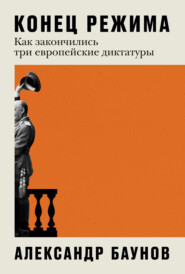скачать книгу бесплатно
Республика пыталась приструнить сторонников различных утопий в своих рядах, но справилась с задачей лишь частично, и было уже поздно. Воевавший за республиканцев Оруэлл с горечью замечал, что защитники республики поставили себя выше ее законов. Мятежники-националисты еще меньше связывали себя с законами государства, с которым собирались покончить.
Муссолини и даже представители Гитлера просили Франко разрушать, убивать и казнить поменьше, ведь ему же потом здесь править, но целью Франко было не только отвоевать страну, но и максимально очистить ее от тех, кто не принял его правления. У затяжной кровавой войны тут были свои преимущества: она давала время приучить граждан к той степени жестокости, к которой они не привыкли в мирное время, превратить тысячи ежедневных смертей на фронте и в тылу в рутину. Долгая война предоставляла возможность уничтожить или изгнать нелояльных граждан, которые остались бы в стране в случае успеха быстрой и относительно бескровной операции по захвату власти.
Иными словами, если бы военные захватили власть быстро, они вынуждены были бы делить ее с политиками, а те стали бы слушать недовольных граждан, но долгая война превратила самих военных в политиков, перешедших на их сторону политиков сделала военными, а недовольных, готовых протестовать, попросту не осталось.
В довершение всего, гражданская война в Испании была частью глобальных процессов – как сказали бы позже, гибридной войной великих держав. Муссолини, Гитлер и консервативный диктатор соседней Португалии Салазар поддержали Франко. Они послали ему на помощь войска, которые сражались официально в своей форме или изображали добровольцев в испанской. Они отправили с этими войсками свое новое оружие. Для Германии, униженной проигрышем в Первой мировой войне и Версальским миром, испанская война была возможностью показать главным соперникам, либеральным демократиям Запада, что те вновь имеют дело с великой державой. Италии, Германии и Португалии не терпелось продемонстрировать, что авторитарные националистические государства эффективнее, привлекательнее, крепче духом и сильнее волей, чем коммунисты и буржуазные демократии, и не уступают им в промышленности и технологиях.
СССР и левые партии всего мира пытались использовать гражданскую войну в Испании, чтобы подтолкнуть западные демократии к антифашистскому альянсу поверх идеологических разногласий. СССР посылал в качестве помощи республике новейшую военную технику, советников и специалистов, левые партии планеты – бойцов для добровольческих интербригад. Москве тоже было важно доказать хозяевам мира – Британии, Франции, США – бывшим союзникам России по Первой мировой войне, – что они вновь имеют дело с великой державой и лучше объединиться с ней против общего врага, чем отталкивать ее в объятия этого врага. Буржуазным демократиям было непросто решиться на такой альянс в 1936–1939 гг., когда на советских граждан обрушился массовый террор, а среди специалистов, которых СССР отправлял в Испанию, были инструкторы по репрессиям из НКВД.
Сами буржуазные демократические империи тестировали возможность сохранить без новой войны или союза с коммунистами свое доминирование в мире, в котором Германия восстанавливала силы и с каждым днем наращивала амбиции в союзе с другими правыми диктатурами. Им хотелось понять, где проходят красные линии нового баланса сил, в чем нужна твердость, а где можно уступить.
Среди того, чем решили пожертвовать, оказалась Испанская республика. Англия и Франция сначала придерживались дружественного республике нейтралитета, но по ходу событий признали Франко и не пошли на союз против него с коммунистами. Все помнят, как западные державы, подписав Мюнхенское соглашение, уступили Германии Чехословакию, но мало кто вспоминает, что тогда же, даже чуть раньше, они уступили Испанскую республику. Неудача с созданием антифашистской коалиции с западными странами в то время, когда армии фашистских государств участвовали в боевых действиях против законного правительства одной из европейских стран, еще до соглашения в Мюнхене повлияла на внешнюю политику СССР.
Параллельно с боями на фронте и репрессиями в тылу шла информационная война, в которой принимали участие журналисты и пропагандисты самых разных стран и направлений, а стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях. После бомбардировки баскского города Герники немцами Франко и его пропагандистская машина пыталась убедить мир, что республиканцы взорвали город сами, и еще долго в ответ на очевидные факты и наперекор великому полотну Пикассо рассказывали о бочках из-под динамита и прочих «доказательствах» республиканской провокации.
Для тех, кто поддержал Франко, гражданская война складывалась из нескольких процессов, таким же многослойным получился результат. Установление диктатуры Франко было не только победой сторонников обновления власти и общества через построение эгалитарной фашистской утопии, но и реваншем старой монархической и буржуазной элиты, чьи позиции подорвала республиканская революция 1930-х.
Каждая группа по отдельности была недостаточно сильна, чтобы сломить республику, вместе они составили прочный фундамент диктатуры. Однако в этом фундаменте, в самом лагере победителей, сохранялась вечная трещина – разногласия между теми, кто рвался обновить испанское общество, основываясь на модных тоталитарных теориях национальной и классовой солидарности, и теми, кому было достаточно вернуть, пусть с небольшими модификациями, монархический статус-кво – Испанию, которую они потеряли.
Победители гражданской войны и сами не могли дать точного ответа на вопрос, является ли личная диктатура военного вождя Франко новым политическим строем Испании, ее будущим, или это временное, переходное устройство государства до возвращения назад, в прошлое, к монархии, возможно конституционной. Фигура Франко объединила сторонников национал-революционного и консервативно-монархического проектов, но не примирила их полностью. Аристократы, землевладельцы, промышленники, церковь, консервативные и даже либеральные интеллектуалы поддержали Франко как временного спасителя от анархистов и коммунистов, но не симпатизировали крикливому плебейскому национализму фалангистов.
Кроме того, двусмысленность мандата Франко была обусловлена его военным происхождением. В разных странах военные время от времени совершают или пытаются совершать перевороты, корректирующие курс государства. Они нередко делали это и в Испании. Обычно военные объявляют, что их задача временная – навести порядок и уйти. После этого власть предполагается передать гражданскому правительству или монарху.
Откуда берется представление военных и прочих силовиков о своей особой миссии в развивающихся странах, понятно. Первым делом правители отстающих стран модернизируют армию, чтобы не проиграть на поле боя и не лишиться власти, поэтому офицеры оказываются там передовым сословием; общество доверяет армии больше, чем другим государственным институтам, а элита дает детям военное образование. В догоняющих развитые страны обществах нет четкой границы между армией и политикой, военным командованием и гражданской бюрократией. Испания пережила период бурного экономического и политического развития на рубеже XIX и XX вв. и миновала этот этап. Ее элита давно не была исключительно военной, но военные продолжали считать себя ее элитой и действовали соответственно.
Хотя сам Франко еще во время гражданской войны сделал все возможное для того, чтобы остаться у власти надолго, многие сторонники воспринимали его мандат как временный: спасти страну от хаоса и уйти. Но страх возобновления смуты, боязнь реванша побежденных и неясность ответа на главный вопрос – кому передать власть после того, как военные наведут порядок: живущей в изгнании королевской семье, как хотели монархисты, или националистической тоталитарной партии, чего желали фалангисты, – привели к тому, что Франко не ушел, когда с республикой было покончено.
Силы, которые обрели равновесие с приходом Франсиско Франко, опасались, что оно будет нарушено не в их пользу при передаче власти другому лицу, а Франко искусно манипулировал страхами различных групп своих сторонников. В итоге Франко сам стал вождем фашистского типа и одновременно чем-то вроде регента при пустующем троне и остался у власти до конца жизни. Длительный авторитарный режим возникает, когда элиты расколоты вопросом о том, кому и как передать власть, опасаются непредсказуемости событий в процессе передачи и в конце концов предпочитают статус-кво. Режим, возникший как временный результат игры исторических сил, оказался ее долгосрочным итогом.
Правитель-воин и правитель-колдун
В 1976 г., когда испанский авторитарный режим отменил сам себя, Испания оставалась последней диктатурой в Западной Европе. Но за 40 лет до того она не была одинока. Весь XIX в. народы Европы стремились к представительной парламентской демократии, и многие ее добились. Однако после почти повсеместного торжества идеи парламентаризма «конца истории» не произошло. В начале ХХ в. Европу накрыла мировая война, а за ней экономические проблемы Великой депрессии. Люди начали искать новые формы государственного устройства, альтернативные скомпрометировавшей себя рыночной демократии, а политики – предлагать их.
К концу 1930-х гг., когда Франко пришел к власти, на континенте остались считаные демократические государства, но и в них набирали силу сторонники авторитаризма. Строя свое государство, Франко брал пример не только с Италии, Германии или далекой Венгрии, но и с соседней Португалии, где за несколько лет до него установил свой консервативный авторитарный режим Антониу Салазар. Так же, как Франко, он оставался у власти почти 40 лет, а его режим продержался и того дольше – тоже до середины семидесятых. Так что жили они вместе долго, не всегда счастливо, но умерли почти в один день.
Португалию, в отличие от Испании, где правил военный диктатор Франко, возглавлял гражданский диктатор, профессор-экономист Антониу ди Оливейра Салазар, чье ближайшее окружение вышло из аудиторий, а не казарм. Для спасения экономики он в конце 1920-х гг. потребовал чрезвычайных полномочий, и военные, которые после 15 лет политического хаоса захватили власть в молодой португальской республике, после некоторых колебаний их предоставили – и как раз вовремя: через год началась Великая депрессия.
Салазар действительно помог поднять национальную экономику. Он успешно сбалансировал бюджет и торговый баланс, справился с инфляцией и сократил огромный внешний долг – с 44 % ВВП на момент, когда он в 1928 г. стал министром финансов, до 15 % к 1935 г. и до 5 % к 1940 г. В награду за это в 1932 г. Салазар получил кресло премьер-министра, опять же с чрезвычайными полномочиями.
Салазар, как и Франко, пошел по модному в то время пути строительства корпоративного государства и органической суверенной демократии, которую противопоставлял и парламентской буржуазной демократии, и коммунизму. Свой режим он назвал без затей – «Новое государство», и граждане под полным контролем властей дружно приняли на референдуме его конституцию. В отличие от Франко, Салазар никого не свергал и не завоевывал, официально его государство продолжало называться Португальской республикой, унаследовав республиканские символику и институты, в которые Салазар влил свое, новое содержание.
В «Новом государстве» существовала единственная разрешенная, она же правящая партия «Национальный союз». По замыслу она должна была объединить всех патриотически настроенных португальцев, но в действительности была партией номенклатуры. У Салазара существовала и своя ручная фаланга – Португальский легион, члены которого носили не синие, как испанские фалангисты, а зеленые рубашки. Как и в Испании, революционным эгалитаристским течениям в «Национальном союзе» противостояли представители старой элиты, но местных монархистов Салазар во власть не взял. Легионеры в зеленых рубашках помогали политической спецслужбе PIDE (Международной полиции защиты государства) бороться с коммунистами и другими врагами родины и традиционных португальских ценностей.
Традиционные ценности формулировались без затей: Бог, отечество, семья. Кроме них, португальцам предлагалось верить в историческое избранничество своей нации, чья глобальная миссия состоит в строительстве особой лузитанской цивилизации на разных берегах океанов. Согласно этой доктрине, португальцы, в отличие от других европейцев, не банальные колонизаторы, а уже полтысячелетия первооткрыватели и творцы новых миров. В этих мирах переселенцы и местные равны и свободно смешиваются, создавая многообразие лузитанского мира. Поэтому Португалия – не очередная империя с колониями, а отдельная самобытная цивилизация, единый межконтинентальный народ. Впрочем, эта идея существовала до Салазара и пережила его режим.
Салазар поддержал мятеж испанских генералов против республики и отправил на испанскую войну добровольцев. Как и диктатуру Франко, государство Салазара многие называли фашистским, но при его рождении Салазару пришлось противостоять настоящим фашистам, которым профессор-экономист у власти казался слишком элитарным и буржуазным. Но и Франко, чтобы подчинить фалангу, пришлось избавиться от самых непокорных и самостоятельных ее лидеров.
Франко любил грандиозные митинги и парады, Салазар, насколько возможно, избегал общения с толпой. Улицам и площадям он предпочитал актовый зал, а лучше кабинет. От южного народа, которым он управлял, Салазар отличался почти скандинавской замкнутостью и холодной таинственностью. Он буквально правил из башни. Впрочем, Франко тоже не был карикатурным темпераментным испанцем, он был родом с испанского севера, из атлантической Галисии, которую в остальной Испании считают прохладной и туманной, и многим казался несколько малахольным, особенно для всемогущего правителя в погонах.
И все же, несмотря на округлость фигуры, небольшой рост и тихий голос, Франко был военным вождем, рыцарем и конкистадором. Он видел себя крестоносцем, который отвоевал Испанию у новых мавров – безбожных коммунистов. Салазар унаследовал другой древний, архетипический образ власти – мудрого сурового пастыря и даже колдуна и алхимика, который в библиотечной тиши придумывает рецепты народного счастья. Пропорциональностью и благородством черт он опровергал расхожие физиогномические теории о том, что во внешности диктатора обязательно должно быть что-то злое, жестокое или уродливое. Его строгий, почти епископский облик, длинное малоподвижное лицо с всегда слишком аккуратно зачесанными назад волосами, скупая жестикуляция, тонкий голос проповедника прекрасно соответствовали его роли ученого диктатора-монаха.
Салазар вел затворническую жизнь и, будучи почти невидимкой, управлял огромной империей из скромной резиденции в тени парламентского дворца Белен и со своей приморской дачи в Эшториле на берегу океана. Он мало ездил по стране, ни разу не побывал в ее обширных заморских владениях и выбрался за границу только однажды – в Испанию на встречу с Франко.
В то время как Франко охотно демонстрировал свою семью, за которой с почтительной жадностью следили испанские таблоиды, ревностный католик Салазар всю жизнь оставался холост и бездетен, а его личная жизнь для всех была покрыта тайной. Бывший семинарист и действительный профессор, Салазар, похоже, представлял себе государственную машину как некий правящий монашеский орден и велел чиновникам управлять людьми на манер духовных лиц, окормляющих паству. Это был совершенно иной, чем у Франко, но, как оказалось, не менее эффективный способ очаровать и подчинить страну.
Великое одиночество
Тяжелое испытание на прочность для любого режима – соперничество ведущих мировых держав, глобальных полюсов, разрывающих мир на части. Оно тяжелее вдвойне, если конфронтация принимает форму мировой войны. Неверный шаг может стать роковым, зато будущий победитель щедро вознаградит тех, кто вовремя выберет его сторону. Ставки высоки, и государства запрашивают за свой выбор удвоенную цену. Правитель, который ошибся стороной, может потерять поддержку населения, а вместе с ней – власть. Именно поэтому Франко и Салазар медлили с выбором.
Испанский и португальский режимы гораздо больше походили на фашистские государства Италии и Германии, чем на западные демократии, а от большевистской России их отделяла пропасть частной собственности, клерикализма и антикоммунизма. Тем не менее Испания и Португалия остались нейтральными во Второй мировой войне. Дело не только в осторожности Франко и Салазара, но и в том, что воюющим сторонам не удалось договориться с ними о цене рискованного выбора.
Франко тянуло в сторону Гитлера и Муссолини не только потому, что они помогли ему победить в гражданской войне. Всех троих объединяло возмущение несправедливым мировым порядком, где доминируют «лицемерные англосаксы» и их подпевалы – меркантильные бездуховные французы. Однако немцам казалось, что Испания просит за свое вступление в войну слишком большую цену, а испанцам – что слишком многого, например один из Канарских островов, хочет Германия.
С единственной личной встречи с Франко, которая состоялась осенью 1940 г. на границе Испании и только что покоренной вермахтом Франции, Гитлер уехал ни с чем, ругая «хитрого испанца». Франко мечтал расширить свою империю за счет французских колоний в Африке. Гитлер не хотел ради удовлетворения амбиций Испании окончательно отталкивать от себя французов. В тот момент ему было важно, чтобы они не чувствовали себя изгоями будущего мирового порядка, который наступит после победы Германии. Вдобавок в Берлине сомневались, что Испания, которой не хватало продовольствия, оружия и топлива, сможет защитить себя и свою территориальную добычу в случае вступления в войну.
Океанская Португалия держалась еще дальше от Германии и ближе к Британии. Салазар пришел к власти без помощи Гитлера и Муссолини, а его страна все еще была империей на нескольких континентах. Рассорившись с господствующей на морях Британией, она почти наверняка потеряла бы заморские владения. К тому же Англия была традиционным союзником Португалии, защищавшим ее суверенитет, в том числе и от большого испанского соседа. Даже Франко, бывало, рассуждал о том, что отдельная Португалия на Иберийском полуострове – географическая нелепица.
Накануне мировой войны, в марте 1939 г., Франко и Салазар подписали в Лиссабоне пакт Иберийского нейтралитета и в целом остались ему верны, несмотря на множество искушений. В благодарность за помощь Германии в гражданской войне Франко согласился отправить на Восточный фронт добровольческую «Голубую дивизию». Португалия в 1943 г., после перелома на фронтах, напротив, сблизилась с союзниками и предоставила им в аренду базу на Азорских островах. У Франко не было даже такой возможности встать на сторону будущих победителей, да ему и не предлагали.
Демократические правительства в своей внешней политике исходят из необходимости побеждать на выборах, авторитарные – из того, какой курс поможет им остаться у власти. Не ради самой власти, уверяют они, а ради суверенитета страны и сохранения ее неповторимых ценностей. Но что делать, если наиболее выгодный для удержания власти внешнеполитический курс противоречит этим ценностям, самой природе режима и даже полному суверенитету?
В мировой войне победили либеральные демократии Запада и советская коммунистическая диктатура. И те и другая были страшно далеки от режимов Салазара и Франко. Консервативные диктатуры Иберийского полуострова оказались зажаты между собственной идеологией и внешнеполитической необходимостью. Идеология помогала мобилизовать внутреннюю поддержку, но увеличивала риск внешнего давления – вплоть до угрозы свержения режима извне. Резкая смена внешнеполитического курса могла разрушить консенсус элит в стране и ободрить те силы, которые хотели бы сменить режим изнутри. В послевоенные годы обе диктатуры решали одну и ту же задачу: как сблизиться с победителями во внешнем мире и сохранить власть и господствующую идеологию внутри своих стран. Без своей, особенной идеологии невозможно было объяснить гражданам, почему режимы, сближаясь с демократиями, остаются авторитарными. Салазару этот маневр дался легче, Франко пришлось труднее.
Несмотря на формальный нейтралитет Испании, не только Советский Союз, но и западные державы-победительницы смотрели на Франко как на союзника Гитлера и вождя фашистского режима – с брезгливостью и нескрываемой враждебностью. Даже в начале 1950 г., когда уже вовсю шла холодная война, американский президент Трумэн говорил, что не видит разницы между сталинским СССР, гитлеровской Германией и Испанией Франко: все три – полицейские диктатуры. Еще хуже относилось к Франко правительство британских лейбористов Клемента Эттли, которое сменило кабинет Уинстона Черчилля на выборах 1945 г. Лейбористы – левая партия, члены которой еще во время гражданской войны помогали врагам Франко – испанским республиканцам.
Испанию не пригласили участвовать в плане Маршалла, щедром проекте восстановления послевоенной Европы, названном по имени его автора, дальновидного американского госсекретаря Джорджа Маршалла, который сумел посредством финансовой помощи привязать европейские страны к Америке и друг к другу, сгладив разницу между победителями и побежденными. Помощь по плану Маршалла получили даже бывшие военные противники США – Италия, Германия и сочувствовавшая им во время войны нейтральная и тоже авторитарная Турция, но не Франко.
Зато оказавшийся в оппозиции Уинстон Черчилль защищал Испанию – не из-за того, что режим Франко ему нравился, а потому, говорил он, что попытка его свергнуть может открыть дорогу к власти коммунистам. Именно это соображение – что дестабилизация может толкнуть Испанию в сторону СССР – спасло Франко от военной интервенции вчерашних победителей и от наиболее разрушительных санкций. Тем не менее Испанию не пригласили ни в НАТО, куда салазаровскую Португалию приняли сразу, ни в зарождающийся европейский общий рынок, ни даже в ООН. В одной из своих первых резолюций ООН призвала отозвать послов из Мадрида, и большинство стран – членов организации так и поступили, а Франция закрыла сухопутную границу с Испанией для торговли и помогала республиканским эмигрантам перебираться на родину для ведения партизанской войны против режима.
Испанское руководство и пресса отвечали на это разоблачением двойных стандартов мирового сообщества: Испания помогала державам гитлеровской оси меньше, чем другие нейтральные страны, вроде Швеции и Швейцарии, а пострадала больше. Ясно, что дело не в политическом режиме и не в отношениях с Гитлером, а в том, что Испания стоит на страже католических христианских ценностей, неугодных либеральным и коммунистическим хозяевам мира. Франко публиковал под псевдонимами в испанских газетах обличающие демократию статьи о том, что американское и британское правительства пронизаны агентами Кремля и боятся транснационального масонского капитала, в интересах которого вынуждены действовать. Ни в Вашингтоне, ни в Лондоне никто не сомневался в авторстве этих статей.
Дискриминация со стороны западного мира давала Франко повод не только бесконечно бранить так называемые демократические правительства, куда внедрились агенты коммунистов и «масонов», но и списывать внутренние трудности на происки внешних врагов. Международную изоляцию он успешно использовал для патриотической мобилизации.
Снятие блокады. Мир прогнулся под нас
Государства берут в друзья своих бывших противников, когда на горизонте появляется более мощный враг. В этом случае принципиальность уступает место прагматизму. На рубеже 1940–1950-х гг. произошли три события, благодаря которым Испания стала частью западной системы военной безопасности, а вместе с ней пусть дефектной, пораженной в правах, но частью западного мира.
В конце лета 1949 г. СССР успешно испытал атомную бомбу, осенью того же года коммунисты под руководством Мао Цзэдуна победили в гражданской войне в Китае, а летом 1950 г. корейские коммунисты начали военный поход с просоветского севера на контролировавшийся американцами капиталистический юг Кореи. Американские генералы решили, что ядерная держава СССР перестала бояться третьей мировой войны и готова к наступлению на Европу. Они считали, что разгромленная Германия и обессиленная немецкой оккупацией Франция, к тому же полная коммунистов и им сочувствующих, не остановят Советскую армию. А защищенная Пиренеями Испания может оказаться последним плацдармом Запада на европейском континенте, откуда потом придется начать новую реконкисту – отвоевание Европы у Сталина.
Франко всячески подыгрывал этому ходу мыслей. Он напоминал, что его армия и офицерский корпус сформированы в боях с коммунистами, что страна может поставить под ружье множество идейно мотивированных бойцов, и послал испанский воинский контингент на Корейский фронт воевать против красной опасности плечом к плечу с американцами и их союзниками из демократических стран.
4 ноября 1950 г. Генассамблея ООН большинством голосов поддержала возвращение послов стран – членов ООН в Мадрид: 38 «за», 10 «против», 12 воздержались. Среди воздержавшихся были Великобритания с Францией. Посла США в Испании назначили под новый, 1951 г., посла Великобритании немногим позже.
После войны Франко обнадеживал своих сторонников в стране, объясняя, что западные демократии его не тронут из боязни усилить позиции коммунистов. Теперь он говорил испанцам, что завершение международной изоляции происходит не потому, что страна изменила своим принципам, а из-за того, что изменившемуся миру понадобилась испанская непреклонность и верность идеалам христианской цивилизации. Послами в США и Великобританию он вызывающе отправил неугодных обеим демократиям кандидатов. Президенту Трумэну пришлось принять в Вашингтоне фалангиста Хосе Феликса Лекерику, который был послом Испании при марионеточном французском правительстве в Виши. В 1945 г. Франко уже пытался отправить Лекерику послом в США, но получил отказ, и вот теперь его страна возвращается в мировое сообщество, а Лекерика в конце концов покоряет Вашингтон. Правда, первая аудиенция Лекерики у президента Трумэна длилась унизительно короткие три минуты.
В более враждебный Лондон Франко и вовсе направил носатого Фернандо Кастиэлью, бывшего офицера «Голубой дивизии», кавалера немецкого Железного креста. Лондон не дал такому послу агреман. Тогда Франко заменил Кастиэлью на Мигеля Примо де Риверу, младшего брата основателя фаланги, чуть не расстрелянного республиканцами вместе со старшим. Франко завершил демонстрацию неуступчивости тем, что в новом правительстве, сформированном летом 1951 г., назначил военным министром Агустина Муньос-Грандеса, бывшего командующего «Голубой дивизией». Именно с Муньос-Грандесом американцам теперь предстояло договариваться о военных базах в Испании. Франко сделал все, чтобы показать: это не его режим размяк, установив отношения с Западом, это Запад отвердел до нужной кондиции, чтобы принять в свои ряды несгибаемую Испанию.
В январе 1953 г. Испанию приняли в ЮНЕСКО. Франко заключил конкордат с Ватиканом, главным переговорщиком по которому стал отвергнутый Лондоном Фернандо Кастиэлья. А с 1954 г. при посредничестве Красного Креста из советских лагерей начали возвращаться военнопленные «Голубой дивизии», а вместе с ними и те беженцы времен гражданской войны, которые не прижились в СССР.
В декабре 1955 г., через два года после того, как в США линия генералов-прагматиков победила принципы политиков-идеалистов и Вашингтон подписал с Мадридом оборонное соглашение, Испания стала полноправным членом ООН. «Изменились не мы, а они», – торжествующе резюмировал Франко. Меняющему внешний курс диктатору приходилось неустанно напоминать гражданам и элитам, что следование внешнеполитической конъюнктуре не обещает перемен во внутренней политике.
Зато в НАТО Испанию так и не пустили из-за сопротивления лейбористского правительства Британии и других демократических правительств Западной Европы. Все они ссылались на главу устава альянса, где сказано, что он создается для защиты свободы, демократии и верховенства права, а всего этого в Испании было немногим больше, чем у коммунистических режимов Восточной Европы, которым НАТО был призван противостоять.
Испанская государственная пропаганда уверяла, что достигнутые двусторонние соглашения с Америкой – Мадридский пакт – даже лучше НАТО, так как выводят Испанию из длинного ряда европейских союзников США и делают ее положение особенным. По этим соглашениям Испания в обмен на размещение американских баз получала от США вооружение и $1 млрд экономической помощи, весьма значительную сумму по тогдашнему курсу.
Американцы, не говоря о французах и англичанах, предпочли бы, чтоб в обмен на прекращение изоляции и экономическую помощь правящий класс Испании заменил Франко на короля. Например, на живущего в эмиграции дона Хуана, графа Барселонского, сына отвергнутого республикой Альфонсо XIII. Слухи о такой замене ходили в Испании все 1940–1950-е гг., но заставить Франко ни с того ни с сего отдать власть дону Хуану не было никакой возможности. Дон Хуан был человеком либеральных взглядов и, вероятно, попытался бы восстановить в стране парламентский строй. К тому же в 1945 г. он открыто призывал внутренние и внешние силы сменить режим Франко.
Благодаря вовремя предоставленной союзникам военной базе на Азорских островах Португалия страдала от международной изоляции меньше, но и ее как недемократическое государство не принимали в ООН до декабря 1955 г., пока логика холодной войны не возобладала над строгим идеологическим подходом. Коммунистический лагерь разросся, и Западу нужно было больше союзных голосов в Генеральной ассамблее, да и считать, что другие члены ООН, вроде СССР и его сателлитов в Восточной Европе, лучше соответствуют критериям свободных стран, чем рыночные диктатуры наподобие Испании и Португалии, было нелепо.
Противоречия в элите
Оппозиция и зарубежные критики авторитарного режима обычно обличают его весь целиком. В действительности авторитарный режим, скрывая противоречия от внешних глаз, соткан из них изнутри. Долгие годы, которые Франко находился у власти, ему приходилось поддерживать баланс между разными «семьями» режима – различными группами поддержки, не давая чрезмерно укрепиться ни одной из них. Усиление одной из опор ослабило бы самого Франко, сделав его зависимым от самой влиятельной группы. Сильнейшими еще со времен гражданской войны были монархисты и фаланга.
Из всех партий и групп, поддержавших армейский мятеж против республики, Франко изначально сделал ставку на самую воинственную – фалангу, которую отчасти против ее воли объединил с карлистами – боевым движением религиозных традиционалистов, сторонников альтернативной ветви испанских Бурбонов, претендующей на трон с начала XIX в. Он призвал всех своих последователей присоединиться к этой единственной партии, а остальные, даже союзные, запретил.
Тогда же новой партии власти придумали название, отражающее ее сложный состав, революционное прошлое и боевое настоящее: Испанская фаланга традиционалистов и комитетов национал-синдикалистского наступления. Одновременно с ним стали использовать более короткое и респектабельное название: Национальное движение. До самого конца фаланга олицетворяла революционное и мобилизационное направление в рядах режима, в то время как вокруг монархистов группировалась его традиционалистская и более прагматичная фракция.
Монархисты представляли старую, часто наследственную элиту, которая поддержала Франко, выступая против социального радикализма и хаоса республики, но желала после умиротворения страны вернуться к прежним порядкам монархической Испании. Среди монархистов были и поборники умеренных социальных реформ, понимавшие, что простое возвращение к прошлому невозможно, и даже сторонники парламентской монархии. Ближе к Франко стояли те из монархистов, которые считали прежнюю конституционную монархию ослабленной и безвольной и желали видеть восстановленную испанскую монархию сильной и авторитарной, как во времена расцвета империи.
С точки зрения монархистов, Франко был кем-то вроде регента при вакантном троне, который он должен был уступить, когда сложатся благоприятные обстоятельства и будет определен подходящий кандидат. Чем дольше Франко оставался у власти, тем больше в глазах монархистов он выглядел узурпатором, который медлит вернуть власть королю, но монархисты оправдывали свою верность диктатуре тем, что пока не видят среди представителей династии достойных претендентов.
После смерти Альфонсо XIII его сын, официальный наследник престола дон Хуан, не мог, находясь в эмиграции, стать королем, но многие испанские монархисты называли его «величеством», а сам он выбрал себе титул не принца Астурии, который носят наследники испанского престола, а графа Барселонского, которым наделяют только действующих монархов.
В начале гражданской войны дон Хуан пытался присоединиться к войскам восставших националистов, но Франко его не впустил в страну, чтобы не делиться властью. В конце Второй мировой дон Хуан открыто осудил режим Франко и призвал внутренние и внешние силы вернуть Испании легитимное правительство. Наследнику казалось, что вдохновленные победами союзников испанские генералы монархических взглядов при поддержке мирового сообщества сменят власть и призовут его возглавить страну. Дон Хуан переоценил их рвение и возможности, но многие монархисты в окружении Франко, в том числе на самых высоких постах, сохраняли как бы двойную лояльность: во-первых, Франко, во-вторых, наследнику в изгнании.
Тех, у кого этот порядок лояльности нарушался, иногда подвергали умеренным репрессиям вроде увольнения с должностей, налоговых проверок или высылки в провинцию, например подальше от столицы, на Канарские острова. Тюрьмы и казни по-прежнему были предназначены для нелегальной левой оппозиции. Некоторые монархисты, тяготясь двойной лояльностью и диктатурой, которая орудовала и от их имени, открыто переходили к дону Хуану. Это не лишало их возможности жить в Испании и даже бывать в высших франкистских кругах – Франко нужны были посредники для общения с претендентом на трон, находящимся в изгнании.
Другие, напротив, теснее сближались с Франко, ведь дон Хуан не скрывал своих либеральных идей, общался с республиканскими эмигрантами и обещал в случае возвращения на трон стать «королем всех испанцев». Он не понимал, что для большинства участвовавших в войне монархистов такое уравнивание победивших в войне патриотов и их побежденных врагов было неприемлемым и что они хотели и дальше править на правах победителей, а не по милости монарха.
Сам дон Хуан то отдалялся от Франко до полного разрыва, то налаживал отношения. Они не доверяли, но были нужны друг другу. Франко общение с наследником помогало выглядеть более легитимным правителем в глазах западных демократий, а дон Хуан не оставлял надежды, что однажды, оказавшись в правовом или дипломатическом тупике, диктатор уступит ему пост главы государства.
Фалангисты, напротив, мечтали не о реставрации, а о национальной и социальной революции после победы над анархией и коммунизмом. В фаланге задавали тон активисты, которые сделали карьеру в противоборстве как с республикой, так и со старой элитой, по их мнению, чуть не погубившей страну. Они мечтали о новой Испании, где главная роль будет принадлежать централизованной массовой партии, следящей за тем, чтобы богатые не обижали бедных, а бедные богатых, о стране, в которой классовые противоречия будут разрешаться во имя величия нации. Их отношение к монархии выражал лозунг «Нет дурацким королям!».
Монархистам Франко обещал реставрацию монархии, фалангистам – столь же неопределенно – завершение их корпоративной революции, которая считалась «отложенной». Ближе к монархистам стоял еще один традиционный сторонник Франко – церковь.
Победа демократий и коммунистов в мировой войне подорвала позиции фаланги и ободрила монархистов. Победители требовали распустить фалангу, которая была точной копией тоталитарных партий Германии и Италии. Пойдя им навстречу, Франко улучшил бы свое международное положение, но резко сместил баланс групп, поддерживающих режим, в пользу монархистов. А они, находясь на высоких постах в армии, церкви и бизнесе, променяли бы его на легитимного наследника престола дона Хуана, живущего в эмиграции. Поэтому Франко не сдал фалангу, хоть она до войны и доставила ему много хлопот, стремясь превратиться в настоящую правящую партию. В то время фалангу помогли укротить монархисты в армейских кругах. Теперь наступил черед фалангистов, понимавших, что вне режима Франко у них нет будущего, и помогавших ему сдерживать монархистов.
Впрочем, после войны Франко отменил, хотя и не запретил, официальное фашистское приветствие в виде вскинутой руки, а вместо названия «фаланга» все чаще звучало другое, менее одиозное, имя единственной разрешенной партии – Национальное движение.
При переходе от демократии к диктатуре автократ, как правило, не создает целое из всех частей, а раздувает одну из частей до целого, замещая и вытесняя ею все остальные. Именно так произошло с фалангой. Став из самой воинственной части правого политического спектра единым целым, заменившим все разнообразие партий, фаланга утратила свои боевые качества, которые прежде проявлялись в политической конкуренции и уличной борьбе.
Зрелый авторитаризм пугают слишком ревностные носители его же собственной идеологии, ведь они в любой момент готовы поставить верность идеям выше преданности лидеру. Фаланга героически сражалась за Франко: 60 % «старых рубашек», ее довоенного состава, погибли в гражданскую войну. И все же она осталась партией при власти и не превратилась в настоящую партию власти, хотя и не оставила надежды однажды ею стать.
Чем дальше в прошлом оставались гражданская и мировая войны, тем больше фаланга из напористой организации активистов, сплоченных общей тоталитарной и даже революционной идеей, превращалась в организацию для карьерного роста и в канал распределения привилегий. То же можно сказать о женских, молодежных, профсоюзных организациях движения. Они были инструментами идеологического воспитания граждан и одновременно ступенями карьерной лестницы, а иногда просто окном в широкий мир для своих членов – выходцев из народа.
Несмотря на консерватизм испанского режима, в образовательном, профессиональном или туристическом кружке женской секции фаланги молодая испанская крестьянка расширяла свой кругозор, выходила за рамки традиционной жизни деревенской женщины. До последних дней режима женскую секцию возглавляла Пилар Примо де Ривера, сестра казненного республиканцами основателя фаланги Хосе Антонио. В первые годы режима она вместе с самыми деятельными активистами требовала для фаланги реальной власти, но позже смирилась с ролью высокопоставленной номенклатурной дамы.
Судьба Пилар отражала эволюцию всей фаланги. По мере становления и старения режима шла бюрократизация, «укрощение» фаланги, которая сама старела и уменьшалась в численности. В 1940-е, на пике ее могущества, она насчитывала почти 1 млн членов, а в последние годы режима – в десять раз меньше. На одном полюсе этой зрелой фаланги находились молодые и старые карьеристы, на другом – идеалисты, которые верили, что в нее и в режим можно вдохнуть новую жизнь, если вернуться к первоначальным социально-националистическим идеалам Хосе Антонио.
Легальных левых политиков в послевоенной Испании невозможно было представить, они были врагами и национал-предателями по определению. В амплуа борцов за нужды простых людей как раз и выступала связанная с вертикальными профсоюзами «народная» фаланга. В отличие от СССР, где хозяином всей экономики было государство, в Испании при правой диктатуре Франко процветал широкий слой предпринимателей и землевладельцев, и даже у официальных профсоюзов оставалось пространство для борьбы от имени режима и его единственной партии за права рабочих (на частных предприятиях) и крестьян (на частных землях). Профсоюзный парад трудящихся в антикоммунистической Испании проходил в красный день Первого мая и был похож на советские парады рабочих и физкультурников, но его участниками были работники капиталистических предприятий, а на трибунах сидели победители коммунистов в дорогих костюмах, военных мундирах и рясах.
Фаланга жила в режиме «отложенной революции», которую Франко туманно обещал рано или поздно завершить. Последователи Франко из числа монархической элиты делились друг с другом опасениями, что после этого фаланга в Испании займет место коллективного тоталитарного диктатора, подобно коммунистической партии в Советском Союзе. По мере того как Франко слабел и старел, эти страхи крепли, и противники фаланги прилагали усилия, чтобы она не стала коллективным преемником уходящего вождя. Фаланга же именно к этому и стремилась.
Для одних последователей Франко Испания была недостаточно фалангистской, для других – недостаточно традиционной и монархической. Объединяла обе главные группы режима совместная поддержка войны, в которой было совершено столько преступлений и пролито столько крови, что избавиться без последствий для себя от рожденной в этой войне диктатуры этим группам казалось невозможным, а значит, лучше было сохранять статус-кво.
Оба лагеря сходились на фигуре самого Франко, который с удовольствием преподносил себя тем и другим в качестве краеугольного камня, без которого развалится все государственное здание. Кто-то соглашался с ним искренне, кто-то просто избегал карьерных и личных проблем, которые могло повлечь громко высказанное несогласие. И все же, чтобы лучше выглядеть после войны в глазах западных правительств, Франко вернулся к обещанию восстановить в Испании монархию: «отложенную революцию» он уравновесил «отложенной реставрацией».
Отложенная монархия в обмен на бессрочную власть
Вопрос о преемственности начинает преследовать авторитарные режимы быстрее, чем те успевают окончательно оформиться. Демократическое общество заранее знает, что будет после нынешнего правительства: новые выборы. Авторитарный режим каждый раз отвечает на этот вопрос заново. Демократии живут внутри готовых институтов, каждый авторитарный режим сам формирует свои институты. Иногда он использует в качестве строительного материала остатки прежних режимов (так поступил в Португалии Салазар), иногда строит с нуля, как делал Франко.
Молодая автократия держится на восходящем потоке одержанных побед, чрезвычайных мер и надежд на быстрое решение застаревших проблем новой властью, которая не склонна церемониться со старой элитой и накопившимся грузом обычаев и привычек. Новорожденный авторитарный режим часто воспринимается гражданами как временное явление и не вызывает того отторжения, которое вызвал бы, если бы сразу написал на своих скрижалях слово «вечность».
Однако момент, когда такой режим должен ответить гражданам и элитам на вопрос о его собственном будущем, все равно наступает. Это опасное время для главы режима, который во многих автократиях является заодно и верховным институтом государства. Начав разговор о том, что будет после него, самим фактом этого разговора лидер ослабляет собственную власть: если возможно «после», может быть и «без». Хуже того, объявленный лидером проект будущего может устроить не все группы поддержки, и между ними возникнут трения, а номенклатура начнет усиленно диверсифицировать лояльность, превращаясь в слугу нескольких господ. С другой стороны, не начав неприятного разговора о преемнике, лидер создает пространство неопределенности, в котором обсуждать эту тему начнут другие, и, возможно, ослабляет себя еще больше.
Всего через несколько лет властвования любой авторитарный лидер решает один и тот же вопрос: как начать разговор о будущем, не подорвав собственную власть в настоящем. Приблизившись к этому моменту, многие лидеры начинают метаться, из-за неуверенности впадают в жестокость, от которой граждане прагматичных стареющих автократий успели отвыкнуть, начинают странные войны – не молодости, но старости, цель которых – продемонстрировать силу духа и мускулов не хуже, чем у рвущихся к власти молодых, и законсервировать свое наследие. Чтобы пресечь разговоры о другом будущем, без себя, лидер режима часто ищет возможность легализоваться у власти на неопределенный срок, желательно до конца своих дней.
По мнению восставших против республики генералов, которые осенью 1936 г. избрали Франко главой единого командования, а позже – главой государства, эти функции передавались ему временно, до победы и умиротворения государства. Даже немецкие и итальянские союзники Франко досадовали на то, как неторопливо он ведет войну, методично завоевывая одну часть страны за другой.
Затянувшаяся война превращала Франко из первого среди равных в единственного политика и реального, а не символического главу государства. Чем дольше он воевал, тем больше это была война не только против республики, но и за его личную власть. Начавшаяся сразу вслед за гражданской мировая война еще на шесть лет отложила вопрос о праве Франко на власть. За эти годы государственная машина окончательно превратилась в аппарат его личной власти.
Итоги Второй мировой войны вернули вопрос о легитимности Франко в центр мирового внимания. Республиканцы настаивали на том, что дали первый бой фашизму и теперь имеют право на плоды победы над ним. Их поддерживали такие разные страны, как сталинский СССР, демократическая Франция или Мексика, укрывшая главного врага Сталина – Троцкого.
Специальный подкомитет ООН назвал Испанию потенциальной угрозой миру. США и Британия могли лишь добавить, что смена режима должна произойти изнутри и желательно мирным путем. Франко отвечал, что возглавляет страну по праву миротворца: он вернул мир, разбив коммунистов в гражданской войне, а потом отстоял его, сохранив нейтралитет, когда Испанию тянули на себя оба воюющих лагеря. Официальные СМИ страны объясняли гражданам, что иностранные державы придираются к форме правления, а на самом деле мстят Испании за суверенный внешнеполитический курс.
Многие испанцы приняли эту версию и сплотились вокруг лидера. Избавиться от него у них не было ни желания, ни сил, они не меньше верхушки опасались возобновления гражданского конфликта и в том числе по этой причине принимали санкции и упреки, извне адресованные испанской власти, на свой счет, обижались и переживали за страну. Из-за репрессий и массовой эмиграции собрать их на легальной платформе против режима было некому, а на нелегальный протест был готов далеко не каждый.
Тем не менее Франко видел, что вопрос о его праве на власть поставлен ходом событий и лучше начать отвечать на него самому, чем ждать, пока ответ сформулируют другие. Франко нашел остроумный выход. До него Испания была королевством, потом республикой, теперь промежуточное состояние заканчивается и страна снова становится королевством, но пока без короля. Франко своими руками начинал транзит власти, но оставил его незаконченным. Завершать его в обозримом будущем он не собирался, зато сумел породить у зарубежных правительств и собственных монархистов надежды на мирную трансформацию режима и таким образом ослабить внутреннее и внешнее давление на себя.
В 1947 г., за 30 лет до реальной трансформации режима, под личным руководством Франко был написан и вынесен на референдум закон о передаче поста главы государства (Ley de Sucesiоn en la Jefatura del Estado). Было проведено первое всеобщее голосование с момента прихода Франко к власти. Закон был одобрен 95 % голосов при явке 88,5 %.
Новый закон одновременно утверждал классический образ действий лидера военного переворота – навести порядок и уйти – и отвергал его. Закон определял Испанию как католическое королевство, в котором действующий «вождь, глава государства и генералиссимус Франсиско Франко Баамонде» обязался передать власть королю или регенту. Однако выбор времени ухода, личности короля или регента и даже династии становился прерогативой самого Франко. Единственным условием значилось, что это должна быть персона королевской крови.
Начав декоративный транзит власти, Франко получил то, чего вряд ли добился бы, напрямую поставив вопрос о пожизненных полномочиях для себя. Ни монархисты, которые участвовали в написании нового закона о преемнике, ни граждане, которые за него голосовали, в большинстве своем не имели в виду, что передача власти произойдет через 30 лет и только после кончины действующего лидера.
Так Франко в обмен на обязательство восстановить монархию получил формально одобренное на референдуме право стать пожизненным диктатором. Первая часть этого двусмысленного решения должна была укрепить поддержку Франко монархистами и старой элитой, вторая – их конкурентами, фалангистами. Вдобавок закон нарушал один из главных принципов традиционной монархии: будущий король должен был получить трон не в силу наследственных прав, а по решению Франко. Права семьи испанских Бурбонов и отдельных ее представителей ставились в зависимость от воли каудильо.
Закон давал надежду приверженцам мирного транзита власти в рядах сторонников режима и помогал предотвратить сближение системной монархической и несистемной республиканской оппозиции, внося раскол между сторонниками эволюции и революции в рядах противников диктатуры. Чтобы напомнить о пугающей альтернативе, агитационную кампанию перед голосованием провели под лозунгом: «Франко – да, коммунизму – нет!».
Переход страны к режиму «отложенной монархии» наводил на мысль, что, тяготясь недостаточной легитимностью и международной изоляцией, Франко начал транзит власти сверху и готовится в обозримом будущем вернуть короля и «нормализовать» Испанию. Благодаря этому давление умеренной оппозиции смягчилось, но родились ожидания, на которые надо было убедительно ответить.
Теперь задачей Франко было показать, что за словами закона последовали конкретные шаги, но одновременно погасить волну неоправданных надежд и осадить тех, кто пытался эту волну оседлать. В первую очередь это был наследник в изгнании дон Хуан де Бурбон, граф Барселонский, вокруг которого все теснее сплачивалась монархическая и либеральная оппозиция. Чтобы остудить ожидания и позлить дона Хуана, Франко начал пользоваться королевскими привилегиями: чеканить свой профиль на монетах, входить в церковь под балдахином и раздавать своим соратникам дворянские титулы.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: