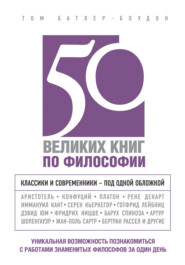скачать книгу бесплатно
Ви?дение: пещера Платона и истина, философия как проблема языка и жизнь в медийном мире
Платоновская аллегория пещеры – один из самых знаменитых философских пассажей. Он по-прежнему находит отклик из-за волнующего предположения о том, что большинство из нас всю жизнь гоняются за тенями и внешним видом вещей, в то время как существуют «вечные формы» Истины, Справедливости, Красоты и Добра, ожидающие открытия.
Кант тоже считал, что люди, существующие в пространстве и времени, при всей ограниченности своих чувств отрезаны от восприятия вещей в их подлинном виде, или «вещей в себе». Однако за пределами мира ощущений существует элементарная метафизическая истина; благодаря рассудку мы можем хотя бы приблизиться к ней.
Многие современные философы отрицали эти идеи, указывая на то, что мы являемся животными с головным мозгом, который воспринимает природные феномены и упорядочивает их определенным образом. Знание основано только на том, что проходит через органы чувств, а не на метафизическом озарении.
Наука – это способ улучшения нашей объективности. Однако Гегель считал объективный анализ иллюзией, так как вещи существуют только в контексте восприятия наблюдателя. Сознание является такой же частью науки, как мир объектов, который оно пытается анализировать. Для Гегеля реальная история науки заключается не в «открытии вселенной», а скорее в открытии нашего собственного разума, то есть сознания. История, наука и философия – лишь выражение постепенного пробуждения сознания.
Величественная холистическая идея Гегеля о пробуждении Духа, или сознания, в делах людей вышла из моды у философов, так как мировые войны и экономические депрессии явно противоречили идее о том, что история движется в позитивном направлении.
Как показал философ науки Томас Кун в «Структуре научных революций», а также по замечанию Мишеля Фуко, знание не образует прямую восходящую линию, где каждое следующее открытие опирается на предыдущее. Скорее каждая эпоха имеет совершенно другие линзы, через которые она смотрит на мир, и что-то воспринимается как реальность лишь в том случае, если линзы позволяют видеть это.
Кто бы ни был прав в этом вопросе, любая оценка нашей способности к точному описанию мира должна учитывать языковую среду. В своей книге «Философские исследования» Витгенштейн признал ошибочность своего мнения, высказанного в предыдущем сочинении «Логико-философский трактат», что язык является средством описания мира. Слова не просто служат названиями для вещей; они часто передают сложный смысл, и одно слово может иметь много смысловых значений.
Язык – это не формальная логика, обозначающая границы нашего мира, а социальная игра с довольно свободными правилами, которая вместе с обществом находится в процессе развития. По словам Витгенштейна, философские проблемы возникают лишь в том случае, когда философы рассматривают названия идей или концепций как дело первостепенной важности, в то время как фактически только их контекст имеет подлинное значение.
Платоновская аллегория пещеры – один из самых знаменитых философских пассажей.
По известному выражению Витгенштейна, философия – это постоянная битва против «зачарованности» языком как таковым. Это был выпад в сторону традиции аналитической философии (к представителям которой относились Бертран Рассел и А. Дж. Айер), которая рассматривала языковые злоупотребления как плодородную почву для множества бессмысленных метафизических рассуждений, в то время как здравое использование языка могло дать более точную картину мира.
В книге «Именование и необходимость» блестящий философ Сол Крипке продемонстрировал изъяны этой концепции и отметил, что смысл находится не в описаниях, а в изначальных свойствах. К примеру, личность – это просто личность, независимо от того, сколько слов используется для дополнительного описания, разоблачения или доказательства этой личности. Золото определяется не нашими описаниями, такими как «желтый блестящий металл», а его основополагающими свойствами (атомный элемент № 79).
От Платона до Канта и от Гегеля до Витгенштейна история философии пронизана одной идеей: мир – это не только наше восприятие или описание вещей. Независимо от того, пользуемся ли мы термином «формы», «вещи в себе» или «изначальные свойства», существует некая основная реальность, не очевидная для чувств.
Дэвид Бом – ведущий физик-теоретик, который стал философом; в своем сочинении «Целостность и скрытый порядок» он привел убедительные доводы в пользу существования двух порядков реальности, скрытого и явного. В то время как второй является «реальным миром», который мы можем воспринимать через органы чувств, это лишь развертывание более глубокой, «скрытой» реальности, которая содержит любые возможности. Оба порядка являются частями «голографического движения», текучей и целостной реальности. Это очень похоже на целостность Вселенной, о которой говорил Геркалит; только люди разделяют вещи на составные части и категории.
Историческая одержимость философии вопросами «что такое реальность?» и «что есть истина?» рассматривается некоторыми комментаторами как ложный маневр.
Жан Бодрийяр заявил, что в пресыщенном медийном мире, где мы теперь живем, понятие «реальность» вообще не имеет смысла. В гиперреальной Вселенной что-либо бывает реальным лишь в том случае, если оно может воспроизводиться или повторяться бесконечно, а того, чем нельзя поделиться электронным способом, просто не существует. Современный человек больше не является самостоятельной личностью в поисках истины, но скорее похож на механизм, который потребляет и воспроизводит идеи и образы.
На Бодрийяра повлиял Маршалл Маклюэн, который утверждал, что средства массовой информации и технологии связи не были нейтральными изобретениями, а фактически изменили наш образ жизни. До появления алфавита главным из пяти человеческих чувств был слух; после его изобретения пальма первенства перешла к зрению.
Алфавит заставляет нас думать последовательным образом – в форме конструкции предложений, с последовательной связью фактов или концепций. Новая медийная среда является многомерной, а информация от нее теперь поступает с такой скоростью и плотностью, что мы больше не можем как следует упорядочивать и осмысливать ее. На современных детей влияют не только их родители и учителя: они открыты всему миру.
Вот знаменитое выражение Маригалла Маклюэна:
«Мы живем в дивном новом мире сиюминутности. «Время» перестало существовать, «пространство» исчезло. Теперь мы живем в глобальной деревне… в одновременном хэппенинге».
Имеет ли смысл аллегория Платона с пещерой в этом новом медийном мире? Действительно ли мы утратили всякую возможность восприятия реальности, и имеет ли это значение? Такие вопросы уводят философию в будущее, но одно несомненно: мы больше не можем рассматривать себя отдельно от технологии.
По мнению новых мыслителей-«трансгуманистов», мы больше не живем в мире, где люди просто пользуются технологиями; машины являются частью нас самих и во все возрастающей степени становятся продолжением наших тел – через них мы воспринимаем самих себя и окружающий мир.
Заключительное слово
Гегель имел необыкновенно широкий и непредвзятый взгляд на философию. В комментарии к его знаменитой «Феноменологии духа» традиционные философы рассматривают свою дисциплину как поле для соперничества, на котором может «победить» только одна система взглядов. Они относятся к философии как к полю боя, где сталкиваются позиции и идеологии. С другой стороны, Гегель смотрел на философию с высоты птичьего полета: каждая соперничающая система имеет свое место, и со временем их борьба будет способствовать «постепенному раскрытию истины».
Сформулировав эту мысль в ботанических терминах, он написал, что о почках забывают, когда они расцветают, а цветы, в свою очередь, уступают место плодам, которые раскрывают истину, или предназначение дерева. Целью Гегеля было освобождение философии от однобокости и представление истины в целом. Лучше рассматривать богатство и разнообразие культуры и философии как один великий проект.
В трактате «О небосводе» теолог и философ Фома Аквинский написал:
«Изучение философии имеет целью знать не то, о чем думают люди, а истинное устройство вещей».
Это и наша цель, но знание того, о чем думают люди, все равно может помочь нам. Если вы не придерживаетесь твердых взглядов на жизнь, то на страницах этой книги вы найдете множество сильных идей и концепций, которые помогут вам увидеть вещи в новом свете или, что еще лучше, изменят ваше нынешнее мировоззрение.
Поиск определенности естествен для нас, но если существует какое-то абсолютное знание, наши вопросы и сомнения не могут изменить или отменить его. Таким образом, изучая великие философские труды, вы ничего не теряете, но можете приобрести многое.
50 великих книг по философии
Состояние человека
1958
«Своими словами и поступками мы приобщаем себя к миру людей. Это приобщение похоже на второе рождение, которым мы подтверждаем непреложный факт нашего появления на свет. Оно… начинается с нашего прихода в мир и с того времени, когда мы реагируем на что-то новое по собственной инициативе».
«Задача и потенциальное величие смертных людей заключается в их способности создавать вещи – слова, поступки и творения, – которые заслуживают бытия и по меньшей мере до некоторой степени сообразуются с вечностью».
В двух словах
Неожиданные поступки заложены в природе человека, и каждое новое рождение приносит возможность изменить мир.
В схожем ключе
Анри Бергсон. Творческая эволюция (стр. 108)
Мартин Хайдеггер. Бытие и время (стр. 232)
Глава 1
Ханна Арендт
Ханна Арендт, родившаяся в Германии, была одним из ведущих американских интеллектуалов XX века и приобрела известность своим исследованием о Гитлере и Сталине «Истоки тоталитаризма» (1951), а потом прославилась книгой «Эйхман в Иерусалиме» (1962), исследованием суда над нацистом Адольфом Эйхманом, включавшим ее концепцию «банальности зла».
Книга «Состояние человека»[1 - На русском языке книга выходила под названием «Vita activa, или О деятельной жизни». – Здесь и далее прим. перев.] лучше всего представляет ее общие философские взгляды. Хотя это научная работа, часто непростая для понимания (Арендт была специалистом по античной Греции и Риму), она очень оригинальна. Ее можно изучать как сочинение в области политической философии, но в ней также присутствует воодушевляющая теория о возможностях человека.
Чудо рождения и действия
По словам Арендт, природа имеет цикличный характер и представляет собой нескончаемый, непреодолимый процесс жизни и умирания, который «предвещает лишь роковую участь» всем смертным существам. Однако людям был дан выход из этой ситуации благодаря способности к действию. Свободное действие вмешивается в принцип неизбежной смерти и вносит что-то новое. «Хотя люди должны умереть, они рождаются не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы начинать новые дела».
Это ее концепция «рождения в мире», вдохновленная знаменитой сентенцией Блаженного Августина «Начало было положено, человек был создан». Арендт пишет:
«Природа начала состоит в том, что появляется нечто новое, чего нельзя было ожидать от всего, что происходило раньше… Новое всегда возникает вопреки законам статистики и их вероятностным оценкам, которые для всех обычных и повседневных целей граничат с определенностью; таким образом, новое всегда появляется как чудо. Тот факт, что человек может действовать, означает, что от него следует ожидать неожиданного и что он может совершать невероятные вещи. Опять-таки, это возможно лишь потому, что каждый человек уникален, поэтому каждое рождение приносит в мир что-то неповторимо новое».
Рождение – само по себе чудо, но настоящее величие заключается в том, как мы подтверждаем свою личность словами и поступками. В то время как животные могут вести себя лишь в соответствии с запрограммированными побуждениями и инстинктом выживания, люди могут действовать, выходить за пределы своих биологических потребностей и создавать новые вещи, ценность которых получает общественное признание.
Подобно Сократу, который добровольно выпил яд цикуты, или человеку, отдающему жизнь ради другого человека, мы даже можем действовать вопреки инстинкту выживания.
Благодаря способности принимать действительно свободные решения наши поступки никогда не бывают вполне предсказуемыми. По словам Арендт, «действие, рассматриваемое с точки зрения автоматических процессов, которые как будто определяют ход событий в мире, кажется чудом». Наша жизнь – это «бесконечная невероятность, которая происходит регулярно».
В других своих сочинениях она предполагает, что сущность фашистских режимов заключена в отрицании «рождения в мире» или возможности совершать что-то новое, и это делает их отвратительными.
Способность прощать и выполнение обещаний
Арендт напоминает о сосредоточенности Иисуса из Назарета на действии, особенно на акте прощения, как о важной исторической вехе, так как это дало нам, а не только Богу, власть аннулировать прошлые поступки. Эту силу, способную преображать мировые события, Христос вывел на уровень физических чудес. Арендт пишет:
«Лишь благодаря постоянному взаимному освобождению от своих ограничений люди остаются независимыми; лишь благодаря постоянной готовности изменять свое мнение и начинать сначала они получают огромную силу начинать что-то новое».
В то время как желание отомстить является автоматическим и, таким образом, предсказуемым; акт прощения, внешне противоречащий естественной реакции, нельзя предсказать заранее. Прощение обладает свойствами реального, обдуманного действия, и в этом отношении оно более человечно, чем анималистическая жажда возмездия, так как освобождает и прощающего и прощенного. Действие такого рода – единственное, что не дает человеческой жизни промелькнуть от рождения до смерти без какого-либо реального смысла.
Арендт согласна с Ницше в том, что способность давать обещания и выполнять их тоже отличает людей от других животных. Наша ненадежность – это цена, которую мы платим за свободу, но мы придумали способы выполнять обещания – от норм и традиций до юридических контрактов.
Акты прощения и выполнения обещаний искупают человечество и поднимают нас на новый уровень. Они также являются творческими действиями, подтверждающими нашу уникальность. В проявлении этих действий «никто не является таким же, как все остальные, кто когда-либо жил, живет или будет жить».
Труд, работа и действие
Арендт определяет три основных рода человеческих занятий – труд, работа и действие.
Труд – это жизнь, рост и повседневный распад, который испытывают все живые существа; в целом, это сам процесс жизни. «Труд человека – это сама жизнь», – говорит она.
Работа – это неестественная деятельность, которую люди выполняют в мире повседневных явлений и которая может превзойти или пережить этот мир, создавая «стержень прочности и постоянства в жизненной тщете и мимолетности человеческого бытия».
Действие – это единственное занятие, которое не требует вещей или вещества, поэтому оно представляет суть человечности. Действие тоже превосходит мир повседневных явлений, поскольку «люди, а не Человек живут на земле и населяют мир». Под этим Арендт имеет в виду, что люди – это общественные и политические существа, которые стремятся совершать поступки, признаваемые другими людьми.
Повторное открытие человеческого величия
По словам Арендт, в Древней Греции и Риме имело значение то, что люди делали на общественной сцене. Жизнь и перспективы бедняков и людей, лишенных политических прав (включая женщин и рабов), были ограничены пределами дома; эта частная жизнь, какими бы ни были ее преимущества, не оказывала никакого влияния на общество.
С другой стороны, люди со средствами, свободные от необходимости трудиться ради выживания или от ежедневных домашних обязанностей, могли быть действующими лицами на общественной сцене и совершать поступки, направленные во благо общества в целом.
В наше время, говорит Арендт, именно домашняя жизнь переместилась в центр внимания, и мы превратились в потребителей, мало интересующихся политикой. Мы ищем счастья, забывая о своем праве совершать поступки, которые могут изменить мир и пойти на пользу многим людям.
Древнее стремление к величию кажется чуждым и даже отвратительным для нас, но, возвращаясь к жизни простых домовладельцев, мы отказываемся от возможности иметь действительно независимый образ жизни (то, что она называет vita activia):
«Различие между человеком и животным проходит через сам человеческий вид: только лучшие (aristoi), которые постоянно доказывают свое право быть лучшими и «предпочитают бессмертную славу смертной жизни», являются истинными людьми; все остальные, кто довольствуется простыми радостями природы, живут и умирают как животные».
Наше величие проявляется в любви
Люди могут знать все необходимое о мире вещей, но никак не могут познать себя («перепрыгнуть через свою тень», по выражению Арендт). То, что мы есть, – это наше тело, говорит она. Но то, кто мы есть, раскрывается через наши слова и поступки.
Мы узнаем человека не по настроенности за или против него, а просто находясь в его обществе. Со временем всегда становится ясно, кем является тот или иной человек. Таким образом, люди живут вместе не просто ради эмоциональной или материальной поддержки, а ради чистого удовольствия видеть, как другие люди проявляют свой характер. Нам больше всего интересен не поступок как таковой, а тот, кто его совершает. Высочайшее проявление человеческой личности мы называем триумфом.
Однако мы можем никогда не узнать, кем мы являемся на самом деле. В полной мере это могут оценить лишь другие люди.
«Любви, в крайне редких среди человечества случаях, когда она действительно случается, свойственна такая несравненная сила самораскрытия и такая несравненная зоркость на «кто» самораскрывающейся личности, что она поражена слепотой в отношении всего, чем любимая личность может обладать в смысле достоинств, талантов и недостатков, или что она может показать в смысле достижений и промахов…
В страсти, с какой любовь схватывает лишь «кто» другого человека, то срединное пространство мира, через которое мы связаны с другими и одновременно от них отделены, словно расплавляется в огне».
Способность к действию дает всей нашей жизни новое начало и наполняет нас надеждой и верой. Но при чем тут вера? Поскольку мы имеем основополагающее знание, что люди могут действовать и изменять свою жизнь, то должны иметь веру в людей, которых мы любим, и в человечество в целом.
Замечательный парадокс, с которым Арендт оставляет нас, состоит в том, что лишь через любовь (которая по своей природе интимна, духовна и аполитична) мы получаем толчок к реальным действиям в общественной жизни.
Заключительные комментарии
За последние тридцать лет биологи и социологи пришли к выводу, что людей в гораздо большей степени, чем это считалось раньше, формирует структура их мозга, генетическое наследие и окружающая среда. Этот вывод как будто проливает ведро холодной воды на теории Арендт о действиях и решениях.
Однако с исторической точки зрения, представляющей сумму миллионов индивидуальных решений, было бы неправильно считать (как это делали Гегель и Маркс), что история человечества подразумевает определенную неизбежность. Скорее, как указал Мартин Хайдеггер, сильно повлиявший на взгляды Арендт, значение имеет отдельная личность.
Для Ханны Арендт история – это хроника превзойденных ожиданий. Люди делают поразительные вещи, которые они даже не всегда ожидают от себя.
На последних страницах «Состояния человека» Арендт признает, что «общество служащих»[2 - Арендт, безусловно, имеет в виду то, что сейчас называется офисным планктоном.], в которое мы превратились, позволяет людям отказываться от своей индивидуальности и становиться обычными «функциями», вместо того чтобы брать на себя труд жить, думать и действовать самостоятельно. Они становятся пассивным отражением окружающей среды, высокоразвитыми животными, а не настоящими людьми, принимающими осознанные решения.
Для Арендт величие состоит в осознании того, что вы не просто животное с различными импульсами выживания и не обычный потребитель, имеющий «вкусы» и «предпочтения». Ваше рождение поистине было новым началом, приходом в мир чего-то такого, чего раньше никогда не было.
Может понадобиться время, чтобы уловить различие, которое Арендт проводит между трудом, работой и действием; иногда это становится ясным лишь после второго или третьего прочтения. Тем не менее благодаря вере в человеческие поступки и свободу воли книга «Состояние человека» является очень жизнеутверждающим произведением.
Ханна Арендт
Арендт, родившаяся в Ганновере (Германия) в 1906 году, выросла в еврейской семье в Кенигсберге. Ее отец умер от сумасшествия, развившегося в результате сифилиса, когда ей исполнилось семь лет, но она была очень близка к матери, активному члену немецкой социал-демократической партии.
По окончании школы Арендт изучала теологию в Марбургском университете, где одним из ее лекторов был Мартин Хайдеггер. У них случился роман (Хайдеггер был женат). Потом Арендт перешла в Гейдельбергский университет. Под руководством своего наставника, философа Карла Ясперса, она подготовила диссертацию о концепции любви в богословском учении Святого Августина.
Арендт вышла замуж в 1930 году. Когда к власти пришла нацистская партия, она больше не могла преподавать в немецких университетах, увлеклась политикой сионизма и с 1933 года работала в Германской сионистской организации. Гестапо арестовало ее, но она бежала в Париж, где стала работать в другой организации, помогавшей спасать детей из Австрии и Чехословакии.
После развода с первым мужем в 1940 году она вышла замуж за Генриха Блюхера, но спустя несколько месяцев супруги были интернированы в одном из немецких лагерей в Южной Франции. Им удалось бежать и попасть в США. Арендт получила американское гражданство в 1951 году. В 1950-х годах она вращалась в интеллектуальных кругах Нью-Йорка, где познакомилась с Марией Маккарти, работала редактором и писала книгу «Истоки тоталитаризма».
Арендт стала первой женщиной – профессором политологии в Принстонском университете, а также преподавала в Чикагском университете, университете Уэсли и Новой школе социологии в Нью-Йорке. Она умерла в 1976 году.
Первые два тома ее автобиографической книги «Жизнь разума» (1978) и лекции о философии Канта (1982) были опубликованы посмертно. Хорошая биография Арендт, написанная Элизабет Янг-Брюэль, называется «Ханна Арендт: Ради любви к миру» (1982).
Никомахова этика
IV век до н. э
«Мы становимся строителями, когда строим дома, и становимся арфистами, когда играем на арфе. Сходным образом мы становимся справедливыми людьми, совершая праведные поступки, становимся воздержанными, совершая благоразумные поступки, и становимся храбрыми, совершая доблестные поступки».
«Подобно тому как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые и сильные, а участники состязаний (ибо среди них находятся победители), так и в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки».
В двух словах
Счастье происходит от проявления того, что мы осознанно считаем благом для нас в долгосрочной перспективе. Счастье – это не удовольствие, а побочный продукт осмысленной жизни.
В схожем ключе
Ханна Арендт. Состояние человека (стр. 36)
Эпикур. Письма (стр. 184)
Платон. Республика (стр. 416)