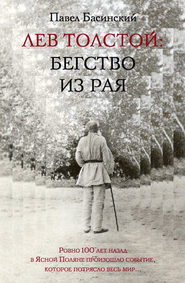скачать книгу бесплатно
Любить haute volee[2 - Высокое положение (фр.).], а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой volee, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не haute volee, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны… Насчет флигель-адъютантов – их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. – Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью… Поэтому, хотя мне и очень хотелось приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга Гр. Л. Толстой».
Казалось, «роман» должен был закончиться не начавшись. Но Толстой поставил перед собой задачу: жениться! Он пишет в дневнике: «Шлялся с Дьяковым. Много советовал мне дельного об устройстве флигеля, а, главное, советовал жениться на В. Слушая его, мне кажется, тоже, что это лучшее, что я могу сделать…»
Синдром Подколесина, которого товарищ может убедить жениться, накладывается на желание Толстого строить жизнь по правилам. В течение нескольких месяцев он изучает Валерию, занося в дневник свои впечатления, в которых холодный печоринский ум сочетается с нерешительностью Подколесина.
16 июня. «В. мила».
18 июня. «В. болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».
21 июня. «Я с ней мало говорил, тем более, она на меня подействовала».
26 июня. «В. в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни…»
28 июня. «В. ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».
30 июня. «В. славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься».
2 июля. «Опять в гадком, франтовском капоте… Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, всё прошло… Очень мила».
25 июля. В первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественна… Кажется, она деятельно-любящая натура. Провел вечер счастливо».
30 июля. «В. совсем в неглиже. Не понравилась очень».
31 июля. «В., кажется, просто глупа».
1 августа. «В. была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».
10 августа. «Мы с В. говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».
12 августа. «Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».
16 августа. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке».
24 сентября. «В. мне противна».
Чтобы проверить свои отношения с Валерией, Толстой уезжает в Петербург и в ноябре-декабре 1856 года пишет ей длинные письма, в которых нет страсти, одни наставления, перемежаемые неуверенными объяснениями в любви.
«Вечера, пожалуйста, не теряйте… Не столько для того, что вам полезны будут вечерние занятия, сколько для того, чтобы приучить себя преодолевать дурные наклонности и лень… Ваш главный недостаток – это слабость характера, и от него происходят все другие мелкие недостатки. Вырабатывайте силу воли. Возьмите на себя и воюйте упорно с своими дурными привычками… Ради Бога, гуляйте и не сидите вечером долго, берегите здоровье».
«Вы говорите, что за письмо от меня готовы пожертвовать всем. Избави Бог, чтобы вы так думали, да и говорить не надо. В числе этого всего есть добродетель, которой нельзя жертвовать не только для такой дряни, как я, – но ни для чего на свете. Подумайте об этом. Без уважения, выше всего, к добру нельзя прожить хорошо на свете… Работайте над собой, крепитесь, мужайтесь».
Но есть в этих письмах два очень жестоких момента. Первый – Толстой всё-таки признавался ей в любви: «…я просто люблю вас, влюблен в вас…» И второй, куда более важный… Он придумывает пару: Храповицкий и Дембицкая. Они «будто бы любят друг друга» и собираются жениться, но при этом являются людьми «с противуположными наклонностями». Он описывает их будущий образ жизни, с подробностями, с цифрами доходов и расходов, с количеством комнат в воображаемом доме и т. д. По сути, он приглашает Валерию поиграть в свой семейный «проект». При этом тщательно разбирает не только ее недостатки, но и недостатки ее прежней пассии – француза-пианиста Мортье де Фонтена, которым она была увлечена в Москве. Он пишет: «Не отчаивайтесь сделаться совершенством». Советует надевать чулки и корсет без помощи прислуги. И многое в этом роде, о чем можно писать только невесте.
В начале 1857 года Толстой уезжает за границу и пишет Арсеньевой прощальное письмо, ставя точку в конце «романа»: «Что я виноват перед собою и перед вами ужасно виноват – это несомненно. Но что же делать?.. Прощайте, милая Валерия Владимировна, Христос с вами; перед вами так же, как и передо мной, своя большая, прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней прийти к счастию, которого вы 1000 раз заслуживаете. Ваш гр. Л. Толстой».
Через год Валерия вышла замуж за ротмистра Талызина, родила ему четверых детей, но затем развелась и вышла замуж вторично. В 1909 году она скончалась в Базеле, где и была похоронена.
«Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер – я во всех был влюблен», – пишет Толстой через год после разрыва с Арсеньевой, но в эту любовь не очень верится. И еще: сестры Львовы, баронесса Менгден, княжна Дондукова-Корсакова, княжна Трубецкая…
Дольше всех после Арсеньевой занимала его мысли Екатерина Федоровна Тютчева, дочь его любимого поэта.
29–31 декабря 1857 года. «Тютчева начинает спокойно нравиться мне».
1 января 1858 года. «К. очень мила».
7 января. «Тютчева, вздор!»
8 января. «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего».
19 января. «Т. занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».
20 января. «М. Сухотину с язвительностью говорил про К.Т. И не перестаю думать о ней. Что за дрянь! Всё-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет».
21 января. «К.Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не всё равно, а досадно».
26 января. «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!»
1 февраля. «С Тютчевой уже есть невольность привычки».
8 февраля – 10 марта. «Был у Тютчевой. Ни то ни се, она дичится».
28 марта. «Увы, холоден к Т. Всё другое даже вовсе противно».
31 марта. «Тютчева положительно не нравится».
В сентябре 1858 года он предпринимает последнюю душевную попытку жениться на Тютчевой. «Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня».
В конце этого же года с Толстым произошел случай, который, разумеется, не имел отношения к его жениховству, но который точно иллюстрирует его попытки обрести семейное счастье против всех принятых в нормальном обществе правил. В декабре он отправился в Вышний Волочек на медвежью охоту. Поставленный в определенном месте, он не стал отаптывать вокруг себя снег, как это положено, и чуть не поплатился за это жизнью. Выбежавшая на поляну медведица бросилась прямо на Л.Н. Первым выстрелом он промахнулся, вторым – попал ей в пасть, так что пуля застряла в зубах. Медведица сначала перелетела через него, а потом вернулась и стала грызть ему голову, содрав кусок кожи с лица. Подоспевший егерь застрелил ее. Шкура этой не убитой им медведицы потом лежала в его доме в Ясной, а затем в Хамовниках.
Чувство оленя
На пути к семейному счастью, к земному раю, ему, как и следовало ожидать, предстоял целый ряд искушений.
С одним из главных искушений, о котором он пишет в «Исповеди», тщеславием, он справился не то что легко, но сам по себе этот грех до поры до времени не вступал в противоречие с рисуемой его воображению семейной идиллией. Выдающегося военного из него не получилось; первое разочарование в опыте помещичьего хозяйствования было позади, но обещало удачную вторую попытку, вместе с ясногорской хозяйкой. А вот литературный успех был несомненный и, кроме реальных денег, давал гарантию весьма привлекательной деревенской жизни, лишенной неизбежной сезонной скуки. Сочетание сельского хозяйства с литературным трудом, да еще и практически выгодным, – чего ж еще желать!
Главным камнем преткновения на пути к «раю» был другой грех – похоть. В этом грехе, как ему казалось, он погряз до такой степени, что это сводило его с ума, сделавшись постоянной темой дневника.
По-видимому, чувство похоти было в нем очень развито, но едва ли превышало чувство всякого молодого, здорового и неженатого мужчины. Крестьянки-солдатки, горничные в европейских гостиницах и, наконец, проститутки были к его услугам, но связь с ними не доставляла ничего, кроме досады и нравственных мук. Служение похоти не только не могло быть для него целью жизни, но и буквально мешало жить. «Девки сбили меня с толку», «девки мешают», «из-за девок… убиваю лучшие годы своей жизни», – рефрен дневника его молодости. По нравственной натуре Толстой был несомненным «монахом», не видевшим в половой страсти ни единого светлого момента. Но главное – от этой страсти некуда было бежать, она настигала везде: в Ясной, Москве, Петербурге, на Кавказе, за границей, и даже есть подозрение, что его почти счастливое состояние в осажденном Севастополе во многом объясняется тем, что ядра и картечь лучше всего разгоняли мысли о девках. Страх смерти был острее «чувства оленя».
«Чувство оленя» – выражение Толстого в дневнике. Это очень сильное определение похоти! Но именно то, что Толстой так точно ее определил, доказывает, что в нем это чувство не занимало всего внутреннего объема, что Л.Н. был способен и видеть, и осуждать в себе «оленя». Олень ни во время, ни после гона не способен рассуждать по этому поводу, а рефлексия Толстого о похоти была куда более изнурительной, чем сам «гон».
Его заграничный дневник 1857 года может вызвать впечатление, что Толстой был эротоманом. Сначала он едет в Париж, затем – в Швейцарию. Женева, Кларан, Берн… О красотах и достопримечательностях пишет скупо. Самое сильное впечатление от Парижа – демонстрация смертной казни на гильотине. Но вот на что он постоянно обращает внимание – это «хорошенькие».
«Бойкая госпожа, замер от конфуза». «…кокетничал с англичанкой». «Прелестная, голубоглазая швейцарка». «Служанка тревожит меня». «Красавицы везде с белой грудью». «Еще красавицы…» «Красавица с веснушками. Женщину хочу ужасно. Хорошую». «Красавица на гулянье – толстенькая». «Девочки. Две девочки из Штанца заигрывали, и у одной чудные глаза. Я дурно подумал и тотчас был наказан застенчивостью. Славная церковь с органом, полная хорошеньких. Пропасть общительных и полухорошеньких… Встреча с молодым красивым немцем у старого дома на перекрестке, где две хорошеньких». «Встретил маленькую, но убежал от нее».
Но посмотрим на вещи здраво. Париж, Швейцария, Женевское озеро… И наконец – весна, ведь первый заграничный дневник велся в марте, апреле и мае. Бегство Толстого за границу чем-то напоминает его бегство на Кавказ шестилетней давности и тоже весной. В России остались долги и «роман» с Арсеньевой, за который ему стыдно. Но мечты о женитьбе не покидают его, и в Дрездене он готов влюбиться в княжну Екатерину Львову («красивая, умная, честная и милая натура»), но чего-то и в ней ему недостает. «Что я за урод такой?» В Женеве он опасно близок к любви даже к своей двоюродной тетке Alexandrine, Александре Андреевне Толстой, фрейлине, которая больше всех женщин отвечала его духовному идеалу. И если бы она не была старше его на десять лет…
Это еще не Лев Толстой, яснополянский старец, каждый жест и слово которого будут притягивать к себе внимание всего мира. Но это уже очень сложный человек, о котором встречавшийся с ним в Париже Тургенев напишет П.В. Анненкову: «…странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича – что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо – высоконравственное и в то же время несимпатическое существо».
«Хорошенькие», «маленькие», «чудные» – это лишь дополнительная краска в том сложном, многокрасочном восприятии мира, которым всегда отличался Толстой. Это еще не «гон». Но сам-то Толстой уже видит в этом заманки дьявола и оттого так дотошно фиксирует это в дневнике. Уже в старости, перечитывая дневник и думая, как издавать его после его смерти, он сначала предложит выбросить эти места, но потом всё-таки посоветует их сохранить, как свидетельство, что даже такого грешного и ничтожного человека, как он, не оставил Бог.
А Бог напомнил о своем существовании очень скоро. В июле 1857 года он проигрался в Бадене в рулетку «в пух и до копейки», так что вынужден писать Тургеневу и просить выслать немедленно пятьсот франков. А вскоре пришло известие из России, что сестра Маша бежала с детьми от мужа, узнав о его развратной жизни. «Эта новость задушила меня», – пишет Толстой в дневнике.
В этом же дневнике конца июля – начала августа он подозрительно жалуется на «нездоровье». Это было то самое «нездоровье», с которым он начал вести дневник в Казани весной 1847 года. Это была венерическая болезнь.
Срочно приехавший в Баден-Баден Тургенев нашел его в ужасном состоянии. Больной, проигравший все деньги, оскорбленный за сестру. К тому же ее муж Валериан был фактическим управляющим Ясной Поляны в отсутствие Толстого, потому что брат Сергей от этого отказался. Смятый, раздавленный Толстой уезжает в Россию.
И здесь дьявол окончательно настигает его.
Дьявол
Повесть с одноименным названием Толстой написал в ноябре 1889 года, залпом, за десять дней. Однако не только не пытался ее напечатать, но прятал в обшивке кресла от жены. Это самое интимное произведение Л.Н. о самом себе. Даже более интимное, чем «Детство».
Этот «скелет в шкафу» (вернее, в кресле) находился в неподвижности в течение 20 лет, пока не был обнаружен женой.
«Софья Андреевна сегодня охвачена злом, – пишет Маковицкий 13 мая 1909 года, – гневно, злобно упрекала Л.Н. за повесть… которую он и не помнил, что и когда написал».
Не помнил? 19 февраля того же года Толстой пишет в дневнике: «Просмотрел „Дьявола“. Тяжело, неприятно».
Повесть «Дьявол» касалась одной из самых интимных и болезненных страниц их семейной жизни. Речь шла о связи Толстого с замужней крестьянкой Ясной Поляны Аксиньей Базыкиной, самой продолжительной и мучительной связи с женщиной до женитьбы. Результатом ее стал внебрачный сын, о чем С.А. знала.
26 апреля 1909 года зять Толстого Сухотин пишет в дневнике:
«Ездил со Л.Н. к Чертковым. По дороге заехали к одной бабе, у которой умер ночью неизвестный странник. Покойный лежал на полу, на соломе, лицо было прикрыто какой-то тряпкой. Л.Н. приказал открыть лицо и долго вглядывался в него. Лицо было благообразное, покойное. Тут же сидели несколько мужиков. Л.Н. обратился к одному из них:
– Ты кто такой?
– Староста, ваше сиятельство.
– Как же тебя зовут?
– Тимофей Аниканов[3 - «Аниканкин». Так звали в Ясной Поляне сына Толстого и Аксиньи Базыкиной Тимофея Базыкина. «Очень умный мужик, говорил складно, с прибаутками, был похож на сыновей Толстого. В деревне жил мало, служил кучером у сыновей Толстого…» – вспоминали крестьяне.].
– Ах, да, да, – произнес Л.Н. и вышел в сени. За ним последовала хозяйка.
– Какой же это Аниканов? – спросил Л.Н.
– Да Тимофей, сын Аксиньи, ваше сиятельство.
– Ах, да, да, – задумчиво произнес Л.Н.
Мы сели в пролетку.
– Да ведь у вас был другой староста, Шукаев, – произнес Л.Н., обращаясь к кучеру Ивану.
– Отставили, ваше сиятельство.
– За что же отставили?
– Очень слабо стал себя вести, ваше сиятельство. Пил уж очень.
– А этот не пьет?
– Тоже пьет, ваше сиятельство.
Я всё время наблюдал за Л.Н. и никакого смущения в нем не заметил. Дело в том, что этот Тимофей – незаконный сын Л.Н., поразительно на него похожий, только более рослый и красивый. Тимофей – прекрасный кучер, живший по очереди у своих трех законных братьев, но нигде не уживавшийся из-за пристрастия к водке. Забыл ли Л.Н. свою страстную любовь к бабе Аксинье, о которой он так откровенно упоминает в своих старых дневниках, или же он счел нужным показать свое полное равнодушие к своему прошлому, решить не берусь».
Тимофей Базыкин родился в 1860 году, за два года до свадьбы Л.Н. и С.А. Когда молодожены поселились в Ясной, он был младенцем. Именно об этом младенце пишет С.А. в дневнике, пересказывая свой сон через четыре месяца после свадьбы:
«Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, – это кукла».
Это был всего лишь «неприятный» сон. Но какой выразительный! С.А. была очень ревнива. Но здесь не только ревность. Запись в дневнике сделана в январе 1863 года, когда она была уже беременна. Уже придумано и имя для их первенца: если будет мальчик, то Сергей, если девочка – Татьяна. Нужно ли говорить, что сама мысль, что это будет первенец ее, но отнюдь не его, не могла не терзать сердце молодой жены и будущей матери?
Слухи, что в Ясной Поляне живет внебрачный сын графа, ходили среди крестьян и доносились до С.А. Когда выросли их с Л.Н. собственные дети и стали по примеру отца участвовать в полевых работах, они тоже слышали это.
Яснополянский «рай» с самого начала был осквернен. Дьявол оставил в нем следы, стереть которые было нельзя.
С крестьянкой Аксиньей Толстой вступил в связь через год после возвращения из-за границы. Это случилось на Троицу, в мае 1858 года. «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи… Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы».
Лето 1858 года стало одним из самых тяжелых в жизни Толстого. «Я страшно постарел, устал жить в это лето», – пишет он в дневнике. Его связь с Аксиньей продолжалась два года и разрушала его морально гораздо сильнее всех прежних связей. Эта связь стала «исключительной» и привела к тому, что в замужней крестьянке он впервые почувствовал то, чего не находил в провинциальных и столичных барышнях, – не просто женщину, но жену. И не чужую жену, а свою.
Если через год после начала связи он «вспоминает» об Аксинье «с отвращением, о плечах», то в октябре встречается с ней уже «исключительно». Еще через полгода понимает, что запутался окончательно. «Ее нигде нет – искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».
Это было серьезным открытием для Толстого и первым страшным ударом по его семейному «проекту».
Но что такого произошло? Молодой барин согрешил с крестьянкой, муж которой находился в городе, зарабатывая на семью и барину же на оброк. Дело, разумеется, нехорошее, но обыкновенное.
Это была не первая его любовь к простолюдинке. Скорее всего, знаменитая казачка Марьяна из повести «Казаки» имела реального прототипа по имени Соломонида. О ней он пишет в своем кавказском дневнике: «Пьяный Епишка (в повести – дядя Ерошка. – П.Б.) вчера сказал, что с Соломонидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять».
Вернувшись из Севастополя и живя то в Ясной, то в Москве, он отмечает в себе «уже не темперамент», а «привычку разврата». «Похоть ужасная, доходящая до физической боли». «Шлялся в саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать. Поэтому решился, где бы то и как бы то ни было, завести на эти два месяца любовницу». «Очень хорошенькая крестьянка, весьма приятной красоты. Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок».
Ну, вот он и получил и «самый порок», и постоянную любовницу, и не на два месяца, а на два года.
Почему вожделение к казачке Соломониде породило поэтичнейших «Казаков», а связь с ясногорской крестьянкой – страшного, безысходного «Дьявола»?
Причиной был семейный «проект» Толстого. В письме к Ергольской и в «Утре помещика» он выработал целую программу своей будущей семейной жизни и в конце 50-х годов уже сознательно искал кандидатуру на место хозяйки яснополянского рая. И если бы он только всё продумал как нормальный, расчетливый человек… Но он был гениальным художником. Он нарисовал этот рай в своем воображении до такой степени прозрачной ясности и в то же время конкретности, что, по сути, уже жил в нем. На связь с Аксиньей он поначалу смотрел как на временное состояние.
И вдруг оказалось, что она и есть жена. Похоть и ее удовлетворение – не временное явление, не «прилив» и «отлив», не вопрос физиологии, но основа и самое «сердце» семейной жизни.
В «Дьяволе» помещик Евгений Иртенев (почти однофамилец Николеньки Иртеньева из «Детства») – это, несомненно, сам Толстой, с некоторыми оговорками. Толстой даже не утруждает себя скрывать это. Евгений закончил юридический факультет. Толстой пытался получить диплом юриста в Петербурге экстерном. Евгений получил наследство после раздела с братьями, точно так же было в жизни Толстого. Евгений начинал служить в министерстве (скорее всего, внутренних дел), и там же хотел одно время служить молодой Толстой. Евгений поселяется в деревне, мечтая «воскресить ту форму жизни, которая была не при отце – отец был дурной хозяин, но при деде». Отец Толстого не был дурным хозяином, но в том, что отец делал в Ясной, он продолжал линию тестя, князя Волконского, которую, как следует из письма к Ергольской, хотел продолжить сын и внук Лев. Евгений очень силен физически, «среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами». Толстой был заядлым гимнастом. С юности до старости поднимал гири, крутился на турнике.
Но это мелочи в сравнении с главным. Главное, что мучает Евгения и мешает заниматься хозяйством, – это похоть. «Он не был развратником, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил…»
Кому же он это говорил? Это сам Л.Н. писал в дневнике: «Ничто мне так не мешает работать» (как похоть).
Евгений, как и молодой Толстой, – человек программы, «проекта». Он поставил себе цель превратить имение в образцовое хозяйство и жениться на добродетельной девушке. Не по денежному расчету, но и не по случайному чувству, а сообразно внутренним убеждениям и представлениям о семейном рае.
Но беда! «Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда?»