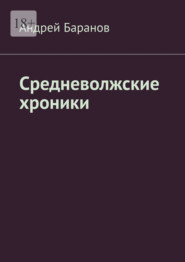скачать книгу бесплатно
И вот теперь мир взрослых властно вторгался в их юношеский мирок: он требовал социальной ответственности и соблюдения принятых норм и традиций. Одной из традиций было знакомство с родителями невесты, и сейчас этот обряд необходимо было исполнить.
Стояли ясные и тёплые апрельские деньки. Снег недавно сошёл, и листья ещё не развернулись, но уже проклюнулись, покрыв деревья салатовой дымкой. Повсюду рвалась к яркому солнцу и ультрамариновому небу свежая изумрудная трава. Зелёный цвет уверенно занимал своё место в палитре города.
Павел и Ната сидели на скамейке в сквере, раскинувшемся по краю крутого волжского берега.
Внизу была хорошо видна Волга, по которой двинулись уже, отдохнувшие за зиму, баржи и теплоходы, полетели быстрокрылые «метеоры» и «кометы». Жизнь возвращалась на волжский простор.
– Ты бы хоть рассказала мне о своих родителях, – предложил Павел, глядя на бескрайнюю водную гладь, раскинувшуюся у них перед глазами, – чтобы я представлял, к чему мне готовиться.
Странно. За три месяца их бурного романа они говорили о чём угодно, но только не о родителях. Нет, конечно, они упоминались в разговорах в самых разных контекстах, например, «предки будут волноваться», или «надо посоветоваться с мамой», или «надо попросить у отца денег», но почему-то ни ему, ни ей никогда не приходило в голову расспросить о том, чем занимаются их родители, где они работают, чем живут.
– Родители как родители, – отвечала Ната, – мама работает редактором на телевидении, а папа у меня «агент 007».
– Не понял, что значит «агент 007»? – Павел вдруг почувствовал у себя под сердцем неприятный холодок.
Ната рассмеялась в ответ, но в её смехе Павел услышал тщательно скрытую тревогу.
Дело в том, что сейчас мечта всей её жизни могла в одночасье полететь под откос, но что поделать – нужно было открывать карты.
– Понимаешь, мой папа работает в комитете государственной безопасности, но об этом никому-никому нельзя говорить, – начала свой рассказ Ната. – Я сама узнала об этом только в шестнадцать лет. Представляешь, всё своё детство я понятия не имела, где он работает! Мне говорили, что он служащий. Так и в школьном журнале записывали «служащий», а место работы – обком партии, и телефон папин никогда не спрашивали, был указан только мамин рабочий телефон… Так что сейчас я посвящаю тебя в страшную государственную тайну, – Ната развернулась к Павлу всем телом и шутливо потрепала его рукой по волосам. Это был Натин жест, который Павел очень любил, но сейчас ему стало неприятно от этого прикосновения.
Чем дальше рассказывала Ната о своём отце, тем тревожней и тревожней становилось на душе у Павла.
– Ты говорила отцу обо мне? – спросил он, почувствовав неприятную сухость во рту.
– Конечно, я же должна просветить родителей, кто придёт к ним знакомиться!
– И как отец отреагировал?
– Я бы не сказала, что он был в восторге – всё-таки любимая дочь замуж собирается. Он меня всегда ревновал к моим парням. Но в целом одобрил. Сказал, приводи – познакомимся.
Если честно, Павлу совсем перехотелось знакомиться с родителями Наты, особенно с отцом.
– Слушай, – спросил он, – а ты случайно ничего не рассказывала отцу о нашем дискуссионном клубе?
Повисла неловкая пауза. Ната убрала руку с головы Павла и вся как-то сжалась.
– Ты думаешь, те разборки по поводу клуба случились из-за моего отца? – ответила она вопросом на вопрос.
– Я почти в этом уверен! – очень тихо сказал Павел, – Ну, так говорила или нет?
Нате стало по-настоящему страшно. Сейчас может рухнуть всё! Конечно, когда она почувствовала угрозу их общему будущему в оппозиционной настроенности Павла, она решилась рассказать обо всём отцу, чтобы он как-то ей помог, прекратил деятельность опасного дискуссионного клуба. При этом она просила, чтобы с Павлом ничего плохого не случилось, и получила это обещание. Нужно признать, отец сдержал слово – ведь никаких серьёзных неприятностей у «заговорщиков» не было, если не считать исключение Павла из комитета комсомола. Но как теперь посвятить во всё это своего любимого, не испортив с ним отношения?
Внутренне подобравшись и тщательно подбирая слова, Ната заговорила тихим дрожащим голосом, так не похожим на её обычно бойкую манеру разговора:
– Тогда, после заседания, я приехала домой поздно, и папа, разумеется, спросил меня, где я была? Я рассказала, что мы собирались с ребятами на бабушкиной квартире. Он задал мне несколько вопросов больше из вежливости, но совершенно не заинтересовался нашим дискуссионным клубом. Я клянусь тебе, если бы его что-то напрягло, он бы мне сказал об этом!
– Да, лет через шестнадцать, как про свою работу! – прозвучал язвительный ответ.
Павел не мог ответить себе на мучающий его вопрос: действительно ли Ната ничего не понимает или так искусно притворяется? И то, и другое было невыносимо. Любимая девушка открывалась для него с совершенно неожиданной стороны, и самое страшное состояло в том, что отступать было уже некуда. Он набрал побольше воздуха и задал самый главный для себя вопрос:
– А твоего папу случайно не Иван Матвеевич зовут?
Последовавшая пауза, казалось, длилась тысячу лет. По-весеннему свистели птицы, звенели звонки детских велосипедов, с Волги доносились гудки буксиров и теплоходов, а Ната всё молчала. Ей и в голову не могло прийти, что отец мог лично допрашивать Павла, и что тот «злой следователь», о котором Павел так много ей рассказывал, и есть её отец. Наконец, она собралась с духом и выдохнула:
– Да… Иван Матвеевич… А ты откуда знаешь?
– Был случай познакомиться… – убитым голосом почти прошептал Павел, – Послушай, давай немного перенесём знакомство с родителями. Соври что-нибудь. Скажи, что я заболел. Мне надо немного прийти в себя после сегодняшних известий.
Павел тяжело поднялся и, не оглядываясь, пошёл прочь из сквера.
– Паша, ты куда! Подожди! – Ната рванулась следом за ним, схватила его за руку и развернула к себе, – в чём дело? Мы же обо всём договорились. Родители ждут.
– Ты в самом деле дура или прикидываешься? – едва сдерживая переполнявшие его эмоции, почти закричал Павел. – Ты знаешь, что твой отец и есть тот следак, который допрашивал меня в обкоме? Неужели ты не понимаешь, что это ты сдала наш клуб?! Ты – и никто другой! Ну и как мне теперь с этим жить?
– Паша, извини, я правда этого не хотела, я даже не думала, что это могло произойти из-за меня! – залепетала Ната, и слёзы брызнули у неё из глаз, – Паша, прости меня! Прости! Неужели из-за такой ерунды мы будем ругаться?
– Это не ерунда, – зло ответил Павел и ещё решительнее зашагал к выходу из сквера. Ната, рыдая, осталась стоять среди зелени и ультрамарина апрельского дня. Старики, вышедшие из домов в этот тёплый солнечный день, чтобы погреть свои старые кости, с интересом смотрели на ссорящихся молодых, вспоминая годы своей юности, малыши гоняли на велосипедах, радостно трезвоня велосипедными звонками, птицы громким щебетом справляли свои птичьи свадьбы в ветвях лип и клёнов, а Ната стояла и плакала. Ей было нестерпимо больно от того, что воздушный замок её заветной мечты, возможно, навсегда разрушен. «Идиотка, – корила она себя, – зачем я всё рассказала отцу?» Но в глубине души она понимала: не погибни тогда дискуссионный клуб, может быть, и не было бы их прекрасного и волнующего романа.
Отец Наты – Иван Матвеевич Карабанов не был ни злодеем, ни садистом. Он родился в простой крестьянской семье в самом начале тридцатых годов, когда отгремели уже литавры сплошной коллективизации, и телячьи вагоны с раскулаченными растаяли в сибирских далях.
С раннего детства Иван узнал, что такое тяжёлый колхозный хлеб. Пришлось маленькому Ване и коров пасти, и лошадей в ночное гонять, и колоски за жнецами собирать, и мёрзлую картошку есть. В их семье росло пятеро детей, и Ване, как самому старшему, пришлось повозиться с братьями-сёстрами, опекая и защищая их от деревенских забияк.
Особенно трудно стало, когда всех мужиков из их колхоза позабирали на войну. Можно сказать, что в девять лет детство Ивана закончилось. И хотя школу по-прежнему приходилось посещать, и домашние задания никто не отменял, большую часть дня Иван проводил на колхозных работах вместе с женщинами и такими же как он малолетними мужиками, повзрослевшими сразу лет на десять.
Ивану повезло. Отец с войны пришёл живой. Безногий, но живой. Всю последующую жизнь Матвей Семёнович Карабанов перемещался на маленькой деревянной тележке, отталкиваясь от земли двумя деревянными чурбачками. Его инвалидность имела и плюсы, поскольку теперь его использовали на лёгких работах в колхозной конторе, и Матвей Семёнович пополнил ряды колхозной интеллигенции.
Когда вернулся отец, жить стало немного легче, и когда Иван без троек закончил семилетку, родители смогли выделить из семейного бюджета сто пятьдесят рублей в год, чтобы дать возможность жадному до знаний пацану продолжить обучение в средней школе. Школа была в шести километрах, за лесом, и Иван ходил туда и обратно каждый день по осеннему и весеннему бездорожью, зимой на лыжах по трескучим морозам и лютым метелям, но за всё время учёбы не пропустил ни одного урока без уважительной причины.
У Ивана появилась мечта – он твёрдо решил для себя, что станет большим человеком, вроде их председателя или директора школы, а для этого надо учиться, вот он и учился, как проклятый, зубря стихи, исторические даты и математические формулы, даже когда задавал корм поросятам или шёл через тёмный декабрьский лес на широких самодельных лыжах, ориентируясь по звёздам.
После школы Иван поехал поступать в педагогический. С первого раза поступить не удалось, и осенью его призвали в армию. Как человека образованного – десятилетка в то время была ещё редкостью – его направили служить на Тихоокеанский флот. После учебки на острове Русский он попал в бригаду торпедных катеров. Непростая флотская служба давалась сообразительному и привычному к невзгодам деревенскому парню легко: начал он службу матросом-мотористом, а закончил мичманом-механиком катера. Вступил в партию. Получил положительную характеристику для представления в вуз. Так что четыре года отдал Родине не зря.
Со второго раза поступить получилось легко, потому что Иван шёл вне конкурса. На момент поступления на историческое отделение Средневолжского истфила ему было уже полных двадцать три года, но он не сильно отличался возрастом от других студентов из их группы: вчерашних школьников среди них было человек десять, все остальные – или после армии, или после рабфака, – отличался он своим серьёзным отношением к учёбе и удивлявшей всех работоспособностью.
Серьёзного студента, к тому же партийного, быстро заметили в органах и пригласили к себе на беседу. Иван сразу понял, что перед ним открывается возможность, которой просто необходимо воспользоваться. И он воспользовался. Все годы учёбы он исправно сочинял подробные отчёты для своего куратора из КГБ о морально-политической атмосфере на факультете. Особо не подличал, не старался никого подставить, не использовал преимуществ своего положения для сведения личных счётов.
Время тогда было смутное. Недавно умер Сталин, в конце первого курса состоялся двадцатый съезд КПСС, на котором Хрущёв выступил со своим секретным докладом о культе личности. Всех коммунистов института с содержанием доклада ознакомили на закрытом партийном собрании. Иван, как и многие тогда, был шокирован открывшимися фактами, но так же, как и многие другие, считал, что в главном товарищ Сталин был всё-таки прав, а некоторые «перекосы» объяснял суровой исторической необходимостью и происками всяких проходимцев вроде Берии. Обсудив эту ситуацию с куратором, Иван получил подтверждение своим мыслям и успокоился. Куратор попросил Ивана утроить бдительность, поскольку под шумок борьбы с культом личности начали оживать вредные буржуазные течения.
Иван и сам это заметил. Некоторые преподаватели допускали какие-то странные непохожие на официально принятые высказывания на лекциях, некоторые студенты, особенно из городских, позволяли себе вольно рассуждать о необходимости перестроить всю жизнь на ленинских принципах. Иван всё это подмечал и аккуратно заносил в свои еженедельные отчёты. Что делали в «конторе» с его докладными записками дальше, Иван тогда ещё не знал, но замечал, что особо словоохотливые студенты через какое-то время начинали тщательнее подбирать слова, а преподаватели реже отклоняться от основного материала на скользкую стезю досужих размышлений «по поводу».
Когда настало время распределения, на Ивана пришёл вызов из областного управления КГБ СССР, и с тех пор до самого развала Советского Союза он работал там в отделе, который несколько раз менял название и подчинение, но занимался одним и тем же – политической слежкой за студентами и преподавателями вузов. Работал на совесть, от лейтенанта дослужился до полковника, от рядового сотрудника до заместителя начальника областного КГБ. Слыл хорошим специалистом, создал разветвлённую агентурную сеть, предотвратил сотни потенциальных преступлений против Советской власти. В его работе это считалось главным – не раскрывать уже совершённые преступления, а предотвращать их. Может быть, благодаря его хорошей работе в вузах Средневолжска и не произошло за все эти годы ни одного настоящего антисоветского преступления. Ни один студент и ни один преподаватель за время его руководства отделом не был осуждён по 70-й статье УК РСФСР – и это было предметом тайной гордости Ивана Матвеевича.
Верил ли он в то, что делает? Считал ли правильным промывать мозги и портить карьеру молодым и не очень людям за чтение Ницше и Солженицина, не к месту рассказанный политический анекдот или сочинение упаднических стихов? Иван никогда не задавал себе этих вопросов. Он гордился принадлежностью к «конторе», ему нравилось чувствовать свою тайную силу над людьми, которую он мог применить, а мог не применять. Вот именно это чувство, что от твоей воли зависит судьба другого человека, больше всего и привлекало Ивана в его работе. Этой своей властью Иван никогда не злоупотреблял, что давало ему моральное право считать себя честным и порядочным человеком. «Я просто делаю свою работу», – говорил он себе, и судя по карьерному росту, делал он её не плохо.
Ивана ценили начальники и сослуживцы, ему льстило быть членом чекистского братства, частью той могучей силы, которая незримо определяет многие процессы не только внутри страны, но и на мировой арене. После тяжёлого крестьянского детства и непростой юности Иван наслаждался огромными возможностями, которые открывала для него его работа, и которых становилось всё больше и больше по мере продвижения его по служебной лестнице.
На четвёртом курсе Иван влюбился в студентку-первокурсницу литературного отделения тогда ещё объединённого историко-филологического факультета. Её звали Галей. Она происходила из известной в городе семьи Героя Советского Союза Чурина Константина Георгиевича, боевого генерала, прошедшего всю войну, после войны командовавшего известным на всю страну Средневолжским танковым училищем и умершего от инфаркта после знакомства с секретным докладом Хрущёва. Так же как когда-то Иван поставил себе задачей поступление в институт, теперь он поставил перед собой цель завоевать сердце Гали. После целого года ухаживаний Иван сделал Галине предложение, которое она охотно приняла. Иван поселился вместе с супругой и её матерью Викторией Трофимовной в трёхкомнатной генеральской квартире. Здесь же родилась Ната, а когда Нате было семь лет, Ивану дали служебную однокомнатную квартиру. Иван, уставший от жизни с тёщей под одной крышей, немедленно перевёз туда жену, а вот Нату, в её интересах, решено было оставить с бабушкой – здесь и до школы было ближе, и уход был обеспечен. Так и получилась, что Ната при живых родителях оказалась «бабушкиной дочкой».
Иван Матвеевич очень любил свою дочь, и как только сын Андрейка немного подрос, а они получили, наконец, трёхкомнатную квартиру в центре, он тут же забрал дочь к себе, но ей было к тому времени уже четырнадцать лет.
Всю жизнь, до самой смерти Иван Матвеевич винил себя за то, что те семь лет, может быть, самые важные семь лет в жизни дочери, не был ежедневно с ней рядом. Ему казалось, что и её нелепый ненужный брак с Павлом во многом возник как следствие тех одиноких лет.
– Дочка, подумай, тот ли это человек, который тебе нужен? – увещевал он свою дочь.
– Папа, я люблю его, – отвечала Ната, и Ивану Матвеевичу не оставалось ничего другого, как смириться с неизбежным.
Глава 6
Незадолго до окончания третьего курса Павел куда-то пропал.
Ната приходила на занятия одна, грустная и потерянная. Римме хотелось подойти к ней и спросить, что с Павлом, но в последнее время они почти не разговаривали.
По истфаку поползли слухи. Говорили, что Павел ушёл из дома, загулял, связался с плохой компанией, что его вот-вот исключат или уже исключили из института. Римма не знала, что в этих слухах правда, а что ложь. Игорь тоже мало что мог прояснить – Павел как будто избегал его. Иногда они случайно встречались в их общем дворе, и Игорь пытался заговорить с другом, но Павел на все вопросы отвечал расплывчато, отводил глаза – и старался побыстрее свернуть разговор.
В начале мая по коридорам и аудиториям пединститута начал циркулировать новый слух о том, что Ната и Павел поженились. Хотя никого из институтских на регистрацию не приглашали и никакой свадьбы не устраивали, весть каким-то непостижимым образом всё-таки распространилась, и все стали Нату поздравлять.
Подошла к своей бывшей подруге и Римма. Она нежно обняла и поцеловала её в щёку – и это были их последнее объятие и последний поцелуй, мысленно Римма навсегда исключила Нату из своей жизни.
Павел перестал бывать не только на лекциях и семинарах, но и на репетициях в студклубе, однако здесь, в студклубе, информация о новой жизни Павла была более подробная и достоверная. Дело в том, что ребята из вокально-инструментального ансамбля «Конфетти» часто пересекались с Павлом на разных квартирниках и богемных вечеринках, в которых он, судя по всему, принимал самое активное участие.
Римма стала ходить на репетиции ансамбля, познакомилась со всеми его участниками и добилась, что её стали приглашать на тусовки «для своих», где она надеялась встретить Павла.
Однажды ей повезло. Дело происходило в чьей-то однокомнатной квартире. Мебели почти не было, но зато у стены напротив окна стояли две огромные колонки, подключённые к магнитофону «Маяк». В однушку набилось человек тридцать, не меньше. Расселись на диване, стульях и даже на полу, кто-то постоянно толкался на кухне и в прихожей. Входная дверь то и дело открывалась и закрывалась, впуская новых посетителей и выпуская желающих покурить на лестничной клетке. Курили также в комнате и на балконе – сизый табачный дым плотным туманом висел в воздухе. Из рук в руки передавались бутылки и стаканы с водкой, пивом, плодово-ягодным и сухим болгарским вином со странным названием «Медвежья кровь». Закуски практически не было – только плавленые сырки, заботливо нарезанные кем-то на узкие длинные ломтики. Молодёжь гудела, активно делилась последними новостями из столичной и зарубежной музыкальной жизни. Хозяин квартиры, как величайшую драгоценность, извлёк из коробки катушку с магнитной лентой и зарядил её в магнитофон. На чёрном корпусе «Маяка» зажглись какие-то кнопочки и окошки, задёргались стрелки, бобины начали своё неспешное вращение, и из огромных чёрных колонок полился мощный и чистый почти студийный звук. Это была группа «Карнавал».
Все разговоры моментально смолкли. Аудитория превратилась в единый организм, загипнотизированный волшебной флейтой крысолова. Басы колотили в грудь, заставляя сердце биться учащённо, гитарные рифы поражали своей виртуозностью, голоса вокалистов проникали глубоко внутрь и вибрировали там в каждом нерве. Рок-группа пела о том, что волновало, что было понятно и знакомо, тексты подкупали своей искренностью и какой-то настоящностью:
Свет звёздных ливней.
Были счастливыми часто при них.
Мы и не думали, что где-то в сумерках
Ждёт нас тупик.
Слишком похожи мы, слишком похожи мы
Вот в чём беда.
Есть только прошлое,
Это прошлое путь в никуда.
Слова песни болью отзывались в душе Риммы, напоминая ей о её безответной любви: есть только прошлое, это прошлое – путь в никуда! А у её любви и прошлого то нет!
В этот момент в дверях комнаты вдруг появился Павел. Он пришёл в сопровождении не знакомых Римме ребят и девчонок. Все были явно навеселе. Одна девица с густо накрашенными губами и ресницами повисла у него на правой руке. В комнате было темно, и Павел не мог увидеть Римму, а вот она очень хорошо его видела – застывшего в квадрате света, в шляпе, съехавшей на затылок, сером распахнутом плаще и с дымящимся окурком сигареты в свободной руке. На лице Павла застыла ухмылка человека подшофе, но в его глазах Римма прочитала такую тоску, что её захлестнула волна острой жалости к этому потерянному человеку.
Послушав пару композиций, Павел развернулся и направился к двери. Римма последовала за ним.
Компания вышла из подъезда и направилась по тихому вечернему двору к главной улице города. Эта улица – названная именем великого русского писателя – отличалась от всех других тем, что прямо по её середине проходил тенистый сквер, засаженный липами, клёнами и тополями, но самое главное – сиренью. Стоял май, и сирень благоухала, светясь под тусклыми фонарями бульвара.
Компания двинулась по бульвару в сторону центра, смеясь и громко разговаривая. Римма догнала Павла и взяла его за локоть. От неожиданности Павел вздрогнул и остановился. В следующую секунду он оглянулся, их глаза встретились.
– Римма? – удивился Павел, – что ты здесь делаешь?
– Я проходила мимо и случайно увидела тебя, – соврала девушка.
Компания остановилась и пьяно загудела, призывая Павла продолжить променад.
– Павел, мне очень надо с тобой поговорить! – выпалила Римма, не отводя взгляда, – ты можешь на минутку оторваться от своей компании?
Павел был явно озадачен и сбит с толку её настойчивостью, во всём этом чувствовалась какая-то загадка, которую непременно хотелось разгадать.
– Ребята, вы идите без меня! У меня тут важный разговор! – извинился он перед своей компанией и направился в другую сторону вслед за Риммой.
Несколько минут они шли молча. Редкие машины освещали их фарами и исчезали в темноте, помигав на прощание красными сигнальными огнями. Изредка навстречу попадались одинокие прохожие, прогуливающиеся перед сном; плотно приросшие друг к другу, прошли влюблённые, не замечая ничего вокруг; толстая тётка в облезлой кацавейке выгуливала на поводке такого же облезлого пса неизвестной породы и говорила ему с укором: «Ну что ты опять натворил! Зачем ты туда полез? И не стыдно тебе?». Пёс виновато смотрел на хозяйку, как будто и правда мучился угрызениями совести.
Павел с Риммой всё шли и шли в направлении обелиска, возвышающегося на крутом уступе волжского берега. В этот поздний час обелиск был освещён яркими прожекторами и напоминал космический корабль, готовый к старту. Молчание затягивалось. Павел уже думал, правильно ли он сделал, что оставил весёлую компанию и теперь идёт по ночному городу с этой странной девушкой, больше похожей на мальчика-подростка в своей бесформенной куртке с капюшоном и неизменных джинсах. Наконец, Римма заговорила:
– Павел, прости меня, если я слишком назойлива, просто я очень хочу тебе помочь – я вижу, как тебе тяжело, и мне кажется, тебе нужен сейчас человек, который просто мог бы выслушать тебя, не задавая лишних вопросов. Если хочешь, я могу быть таким человеком.
Проговорив на одном дыхании эту заученную фразу, Римма снова замолчала, мысленно ругая себя за глупость и боясь, что Павел сейчас развернётся и уйдёт. Но вместо этого Павел вдруг улыбнулся и посмотрел на неё новым заинтересованным взглядом.
Павел давно замечал, что Римма неравнодушна к нему, но старался не думать об этом – ведь он слишком хорошо знал о чувствах Игоря к девушке. К тому же он любил Машу, а потом у него начался роман с Натой, короче ему явно было не до Риммы. Но теперь всё изменилось: Ната предала его, образ Маши на глазах тускнел, вытесняемый бурными событиями последних месяцев, – и Павел как будто впервые разглядел это искренне преданное ему существо.
– Что ж, давай попробуем, – согласился он. – только откровение за откровение – ты мне тоже расскажешь всё о себе!
– Идёт! – охотно приняла условие Римма и счастливо улыбнулась, в первый раз за много-много месяцев.
Так начался их странный роман. Если вообще эти болезненные надрывные отношения можно назвать романом.
В конце июня Павел уходил в армию, и в запасе у Риммы был всего месяц, чтобы достучаться до его сердца. Шла летняя сессия, и Римма целыми днями сидела дома, внешне готовясь к зачётам и экзаменам, а внутренне ожидая встреч с Павлом.
Она жила с мамой в маленькой квартирке на последнем этаже шестиэтажного дома без лифта. Квартира состояла из тесной кухоньки, ещё более тесной прихожей, совмещённого санузла и двух смежных комнат: в большой, проходной, жила мама, а крохотная тупиковая была её девичьей обителью. На восьми квадратных метрах умещались шкаф, письменный столик со стулом у окна и диван, который, если его разложить, занимал почти всю комнату, но Римма его никогда не раскладывала и спала на его половинке. Комната была такой маленькой и тесной, что вполне могла бы стать причиной униполярной депрессии, если бы не потрясающий вид из окна – это был вид на волжских простор, по которому постоянно сновали баржи и теплоходы, юркие катера и парусные лодки. В ясные дни можно было различить противоположный берег реки, поросший сосновым лесом, но чаще всего он лишь угадывался и был вечно задёрнут какой-то сизой дымкой. А вот бескрайнее, текучее, непрерывно меняющееся небо над Волгой хорошо просматривалось в любой день, не уставая удивлять неповторимостью и богатством красок. Римма любила часами сидеть у окна и смотреть на проплывающие мимо облака, принимающие форму различных животных и сказочных существ.
Именно в эту квартирку приходил к ней Павел. Она всегда безошибочно угадывала его звонок. Бежала встречать в прихожую, сразу же повисала у него на шее. Он был большой и широкоплечий, а она маленькая и худенькая, поэтому он подхватывал её на руки, как ребёнка, и нёс в комнату. По пути они преодолевали мамину территорию, но мамы дома никогда не было, потому что встречи происходили только днём и только в рабочие дни.
Что они делали в её комнате? Да ничего особенного. Они сидели на диване – она у него на коленях, а иногда рядом, положив голову к нему на плечо, – или он лежал, положив голову ей на колени; порой они вместе смотрели в окно, фантазируя, на что похожи проплывающие мимо облака. Он то утыкался носом в её волосы, то нежно держал её руку в своих ладонях, иногда чуть касался губами её щёк, лба, подбородка. При этом они непрерывно разговаривали, точнее, говорил обычно Павел, а Римма его внимательно слушала. Так слушать, как слушала Римма, не умел ни один человек на свете. Павлу ни с кем не было так хорошо и спокойно.
Римма любила его до безумия. Он казался ей отцом, которого она никогда не знала, старшим братом, о котором мечтала с детства, мужем, хотя она отлично понимала, что он муж совершенно другой женщины, которая к тому же ждёт от него ребёнка.
Чувство вины перед Натой присутствовало, конечно. Ей неловко было встречаться с бывшей подругой на консультациях и экзаменах и невольно замечать всё округляющийся под лёгкими летними платьями животик, но запретить себе видеться с Павлом было выше её сил.
«Мы не делаем ничего предосудительного, – успокаивала свою совесть Римма, – Ната сама виновата в том, что мало любит его, что ему с ней плохо. В конце концов, Ната поступила нечестно: она знала, как я люблю Павла, но перешагнула через мою любовь. Сейчас я могла бы носить его ребёнка, а не она!»
Ещё больше неприязнь к Нате усилилась, когда Римма узнала, кто предал их дискуссионный клуб.
– И как она после этого может смотреть тебе в глаза? – возмущалась девушка.
– Римма, не сыпь мне, пожалуйста, соль на рану, – просил Павел, и Римма тут же замолкала, боясь, что в следующий раз он просто не придёт.
Однажды Павел рассказал ей о Маше, искренне переживал и раскаивался за то, как непорядочно поступил с девушкой, но, как ни странно, Римме было приятно это услышать. В то время в молодёжной среде ходила древняя народная мудрость: «На чужом горе своего счастья не построишь». Эта пословица постоянно кружилась у Риммы в голове, отравляя часы свиданий с Павлом. Узнав, что Ната сама разрушила отношения Павла с другой девушкой, Римма впервые применила пословицу не к себе, а к Нате. Теперь встречи с Павлом она начала воспринимать как восстановление попранной справедливости: Ната как бы получала по заслугам за страдания, которые она принесла Маше.
И всё было бы хорошо, но Римму удивляло, что за весь месяц их почти ежедневных встреч Павел ни разу не сделал даже попытки поцеловать её по-настоящему, потрогать её грудь или бёдра, раздеть её или раздеться самому. Римма с радостью сама проявила бы инициативу, но она была ещё девственницей, очень боялась показаться нескромной и неумелой, неведомая ей область половых отношений пугала её, пугала и манила: она ждала со страхом и нетерпением, что вот-вот Павел приступит к главному. Внутри неё всё переворачивалось и сжималось от сладкого страха и мучительного ожидания, но минуты складывались в часы, часы в дни, дни в недели, а главного так и не происходило.
Срок отправки Павла в армию, тем временем, стремительно приближался, и вот настал день накануне его ухода на сборный пункт.