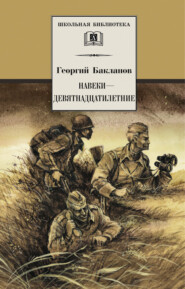скачать книгу бесплатно
Навеки – девятнадцатилетние
Григорий Яковлевич Бакланов
Школьная библиотека (Детская литература)
Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое испытание Великой Отечественной войной.
Для старшего школьного возраста.
Григорий Яковлевич Бакланов
Навеки – девятнадцатилетние
Повесть
Повесть-реквием
Когда думаешь о каком-то произведении художника – в данном случае о повести Г. Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние», – то мысль неизбежно обращается к первым вещам этого автора. Тем более что для меня они имели огромное значение и их влияние я ощущаю и сейчас.
Помню, что, когда я мучительно искал не то что форму своих будущих «Ржевских тетрадей» – не в форме, наверное, было дело, – я долго думал: как мне писать о пережитом?… То, что появлялось тогда в печати о войне, плохо соответствовало моему личному опыту. Война, о которой я хотел рассказать, происходила на небольшом пятачке, была не очень-то известной многим, к тому же трудной и безудачной. Как написать о ней? Бои местного значения… Безуспешные, но кровавые наши наступления, разведки с обеих сторон, минометные обстрелы, бомбежки, вражеские снайперы – и подразделения таяли вместе с мартовскими и апрельскими снегами; к маю, как сошли те, в ротах почти не осталось людей… Ну, как писать об этом?! А писать хотелось. Ржев держал меня уже за горло и не отпускал…
И вдруг «Пядь земли»!.. Читаю и думаю – пядь… пядь земли. Ведь как верно! Война для каждого из нас именно и происходила на «пяди». Один воевал на «пяди» Северо-Западного фронта, второй – Калининского, третий – Сталинградского, другой – Юго-Западного фронта, кто-то на «пяди» под Берлином. Может, так и сложилась вся война? Тем более что о своей войне каждый, наверное, может рассказать предельно правдиво, предельно искренно, не упустив ни одной мелочи, ни одной приметы того времени, потому что это была твоя «пядь», где ты оставил часть души и которая теперь уж в памяти навечно. Это твои три-четыре товарища, с которыми и из одного котелка пшенку, и один сухарь пополам, и одну цигарку слюнявишь, – твоя война…
И скажу прямо, баклановская «Пядь земли» была для меня тогда откровением. Я уже перестал сомневаться: а нужно ли мне писать о своей войне, заслуживает ли она этого? И показалось мне тогда, как, кстати, думается и сейчас, что вот из таких «пядей», из таких «малых» войн, может быть, и будет черпать будущий автор «Войны и мира». Лишь бы мы всё написали без утайки, все как было, не приукрашивая и не позабыв ничего… Скроем что-нибудь, умолчим – и подведем будущего Толстого полуправдой, которую невольно сможет повторить и он. А тогда не быть и «Войне и миру» о нашей Великой Отечественной войне. Не быть! И виноваты будем мы, непосредственные свидетели и участники, имевшие мужество воевать, но почему-то не нашедшие его, чтобы сказать об этой войне только правду, всю правду, и ничего, кроме правды.
В «Пяди земли» Бакланова была определенная смелость и дерзость: после «эпических полотен» вдруг «пядь», всего несколько действующих лиц, никаких особо эпохальных сражений, броских геройств, а у читателя (особенно воевавшего) сжимается сердце, его душит боль, потому что так было и все похоже на его собственную войну.
Не всем тогда это понравилось. Даже в фильме, который через несколько лет появился, стали кое-что «исправлять». Декоративные окопы сделали, укрепили, как положено, стенки досками, не подумав опрометчиво, что такая вот «мелочь» убивает правду… Где же, откуда в степи доски? Но в студийной мастерской их навалом – и сделали! Вот так иной раз мы и уходим от правды войны. А нам ли не помнить, сколько пришлось нашему поколению заплатить, прежде чем мы поняли и уразумели, что же такое настоящая война…
Я к тому говорю все это, что в повести «Навеки – девятнадцатилетние» Г. Бакланов остался верен себе: все в ней правда, густо замешанная на событиях, самим автором пережитых, прочувствованных…
Как ни странно, но о быте войны не так много написано. То ли потому, что не всеми «военными» писателями этот быт самолично испытан, то ли потому, что часто не придавалось ему значения. А он меж тем того стоит!.. Потому как вся война из этого быта и состояла. Сами бои составляли не главную часть жизни человека на войне. Быт был неимоверно трудный, связанный и с лишениями, и с огромными физическими перегрузками.
Пока солдат доходил до «передка», он был уже измучен, вымотан ночными маршами, когда в грязь и распутицу, когда в мороз и метель, а придя на передовую, с ходу начинал копать окопы, землянки… И существовали в том быте детали вроде бы незначительные, но без которых тем не менее рассказ о войне оказывается неполон. Вот не довелось мне, например, нигде прочитать о такой, казалось бы, мелочи: где носил солдат-пехотинец капсюли от гранат?… Как малую саперную лопату приспосабливал в атаках?… А носил он капсюли в левом кармане гимнастерки, а почему – прошу подумать и догадаться. А лопатку при атаке приспосабливал так, чтобы защитить живот. Не велика железяка, а все-таки пуля вдруг и отрикошетит…
Так вот – о быте войны у Бакланова в этой повести сказано очень много и очень подробно. И это, думается, не случайно. Углубление военной прозы идет не только в плане психологическом, но и в более полном охвате самих тех условий, в которых человек жил и воевал. Это важно потому, что все эти мелочи быта, которые способен знать только воевавший человек, могут уйти. Их уже не восстановить потом писателю другого времени. Никогда!.. Да и нам, живущим сейчас в немыслимом для тех лет комфорте, которым даже трудно представить, как люди могли спать в снегу при двадцатиградусном морозе, спать не в спальном мешке, а в протертой шинелишке, полезно об этом вспомнить, а тем, кто не знает, узнать.
И в повести Бакланова мы месим грязь вместе с лейтенантом Третьяковым, спим кое-как и кое-где, хлебаем второпях похлебку, стоим под хлипким мостом, по которому проходят трактора с орудиями, мерзнем, мечемся под огнем, теряем товарищей, корчимся от боли в палатке медсанбата… Через все это проводит нас автор, заботясь лишь об одном – не упустить бы ничего из того, что пришлось испытать самому и его герою, не забыть ни одной мельчайшей подробности, потому что все это для него очень важно, потому что он пишет войну такой, какой она и была. И если бы в повести было только это, то и тогда она заслуживала бы нашего внимания, но есть в повести и другое…
Удивительно даже, что такая вот строгая, реалистичная вещь, лишенная всякой сентиментальности, вещь, вроде бы совершенно беспафосная, в то же время обладает огромной эмоциональной силой: я, например, не помню ни одного произведения о войне – хотя в каждом из них мучились и погибали люди, – в котором было бы так ярко выражено чувство великой, непроходимой скорби о загубленных войной жизнях… Да, конечно, потери в войне неизбежны, порой необходимы, но, что скрывать, припоминаются и бесконечные бои за какие-нибудь высотки, деревеньки, бои заведомо обреченные, которые прибавили к потерям неизбежным потери, которых могло бы и не быть…
Русская классическая литература не боялась, а даже стремилась всегда вызвать у читателя жалость, сострадание к своим героям… И не одно поколение русских людей училось сострадать именно у наших классиков. Можно вспомнить целый ряд произведений, прочитанных еще в детстве, которые на всю жизнь дали заряд доброты. Так, не прочитав, быть может, тургеневскую «Муму», многие из нас что-то потеряли в своей человечности.
Сейчас, читая «Навеки – девятнадцатилетние», я с первых же страниц отдаюсь этому чувству: мне жалко полудевчонку-полуженщину, с которой делится Третьяков едой, а потом отчаянно целуется в машине, жалко, потому что за ней – женские, порушенные войной судьбы. Мне жалко пехотного ротного, которого и «на один бой не хватило», жалко убитых Паравяна и Насруллаева, жалко слепого Ройзмана, издерганного, израненного Старых, печального Атраковского, мальчишку Гошу, в восемнадцать лет ставшего инвалидом; мне почему-то жалко всех, кого встречаю в повести, кончая совсем эпизодической фигурой девушки-санинструктора, привычно прикурившей от цигарки ездового, закашлявшейся после первой затяжки, – жалко, хотя автор совсем не старается разжалобить читателя. Он пишет обо всем скупо, жестко, без надрыва, даже спокойно пишет, но атмосфера всей повести такова, что, повторяю, более щемящего чувства боли и сострадания не вызывало во мне ни одно произведение о войне.
И этот эмоциональный настрой – новое не только в прозе Бакланова, но и вообще в нашей военной прозе…
Видно, пришло время просто по-человечески пожалеть всех тех, кто не вернулся с войны… Повесть Бакланова к этому нас и зовет. И думаю, что, вспомнив, пожалев всех, кому не довелось дожить до победы, мы не унизим их своей жалостью, а, проникшись этим чувством, сами станем и лучше и чище…
Вот в свете этого общего, пронизывающего всю повесть чувства становится ясно, почему образ главного героя повести лейтенанта Третьякова вроде бы лишен автором ярко выраженных индивидуальных черт: он уже не живой с самого начала, он легкой, почти бестелесной тенью проходит по повести как символ нашего погибшего поколения. Он такой, какими были все юноши войны, и каждая мать, потерявшая сына на фронте, может найти в Володе Третьякове черты своего Жени, Вани, Саши, Кости, потому что он так же честен, храбр, верен воинскому долгу, как и ее сын. И не знаю, будь Третьяков задуман автором другим, более реальным, может быть, и не создалось бы того ощущения общности его со всем тем поколением, какое есть сейчас.
Чувства горечи, боли и сострадания, захватывающие читателя повести, усиливаются еще и тем, что Бакланов лишает нас наивной, но успокаивающей совесть иллюзии, что каждая солдатская смерть на войне что-то привнесла, чем-то приблизила нашу победу… Увы, смерти были и случайны, нелепы, и смерть Третьякова, уже раненного, направляющегося в санбат, – прямое тому доказательство.
Не каждому солдату удалось, как Матросову, гибелью принести прямую, реальную помощь своему подразделению, спасти жизнь товарищей. Это горькая истина, но она необходима нам, чтобы еще глубже понять трагедию войны…
Размышления писателя о произведении другого писателя редко носят характер литературной критики. Не стремлюсь к ней и я, а только хочу сказать, что эта повесть-реквием, очевидно, должна была появиться в нашей литературе, чтобы вместе с другими книгами о войне тревожить наши сердца и заставить нас еще и еще раз возвратиться и мыслью и чувством к тому великому, чем была для нашего народа Отечественная война.
В. Кондратьев
Навеки – девятнадцатилетние
Тем, кто не вернулся с войны.
И среди них – Диме Мансурову,
Володе Худякову – девятнадцати лет.
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Ф. Тютчев
А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
С. Орлов
ГЛАВА I
Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.
Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И должно быть, офицер.
Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым блеском молодые зубы.
– Накройте плащ-палаткой, – сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов.
Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.
Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в разрытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.
ГЛАВА II
В Купянске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не доносило оттуда.
Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.
Лязгали, сталкиваясь, железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом в долгой обороне, а еще острей – в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами – в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог…
Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые: они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку – лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чье-то хлопчатобумажное БУ – бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.
Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие – с необъяснимой искательной улыбкой.
– Следующий! – раздавалось оттуда.
Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, кожаные, такими не грязь месить, по досочкам ходить.
Хваткие руки тылового солдата – золотистый волос на них был припорошен мукой – дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку:
– Следующий!
А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.
Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами – и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой, – все это даровано ему в последний раз вот так видеть.
Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:
– Закурить угости, лейтенант!
Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.
– Садись, – сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда – все.
Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.
Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях, прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в железные платформы – углярки.
– Крючки, – сказала женщина. – Поехали народ чеплять. – И оценивающе оглядела его: – Из училища?
– Ага.
– Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные… Первый раз туда?
Он усмехнулся:
– Последний!
– А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах…
И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб. Рассказывала привычно, видно было, не в первый раз, может быть, и врала: много он слышал таких рассказов.
Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб рушилась из железного рукава, все шипело.
– Я тоже была партизанская связная! – прокричала она. Третьяков кивнул. – Теперь только ничего не докажешь!..
Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу, ничего вблизи не было слышно.
– Пошли напьемся? – прокричала она в самое ухо.
– А где?
– Вон колонка!
Он подхватил вещмешок:
– Пошли!
– А потом закурим, да? – наперед уславливалась она, поспевая за ним.
Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:
– Я принесу!
И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы. Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на время.
Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые.
И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.
Она помыла сапоги под струей: мыла и на него взглядывала. Сапоги заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути.
Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:
– Отвернись!
И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов.
Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались как сумасшедшие.
– Останься! – говорила она.
Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало, они стукались зубами.
– На денек…
И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина, беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и заволоклось известковым облаком.
На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только:
– Шинель не потеряй!
А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже имени ее не спросил. Но что имя?
Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.
– Взво-у-уд!.. – отпуская от себя строй, старшина загарцевал на месте. – Стуй!
Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы, набитые пылью.
– Нали-и-ву!