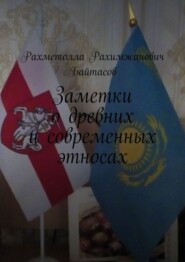скачать книгу бесплатно
Археологи выделяют на побережье озере Байкал в раннем неолите два хронологических периода: ранний (8,2—7,5 тыс. кал. л.н.) и поздний (7,4—7,0 тыс. кал. л.н.) [48, с.139], в Западном Забайкалье выделены следующие хронологические периоды неолита: начальный неолит – 12—7,5 тыс. л. н.; ранний неолит – 7,5—6,0 тыс. л. н.; развитый неолит – 6,0—4,5 тыс. л. н.; поздний неолит – 4,5—3,8 тыс. л. н. и отмечают присутствие двух керамических традиций: сетчатую (с оттисками сетки-плетенки) и шнуровую хайтинского типа [49; 210].
Начальный неолит Западного Забайкалья обнаруживает сходство каменной индустрии с позднепалеолитическими комплексами [210].
Керамику с оттисками сетки-плетенки, характерную для всех объектов периодов раннего неолита (и далее вплоть до позднего неолита), Горюнова и Новиков (2017) рассматривают как автохтонную. На стоянках с многокомпонентными керамическими традициями в комплексах раннего периода преобладают сосуды хайтинского типа, в то время как на поздних этапах раннего неолита они количественно уступают сетчатым и значительно видоизменяются. В связи с этим, археологи предполагают, что в Прибайкалье был приток иной группы населения со своими сложившимися гончарными традициями и поэтому керамику хайтинского типа рассматривают, как привнесенную. Принадлежность этих традиций к разным группам населения подтверждают находки сетчатых и хайтинских сосудов в ранненеолитических захоронениях разных погребальных практик (сетчатая – в китойских, хайтинская – в уюгинском) [48, с.139].
Н.В.Цыденова (2021) отмечает, что «широкое распространение и длительное существование шнуровой и штриховой керамических традиций, погребального обряда близкого китойскому, должны рассматриваться, как свидетельство существования единых традиций в раннем – позднем неолите Западного Забайкалья» [210, с.22].
Традиции, свойственные неолитическому населению Прибайкалья, встречаются и у современного населения этого региона. Так, например, в Локомотиве, в погребении обнаружены останки волка в сочетании с человеческим черепом [14; 154; 230]. До недавнего времени такой обычай встречался у кетов: «Кеты хоронили умерших в земле. Раньше во время похорон у могилы разжигали костер, который тушили, когда могилу закапывали. С покойником укладывали и его вещи: нарты, челнок, нож, трубку (все в сломанном виде); иногда убивали собак. Детей хоронили внутри высокого, расколотого вдоль пня кедра, специально срубленного для этой цели» [95, с.697].
Исследования антропологов показали, что ранненеолитические (китойские) популяции из могильников Шаманка II и Локомотив обладали выраженной генетической спецификой, отличаясь, как друг от друга, так и от прибайкальского населения более поздних эпох. Это могло быть связано как с депопуляцией, произошедшей в ранненеолитическое время, так и с массовым переселением китойского населения Прибайкалья в другие регионы. Отсутствие генетической связи между населением раннего и позднего этапов неолита Прибайкалья может указывать на пришлое, миграционное происхождение популяций позднего этапа.
При этом, люди из Локомотива в Приангарье, проявляют некоторую близость к населению более поздних этапов этого региона, а люди из Шаманки II резко отличается от групп позднего неолита и бронзы, несколько приближаясь лишь к китойской серии Приангарья. Это, по-видимому, является свидетельством того, что на территории Южного Байкала в ранненеолитическое время проживало население, генетически отличное от населения Приангарья и верховьев Лены. В то же время, относительная близость ранненеолитического населения двух регионов Прибайкалья может свидетельствовать о генетических контактах между ними [139, с.61].
Поэтому, можно предположить, что, несмотря на большой временной разрыв между китойским и серовским этапами, китойская группа Приангарья (Локомотив), при всем своем своеобразии, все же внесла некоторый вклад в генофонд населения последующих эпох этого региона. Поскольку люди из Шаманки II, существенно отличаются от более позднего населения Прибайкалья, то это быть свидетельством, как депопуляции, произошедшей в ранненеолитическое время, так и массового переселения, исхода этой группы китойского населения Южного Байкала в другие регионы.
Генетические данные, приведенные выше, свидетельствуют о том, что ранненеолитическое население из Шаманки II ушло на запад и его следы по мтДНК прослеживаются вплоть до Польши и, возможно, Скандинавии.
Антропологи отмечают близость древнеэскимосских серий из могильников Уэлен и Эквен к популяциям глазковского этапа Прибайкалья. Поскольку население, использовавшее некрополь Локомотив, показывает связи с населением глазковской культуры, то вполне вероятно, что эта группа китойцев, через глазковцев, внесла определенный вклад в формирование генофонда древнеэскимосского населения Чукотки [139, с.60]. В связи с этим, вполне вероятно, что население глазковской культуры было эскимосоязычным (ранее (да и сейчас) в научной литературе было распространено мнение, что население глазковской культуры – это языковые предки эвенков и тунгусов в целом.
О присутствии потомков китойцев среди глазковского населения свидетельствует наличие в погребении раннебронзовой эпохи (глазковская культура) в могильнике Шаманка II мтДНК гаплогруппы G2a1. Все мужчины этого периода в данном некрополе имели Y-ДНК гаплогруппу Q1a2a (5 человек) и Q1a2a1с (1 человек). Y-ДНК гаплогруппа Q1a2 обнаружена также в соседней Усть-Иде (3 человека), Q1a2a1с характерна для населения окунёвской культуры Минусинской впадины эпохи бронзы и современных енисейцев (кеты).
Выше показано, что у двух мужчин из семи из могильника Локомотив определена Y-ДНК гаплогруппа R1a1-М217 (5500—4885 BC (тыс. лет до н.э.)) 28,6% (у обоих мтДНК F), т.е. эти люди жили 7500—6885 лет назад. Интересно, в связи с этим, что самая древняя в Европе R1a обнаружена у мезолитического обитателя Южного Оленьего острова, жившего 7500—7000 лет назад (Y-хромосомная гаплогруппа R1a1 (SRY10831.2)). У него также определена мтДНК гаплогруппа C1g [241]. У трех обитателей этого острова определена мтДНК C1f, для которой не найдено соответствий в текущей базе данных ископаемых и современных митохондриальных геномов [234].
Возможно население Южного Оленьего острова участвовало в этногенезе саамов. Поэтому, участием носителей Y-гаплогруппы R1a в формировании населения Южного Оленьего острова, а затем и саамов можно объяснить проблему, некогда поставившую Е.А.Хелимского в тупик. Он писал: «остается неясным – и трудно укладываемым в какую-либо топохронологическую схему – происхождение немногочисленных, но чрезвычайно ярких лексических параллелей между тюркскими, с одной стороны, и прибалтийско-финскими и саамским, с другой стороны, языками (при отсутствии соответствий в других уральских языках), ср. фин. arpa «орудие колдовства»: тюрк. arpa- «колдовать» (ностратическое происхождение сомнительно), приб.-фин. *k?kr? «косой»: тюрк. *k?kr? «то же» и др. [199].
Нужно отметить, что по Е. Лагеркранцу саамы имеют наиболее близкое языковое родство с хантами, манси и ненцами [252, p. 336], народами у которых преобладает Y-ДНК N1b.
Y-ДНК гаплогруппа R1a обнаружена в культурах боевых топоров, которые датируются периодом 3200 г. до н. э./2300 до н. э. – 2300 г. до н. э./1800 г. до н. э. Наиболее древняя из них имеет возраст около 4600 лет [241] и очень молода по сравнению с обнаруженными в Азии.
Аутосомный портрет моей мамы Байтасовой Розы Ибрагимовны, из Радлинских. В совпаденцах мамы Мария Мейшутович, Станислав Думин и другие люди с татарскими фамилиями, которых я не знаю.
Roza Radlinskaya
Europe 58%, в т. ч. Eastern Europe: West Slavic 41%, Magyar 15%, Finnis – Finland – менее 2%;
Asia 30%, в т. ч. Central Asia – Mongolia 29%, Indian Subcontinent – Eastern India – менее 1%;
Central Siberia – Yakut – менее 1%;
Western Siberia – Western Siberian Plains – менее 1%;
Middle East & North Africa 12% – Middle East: Anatolia, Armenia & Mesopotamia – 12%.
В целом, видимо, правильное отражение картины. У мамы должна быть мтДНК G2a1. Эта гаплогруппа обнаружена, как показано выше, у населения неолитической китойской культуры на оз. Байкал (7 тыс. лет назад) вместе с Y-ДНК NO и N1b. Это означает, что предки мамы были уралоязычными (скорее всего, прасамодийцы).
Ближе к рубежу нашей эры митохондриальная гаплогруппа G2a1 обнаружена в некрополе знатных хунну в Монголии. В одном из исследований у ранних хунну (7 мужчин) G2a1 (G2a1e – два образца) обнаружена вместе с Y-хромосомными гаплогруппами R1b (R-M343), R1 (RP236; R-M173). У поздних хунну (один мужчина из 25) – (G2a+152) вместе с Y-хромосомной гаплогруппой Q1a2a [245]. В другом исследовании (52 древних генома хунну (26 мужчин и 26 женщин) из некрополя Tamir Ulaan Khoshuu (TUK) в Центральной Монголии, I век до н.э. – I век н.э.), определили, что 16 мужчин (некоторые из них родственники) обладали Y-хромосомной гаплогруппой R1a, 5 – Q1a, 2 – N и 1 – G1. Анализ мтДНК выявил 28 митохондриальных гаплотипов, принадлежавших к 11 гаплогруппам, как западноевразийским (H, J, T, U, X), так и восточноевразийским (A, B, C, D, F, G). Все R1a1a гаплотипы принадлежат субкладу R1a1a1b2, азиатской ветви гаплогруппы R1a1a, возникшей в евразийских степях. Большая часть гаплотипов родственна гаплотипам населения Южной Сибири средней бронзы и из региона Красноярска и Тувы железного века, т.е. гаплотипам сибирских скифов и носителей андроновской культуры. В то же время, некоторые гаплотипы хунну (принадлежащие к гаплогруппам Q1a и N1a) родственны гаплотипам аваров и древних мадьяр. Большинство митохондриальных гаплотипов хунну родственны гаплотипам, распространённым к западу от Урала и чаще всего встречались у населения культуры колоколовидных кубков Европы. Некоторые митохондриальные гаплотипы родственны гаплотипам аваров и древних венгров (Keyser et al. 2020) [248].
Митохондриальная гаплогруппа G2a1 обнаружена у древнего венгра периода «взятия родины» в Паннонии (вместе с Y-ДНК гаплогруппой R1b1a1b-M269 (xM412,xU106)). Всего из этого захоронения исследованы 4 человека. У одного из них обнаружена Y-ДНК Q1a-F1096 (xM25) и мтДНК H6a1b, у двух финно-пермская Y-ДНК N1a1a1a1a2-Z1936 (xL1034) и мтДНК N1a1a1a1a. У двух последних определен цвет глаз – голубой, волосы темно- и светлорусые. У носителя Q1a карие глаза и рыжеватые волосы, у R1b – карие глаза и чёрные волосы [265].
Моя бабушка и прабабушка из Шабановичей. У протестированного Шабановича Y-ДНК J, – это переднеазиатская гаплогруппа. Из Радлинских гаплогруппу никто не определял, но их предок был приписан к юшинской хоругви, т.е. они потомки древних усуней, которые были зеленоглазыми и рыжеволосыми, как мой дед Радлинский. Гаплогруппа усуней неизвестна, но скорее всего, это была одна из ветвей R1a.
1.16. Кумсай
Фото антропологической реконструкции (скульптурного бюста) головы по черепу мужчины-вождя ямной культуры. Могильник Кумсай (Актюбинская область, Казахстан). Автор А. И.Нечвалода [128, с.22].
Мужчина зрелого возраста (более 50 лет) был похоронен в сидячем положении, густо осыпан красной охрой (курган 1, погребение 2).
Надпись на фото: «Окончательный вариант реконструкции головы по черепу мужчины ямной культуры. Обращают на себя внимание те черты морфологии черепа, которые нашли отражение в восстановленной голове древнего жителя казахских степей. Это массивное надбровье, глубоко посаженные глаза, мощная нижняя челюсть с тяжелым подбородком»
Портрет, выполненный по антропологической реконструкции (скульптурного бюста) головы по черепу мужчины-вождя ямной культуры. Могильник Кумсай (Актюбинская область, Казахстан). Автор А. И.Нечвалода [128, с.22; 270]
Г. Ф. Дебец связывал краниологический тип черепов ямной культуры из курганов Нижнего Поволжья с морфологическими особенностями черепов верхнего палеолита из Брюнн-Пшедмост. Этот антропологический комплекс был назван «протоевропейский или кроманьонский тип в широком смысле слова» [64].
Большинство представителей ямной культуры из Кумсая имеют рост выше 180 см, а некоторые более 2 м.
Курганный могильник Кумсай в местности Кырык Оба в долине реки Уил, крупнейший в Евразии памятник ямной культуры, насчитывает более 160 курганов. По природной зональности он является самым южным памятником ямного времени. Радиоуглеродные даты Кумсая (Beta №290781 4290±40 BP; ИГАН №4699 3920±70 BP), выполненные по костным образцам человека, представляют интервал в рамках конца IV – первой половины III тыс. до н.э. [202, с.510].
По мнению C.B. Богданова, в материалах Кумсая имеются отчетливые проявления позднеэнеолитической константиновской группы Подонья. В связи с этим Кумсай может представлять собой относительно поздний дериват константиновских памятников, бытовавших в сухих степях Арало-Каспийского района Волго-Уральского варианта ямной культуры параллельно с тамар-уткульскими памятниками, локализованными несколько севернее, в подзоне типичных степей Урало-Каспийского региона [23].
Краниологические материалы из Кумсая исследовали антропологи А.А.Хохлов и Е.П.Китов [202].
Краниологически люди из Кумсая довольно сильно выделяются среди синхронных культурных образований ямного круга. Наиболее близкой данному комплексу является тамаруткульская краниологическая серия Южного Урала и близких к ней географически поздних ямников Александровского и Кизильского могильников. Но при этом черепа из Кумсая более широколицы и этим сближаются с суммарной ямной группой Нижнего Поволжья и афанасьевских Алтая. Кроме того, кумсайская выборка выделяется среди всех других ямно-афанасьевского круга менее выступающим в профиль носом [202, с.511].
Краниологический комплекс из могильника Кумсай сходен с обнаруженным в выборке «Вертолетное поле» на Дону, черепа которого имеют сходство с черепами неолита из Ракушечного Яра Дона и приазовско-надпорожских могильников Украины, известными в антропологической литературе как представители прото/палеоевропеоидного типа. Имеющиеся «данные подтверждают выводы о продвижении в самом начале ямной эпохи массивных прото/палеоевропеоидов с Волго-Донья, вероятно, с Нижнего Дона, на восток, в Заволжье, в том числе и на территории Западного Казахстана. Нельзя отрицать возможность ассимиляции ими потомков местных энеолитических культур, представленных, к сожалению, пока лишь единичными черепами из оюклинской (Коскудук) и ботайской культур, и, разумеется, процесса контакта группы, оставившей кумсайские курганы, с соседними локальными ямными группировками и другим окружающим населением. Видимо, все это и обусловило своеобразие физического облика уильской популяции, которое могло проявиться в населении последующего этапа бронзового века Казахстана» [202, с.511—515].