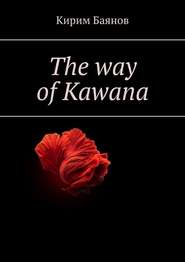скачать книгу бесплатно
Но… это все, что у меня есть.
И будет всегда… для Марты. И для таких, как она. Для простых, заставивших меня почти вспомнить моментов, для чего-то обыкновенного, обычного, что я забыл. Но я вспомню, я знаю. Снова. И снова скажу… спасибо.
В инфраструктуре, вечном потоке спешащей изменяющей, трансформирующейся и деформирующейся жизни, вечном танце больших городов. Забывающих о нечто простом и нечто живом, нечто большем, чем грязь и неурядицы, обиды и профанация, желчь и холод пустых дорог, улиц и лед разбитых сердец, нечто большем, чем пустые заботы постылых дел, нечто большее, чем спасибо.
В Кайфе
Легкий джаз так несвойственный и чертовски расходящийся ладами с культурой востока, которую можно видеть на каждом шагу Пекина и Гонконга, свойственен только европейцу. Большой зал Ритз, пьяня чуждой и суровой небрежностью вылизанных до блеска витрин, холодно посматривает на одинокие столики, где он и она обсуждают что-то свое, – маленькое, мелочное, незначительное. Огромные залы давят засидевшихся, пришедших и оставивших свои галстуки в номерах, выхолощенностью и живой толпой. Она где-то там, вдали, не приближаясь к стойкам и буфетам, душит своей вечной прозорливостью, жаждой жизни. Но здесь внутри лобби это не ощущается. И только плаксивый блюз тромбона и фуги, завораживает пустой, разбитой тоской. Ничего не меняется.
В этот раз, она в цветном годе и лишь что-то давно ушедшее, печаль изгоя в куба либре, вечная грусть на кишащих людных улочках кантонов за стеклами дарит вчерашние сны о многом.
Что-то меняется, но не все так скоро. В бывшей роли гейши, исправно молчаливой и немо подающей чай, просыпается страсть гречанки. И хоть она европейка, в каждом жесте и каждом слове скользит пыл данайки. Странно, что она в цветастом платье держит за ножку бокал с мате. Странно видеть ее здесь, в этой сверкающей, бесстыжей роскоши циничной Кайфы. И было бы странно слышать от нее раскрепощенные речи о Киото. Здесь в Кайфе, город спешит и купается в ночном танце. Тысячи светлячков и бордов ночного неона, заполнят собой все вокруг. И она, странно молчаливая, разбавляет джаз этой ночи, своими улыбками. Время от времени добавляя в разбавленное брюзжание товарок и торговок, немного праздника. Холодка в ночное небо Гонконга. И теплой тоски в ветреное сенрё палаток. Есть много вещей, в которых она не видит смысла, много слов, которые в ней не находят выхода, и лишь только пустая выхолощенная улица, полная сиюминутной суеты, мелочности и сырой трески, пытаясь оставить свой след, вызывает ее звонкий смех. Она смеется и тогда, когда я пробую клубнику с грязных, кучащихся лотков Кайфы. Ее нельзя есть, нельзя продавать и нельзя покупать. Но в этом есть что-то дико сомнительное и рискованное, от чего я не могу отказаться. И чтобы не уступать здравому смыслу, в ней просыпается азарт. Она пробует ее вместе со мной.
Дикая клубника, в диком кантоне. Вся наша жизнь, всего лишь покупка. В рассрочку или в кредит. Мы смотрим по пути в отель, как плескается в канавах рыба, и покидаем улицы в наваливающемся гомоне толпы.
Когда бы не случился серьезный разговор, она лишь улыбается и сводит его на нет. Невпопад, но так мило, что забываешь о том, что ждет тебя послезавтра за стенами Ритз.
Длинный, томный джаз не оставляет покоев в нем. Плавает ваниль и кофе в распаренном, душном номере. После прохладных улиц Кайфы, ее цветастый слив, приоткрывает для меня пролог в новую Эгею, новые горизонты и новый Антиох. Кайфа так серьезна этим утром, в еще не закончившейся ночи, столь угрюма. Пики и борозды мегаполиса за стеклом густых сумерек, стелются у подножий небоскребов.
Странно и одиозно твое спокойствие. Она не зовет, не требует, в ее глазах остыла забытая логика снов. Не мила усталая музыка лавок и лотков. Клубника, что мы пробовали в Чахе за углом. Что-то далекое и безразличное в ее взгляде, что-то растраченное попусту. И я опускаю гобой.
Она не смотрит, не слушает музыки. Лишней и неловкой в этом застывшем мгновении. Праздник пустых, остывших улиц и чехарда бистро. Быстрый гомон дорог, плен витрин. Кайфа так же грустна, как если бы ей завтра улетать в Мадрид. И только капли росы, собирающиеся за окном, свидетели длинной ночи, ее обнаженных ног, в разрезе юбки на годе-пекин. Странная улыбка, в номере, где все еще слышен блюз камерных голосов. В этом зале с высокими потолками и льдом в ведерках с гвинейским вином, становится душно и не по себе. Но эта ночь все исправит. Она исправляет всех. Однажды, когда-то, кто остерегался, кто не доверял, кто отказывался.
Сплетение тел, сплетение рук, промозглый дождь и ветер, тепло горнил, ласка муслиновых покрывал. Песочный свет ламп. Я все еще здесь. В Кайфе. Она так холодна и тревожна. Чайка на небосклоне. Белый запах солнца. Сияние над Микках. Сверкающее золото и стекло, кожа дубовых кресел на сто восемнадцатом этаже. В моем сейфе пусто, и это не так печалит.
Меня и раньше бросали. Но никогда, как сейчас. В моих мыслях пустая отрава. В буле завернутый в холщу магнум. Я не распаковал его. Он все еще там.
Что ты наделала Салли.
Мои мысли, варятся в густом соку исчезнувших буден, падают на землю, как мертвые птицы. Клубника горит на краю пропасти. Она сладкая и сочная. Он берет и ест ее…
В Хуавей и Глоболе в Тайване меня ждет такой же холодный прием. Никто не поручится теперь за мою жизнь. Сотни обманутых кредиторов ждут своей выгоды, и только пустой, открытый сейф на сто восемнадцатом этаже в Ритц говорит мне, что за мной скоро придут.
Когда наступает этот момент, ты ни о чем не думаешь больше. Ты просто бежишь. Всем, кто на твоем пути конец. Нет больше друзей, ни прохожих. Каждый знает тебя в лицо и каждый стребует свою долю. А как приятно начинался этот танец с ветром в семи платках, каким жарким был чай в Сёго.
Как странно, что Кайфа принимает меня теперь. Без дома и крова, без шелковых салфеток и дорогого костюма от Himark. За мной идут, и я не знаю, что будет уже сейчас. В этой капсуле на тридцать втором этаже в Шенжен, мой матевер греет меня, принося с собой холод, – он струится по моим рукам, а за окном падают капли. Дождь в Киото. Наверно идет дождь. Я думаю о тебе все чаще. О твоих неловких улыбках и помаде, нерасторопных ответах и свежей клубнике в Кайфе. Она красная и спелая. Сок течет по рукам. Твое лицо в искрах гацура, свет в глазах. Неоновый дым Шенжен за минуту до проливного дождя. За мной идут, Салли, и я не знаю, что у них на уме. Я здесь в безопасности. Пока. До тех пор, пока они не поймут куда подевалась карта памяти. Если бы ты взяла только деньги. Салли…
Пустые разговоры и блюз дорог. В этом месте без дна, полно отчаяния и страха. Улицы Кайфы стали для меня пустынью. И только мой матевер согревает мои пальцы в складках брезента.
Мои мысли, путаясь, падают на землю, как мертвые птицы. Если бы только не этот чай в Шенжен, с которого все началось…
Пустая трата времени. Пустой мир, – в этом большом городе некуда бежать и негде скрыться. Я думаю о тебе все чаще. Салли…
Пустой матевер. Я набираю пули. Ты неправа, Салли. Но в этой прогулке по Кайфе и твоем скромном платье, цветастом годе и цветном сливе для меня не осталось злости. Только пустыня. И птицы. Они бьются о камень и валуны на пляжах. Звучит утро. Поднимается солнце. Белые облака. Я поживу. Поживу еще малость. Ведь только все начинается…
Я только взял кредит.
Когда приходит весна
Слабый стук колес, шорох состава. В этой прохладе замерзают руки и отваливается нос. Ветер дует наискось и его шквал время от времени срывает желтые листья слив. Яблони стоят словно мертвый частокол, – кривые и сгорбленные. Белый свет фонарей меркнет под наваливающейся слюдой пустой, безлюдной ночи. В этом покрывале так легко закутаться и исчезнуть. Но я иду, и тротуар, – серый от мги фонарей, бело-серый, – проплывает мимо, как скатерть, на которой всегда царит пустота. Еще не лето, но уже не зима.
Плавный шелест шин, одиноко плывущего авто. Куда оно направляется и зачем остановилась на пару минут? На этой пустой улице, в бело-сером свете на бело-серой простыне асфальта катятся листья. Кто-то курит в окно, сетуя на холод и стужу. Кто-то уронил одинокий окурок. В этом покрывале серо-белой простыни жеманно тешится свет, плавают сухие листья. Этот город, город иллюзий. По дороге из колыбели снов в твердый битум глузда, его обитатели растеряли все мечты. Их было великое множество, и великое множество обид, горя, зависти останется тут. На млечном полотне асфальта, плещущемся в молоке фосфоресцирующих фонарей, – тоскливо, жеманно льющих свет на пустой разор вычищенной от сухой листвы железобетонной полосы. Рифы домов, словно холодные, пустые мешки, голыми стенами давят монолит дорог. В этом городе, на этой пустой улице нет ничего необычного. Холод и стынь, блажь и шепот слив, голод и степь дорог. В пустой пачке валяется пять сигарет. Они как гвозди, заколачиваемые в гроб, но я потрачу свое здоровье и снова куплю еще. Одна за одной плывет в дыме простуженных мостовых. И только пустой серый ветер, знает отчего так тепл кедр. Я кладу его в кофе. Пар обдает лицо, а запах обещает бессонный вечер. Бессонное утро проходит. Светит яркое солнце. Его жар опаляюще-бодр. Его щупальца ходят по комнате, отражаясь и плавая в пылинках в проеме двери. Простое чудо, простого дня. Если бы только он знал бессонную ночь и терпкий вкус кофе.
Эта встреча с тобой. И этот город…
Плывущий в ритме танго, плавно огибая острые углы и осторожно, боязливо сторонящийся темных аллей. В нем можно утонуть по ночной поре, но свет мигающих фонарей и стеклянная зыбь, стелющаяся по пустым мостовым не оставят здесь одиноким. Никого нет. И все же ты замечен.
Арабика хороша лишь под коньяк, а пару ложек нагоняет сон. И я пью его, – черный, неразбавленный. А сигаретный дым в окне струится словно деготь, теплая вакса, растворяющаяся в темноте; и быстрый мимолетный взгляд на ветер, остывает в тутне облаков. Он как бездомный тунедец, которого никто не ждет. Но он вернулся.
И я ловлю его пустой холодный поцелуй, чтобы ответить тем же. И грусть в расшевелившемся тумане над алым заревом пятиэтажек, струится в чистом, гулком небе. Оно вымыто и грязно-хмуро. Только быстрый лепет крыльев и засохших листьев падает на мостовую. Словно старый друг, уставший от забот. Приседает ворон. Краски акварель в текущем воздухе. Туман. И сон. Сонливая погода. Холод. Быстрый хлопот крыльев. Звенящее небо над алым заревом. Стеклянные фонари, никелированный свет, брыдло пахнущий в сумерках. Старый звук, напоминающий хруст веника. Шатается по небу ветер, подметает ветви. Рубленные яблони, стоят как сироты. Нагой асфальт. Дни плывут. Вдалеке их неслышный топот. И за глухой, немытой ночью приходит завтрашний немой восход.
Все еще серо и закрыты окна. В скупом пространстве этого балкона простывший вечер уступает ночи, а ночью брызжет серый сумрак утра. Только чтобы было понятно, вот только чтобы не осталось никаких сомнений, что такое грусть или печаль. В ней все седое и пустельга пустая, стеклянный ропот фонарей и серо-белый блеск асфальта. Ночь шумит. Листва трепещет. Гингко растет. Поезда сходят с путей, дома рушатся, люди горят, но если ты настоящий, разрушить, сжечь и свести тебя с пути сложней. Пусть, как однажды, ты проснулся и понял, что миром правит что-то иное, чем любовь, ты встанешь завтра и скажешь: «Дома горят, поезда сходят с путей, надежды рушатся, но единственное, что навсегда – моя неунывающая совесть. И в ней затерялось место для подсказок в какой дом идти, каким поездом ехать, какие надежды верней. Время – единственное, что стоит совести». И только так, она может стать тем, во что оно ее превратило.
Пустая совесть – на совести времени. Пустые камни не говорят. Слепцы умирают во тьме. И только то настоящее, что живет во мне. Все остальное мертво. Это и есть печаль. Но не печаль по скорому, настоящему или будущему, а печаль по весне.
Она скоро придет. Так же придет и следующая.
Backing home
Мыслями я все еще в Кагосима-сити. Порою в Мобиле на разгрузке. Не знаю даже, чем запомнился мне этот день. Шел дождь. По-весеннему мелкий и непродолжительный. Блестели крышки трюма. На пристани припарковался шевроле с открытым верхом. Из него била бешенная музыка и были слышны ликующие крики возбужденных пассажиров. Казалось им весело. Все это оживляло пасмурную картину и шумный шорох дождя.
Порою я ухожу мыслями в Бремен. Эмоции еще не перегорели. Мои нервные клетки все еще разговаривают со мной вспышками ярких воспоминаний. Но я возвращаюсь все больше и больше в душную тихую комнату, впитывающую покрытыми дешевыми обоями городской шум и редкие к вечеру отголоски Кагосима-сити. В лоджию, на самом краю полусна и дремы, в жаркий полдень Неаполя, с раскрытыми окнами, у подножия Сакурадзима. Пишу несколько строк и впадаю в безбрежное восхищение мелкими и несущественными деталями, местами, в которых мне довелось побывать.
Кагосима-сити стирается понемногу из моей памяти, и я устраиваюсь на диванчике в прокуренном кубрике. Жду причала. Через две недели я окажусь в пределах Китая и вылечу первым же рейсом в какой-нибудь городок ближе к Амстердаму. Потом сяду в поезд и направлюсь к себе домой.
Поездки на автобусе, как и на мото почему-то не входят больше в мои расписания. Я устал и напряженно слежу за линией экватора. В Норфолке я познакомился с одним байкером. Он сказал, что отправляется в рай. Не знаю, что он имел в виду, но может быть, когда зеркало мне скажет, что туда отправляются все, кто позади него, я встречу его снова и спрошу, где это место.
Лайнер останавливается в одном из городков Кореи и там курсирует по берегам Синейджу. Пхенан-Пукто и Чагандо особенно живописны. Но в этом пустом безделье, я лишь сторонний наблюдатель и мне видны их огни. Огни больших городов в черной ночи обычно так манят своим теплом.
Я стою у борта, возле надстройки и жду очередных сверкающих ярче звезд над полотнами мегаполиса.
Задумываюсь о беспредметных, текущих, словно морская пена, ударяющая в борт судна, незначимых и неважных, мелких делах. Они скрадывают мои мысли о возвращении тех, которые мне приятны и дороги. В один момент забывая о Кагосима-сити и его прошлом в нем, будто окунаюсь в мирно колышущиеся волны Западного залива, меряю его бурлящие воды взглядом, в котором полно застарелой грусти и меланхолии.
Я окунаюсь во тьму, приятную свежим ветром и легкой прохладой, чувствуя, что она целует меня в лодыжки. Словно Дьявол, шепчет мне лесть и фанфары, заставляя меня парить на носу карго. Я соглашаюсь, немного поколебавшись и забываю, что было со мной дурного и скверного. Все, что будет. Я все еще в Мобиле. Подставляю лицо порывам теплого ветра, понимая, что впервые узнаю на себе, что такое мистраль. Настоящий, упругий, с прохладой в теплых струях. Его порывы бодрят и радуют прохладой. Свободой. Я ухожу в каюту и на завтра снова встаю поздно, выхожу на палубу, закрывая за собой тяжелую дверь.
Смотрю на прибрежные звезды и не поднимаюсь к собравшимся на вечное празднование мелких забот огромной толпе, туристам в кают-компаниях и на деке. Фотографирующих и гомонящих до поздней ночи. Оставляющих по себе обертки мороженого и бутылки, плавающие на дне выглаженной до блеска мостовой. Пирс обливается мягким скользким светом. Влажно. Мне совсем не о чем писать. И я курю одну за одной, дожидаясь шумного гвалта спускающихся по трапу и возвращающихся с пирса гурьбы, празднующих и праздношатающихся зевак. Не обращая внимания на кружащуюся мишуру прохожих и суетливость набережной службы, ищу глазами порт. А в нем огни.
Я помню это отчетливо. Кажется, будто в тумане, прохожу контроль пограничной службы и сажусь в самолет. Рейс довезет меня в прилежащие города Одессы, но я не запомню его и не уверен вполне, что если бы он направлялся в Будапешт, я бы как-то очнулся и удивился тому.
Все стремительно меняется, и я теряюсь в часовых поясах. Я уже отлично выспался и вошел прямиком в Хельсинки-Киев-Рига-София-Вильнюс, а мой пояс все еще топчется на час раньше в Амстердам-Берлин.
Рядом со мною садится растрепанная блондинка, – по последней моде. Вероятно, она за собой следит. Это видно от лоснящегося маникюра до подобранного жакета в тон помаде и шарфику. Пудреница в ее руках отражает толкущихся за нашими спинами неугомонных пассажиров и на меня смотрит из зеркальца Дэвид Кристофер Блэк, вопрошая: «не научились ли вы, уважаемый, читать между строк? Блюз Нарита. А как насчет „Юз“? Шикарнейший скрипичный ключ от Pink для всего малого и большего бизнеса. Детей и промокшей тоски в Кагосима».
Нет. Мне как-то все больше по душе конкретность и детерминизм. Написано Блюз, значит в нем есть Кагосима, но нет никаких скрипичных ключей.
Я обещал безмолвную речку, бесшумно и немо влекущую из приютной гостиной на улицы дождливых ночей, но от меня этого не дождетесь. Думаю, если бы я оставил пустой лист под заголовком в мотеле, он окрасился бы в цвет вечерней зари, а монохромный свет фонарей и ламп в мотеле, подвинул бы ноты чуть ближе к сердцу. Но кто знает, почему о н остался пуст. Я был рад услышать его музыку по-новому и напиться этой сладкой ночью. Мед в Техасе и пшеница бьют в радужку светлым полднем, и я разбираю подарки лета. Оно оставило во мне лучи солнца, пончики в столовой и деревянные брусья придорожной закусочной.
Если кто-то нашел зажигалку с хромированным орлом по New King Roads, знайте, я оставил ее от сердца.
Нет. Мне не кажется, будто я разговариваю с вами на суахили. И мне нет дела до сумасбродной табиты. В противном случае, я бы разговаривал с вами как с Рианной:
– Подай моя камень, – говорит неандерталец.
Жена, подбоченившись скалкой, иронизирует:
– Зачем? Бить камнем башка неприятелей будешь?
– Нет. Буду бить башка камнем. Плохо думать… Зачем ты выкинуть камень, дура!
– В реке много рыба, – отвечает ему жена.
И это как что-то необъяснимое, но повторяющее одну и ту же истину: когда кто-нибудь заламывает руки и бьется головой о стену, нужно подать ему импульс, чтобы он бился сильнее.
Crash, Boom, Bang раскачивается в моих наушниках, и я пою вместе с нею. Совсем как в магнитных динамиках прошлых столетий, разрешает мне впадать в меланхолию усталых романтиков и пустынных улиц, выдирая из нее цепким альтом Sam Brown.
Слушая минорную тишину, сопутствующую моему рейсу, я замечаю, как продолжает прихорашиваться блондинка. Она спрашивала меня уже несколько раз, читаю ли я Волык и как мне этот новый рассказ «Мой нежный…» кто-то там. Не люблю огорчать дам, а потому отвечал, что Волык, само собой, лучше Белык и знает, что нужно публике.
Мне противны ее огромные количества тонального крема и перекрашенные волосы. Но это наверно откуда-то из 80х. Нервное прислушивание к ее чуткой натуре, заглушают тонкие мотивы guitar, flute & sring. И я включаю Moby по-громче. Откидываю голову на спинку кресла.
Мне кажется, что ее можно понять. Довольно странно видеть не лишенного фигуры, в синей обтягивающей футболке и не самой дешевой марки часами, роющегося в записном блокноте, черкающего там каракули и сосредоточенно игнорирующего стюардесс брюнета. В его Orient отражаются ее помада и блеск люмин, складываясь в причудливый блеск. Ему совсем без надобности ее внимание, но она отчего-то решила воспользоваться тем на все сто процентов.
Мне немного печально скрывать от нее мнение относительно ее эрудированности в ситуации сложившихся на мировых рынках и бирже сиюминутных новостей, что я думаю о CNN и шатенах в синих футболках с часами Orient.
Наконец она успокаивается, видя мое безразличие и, в конце концов, я оказываюсь во власти Burning Red. Оно опоясывает каждое мое чувство, каждое движение в нем, тешится игрой равнодушия и тянет меня назад в этих мягких, воздушных креслах к истокам моего прошлого, – самого дальнего, самого далекого, начинающегося где-то глухими нотами форте- и пьяно-. Словно мелодия, прерванная телефонным звонком, – разбитая и дребезжащая, навевающая тоску и амсляв, увлекая за собой перетягивающим неровным звуком.
Раздается дребезжащий голос стюардессы, и я оцениваю мою соседку. Тихо, украдкой, через ее вновь откинутое зеркальце из пудреницы достаю из своего эго и памяти теплоту и приют 80х, где каждый помнит блондинок и химию курчавых волос аля джанк ярд.
Я не очень-то большой джентльмен. И вдобавок прост. Обращаю внимание если не на лицо и фигуру, то хотя бы на шарм.
Он есть, но она худа как недокормленная корова. При ее малом росте, это было бы мыслимо отнести к достоинствам. Но я в этом немного не смыслю. И тем не менее кладу глаз на ярко-красные губы. Такой она очевидно видела одну из актрис в чертовски старом, но еще не отошедшем в анналы преданий блокбастере.
Мне импонирует Волык. Хотя я читал ее немного, но у нее есть очарование. И мне не до конца понятно, что не дает мне заговорить вновь.
Прихожу в себя одним толчком, словно от глубоко сна, в котором я забылся от самого авиапорта: шатаясь по терминалу, следуя к кассе, наблюдая холодные металл и покрашенные стены, бредущих на меня людей, – уставших и подобно мне балансирующих в полудреме, на грани яви и сна.
Открываю глаза и слышу тихий гул двигателей. Очень медленный, растягивающий звук лопастей, копотливый, шуршащий в глубине салона, растворяюсь в темноте неба. За окнами лайнера оно затянуто плывущими облаками. В привычном танце больших ватных клубков, кажется, что все необычно. Ветер за окном еще крепче, чем был. Визжание приглушенной гитары в моих наушниках окончательно вырывает меня из ритма сонной печали, и я стираю подборку в моей К-плейере. Не знаю, как это объяснить. Может быть: пропади оно к черту, все, что не котируется нынешним миром. Пропади к черту талант и дарования. В этом мире, все время недобирающем капли разума и скоростных хайвеев, нет ни на йоту, ни грамма радости. Победы, разочарования, безразличие, как к этой блондинке и теплый джанк ярд восьмидесятых.
Я останавливаюсь, на кнопке удалить, и гляжу в окно, чувствуя, как соприкасаются шасси с землей. Смотрю в монитор черного Ericson, все еще подключенного гарнитурой к слоту наушников, и отчего-то мне жаль наброски, и зарисовки, в которых нет ни грамма надобности. В них нет ничего необычного. Много того, что не понравится, пустых слов и лишних эмоций, но они отчего-то прочно сцепились с моими, и не желают со мной расставаться.
Я подчеркиваю их и затушевываю. Заштриховываю ненужное и наносное. Убираю лишнее, водржаю на пьедестал гармонию и невесомость: «Небо порта, словно звезды в июльскую ночь. Небо Манчжурии, где старый Хоу, говорит мне на языке мертвых. Туман стелется по дороге и клубится вдоль промышленных заводов, построек и электропроводки в огнях и невысоких башен…». Тогда я захлопну дневник и наступит…
«Varum», «Crash, Boom, Bang», Fort Minor, «Nash», «guitar, flute & string».
Я убираю их из музыкальной подборки и растворяюсь в небытие плавающих в танце радиоволн и мелодий. Встаю и иду на выход за кудрявым в мелкий бес на переливающейся маслянистой шапкой черных помазанных будто бриолином волос серьезного на вид низкорослого араба. Или пуэрториканца.
Невозможно определить, но мне казалось будто я видел его крупный нос и черные, как маслины глаза. Метис пододвигает меня, и я извиняюсь, что не наступил ему на ногу, но он, очевидно, занят более серьезными делами, чтобы выслушивать меня.
Стюардесса провожает всех без перебора дежурной улыбкой, на которой, впрочем, возможно прочитать облегчение и счастье от состоявшегося полета.
У меня совсем на редкость несвойственное настроение, когда нет желания кого-то подбадривать португальскими шутками и подбадриваться от того самому. Единственное, чего я хочу, это чтобы меня оставили в покое как ту стюардессу на трапике и записали в мою послужную книжку: «добрался по воздуху, стало быть, не тюфяк».
От посадочной площадки до терминала меня провожает раздвижной рукав, и я попадаю прямиком в зал ожидания, где такие же белые полы и стеклянные двери, как и в терминалах и порту Антверпена.
Усаживаться мне не хочется, за багажом идти тоже. И я шатаюсь, время от времени ища туалет, в котором нельзя курить. Отыскиваю его, спросив служащего и пройдя несколько метров назад к входной точке терминала, открываю дверь и принимаюсь курить. Никого нет, некому меня судить.
В этом свободном и просторном помещении гуляет сквозняк, и я набираю новую подборку на телефоне. Стираю ее, после прослушивания. Улыбаюсь себе в зеркало, докуривая вторую, – мой шедевр был, впрочем, был не так уж плох. Диджей из меня получился бы тоже хороший. Но это не какое-то попустительство и не бездумное расставание со всем, что подворачивается под руку. Мне хочется думать, что это что-то иное. Но я не знаю, что. Быть может какая-то тоска. Или амсляв, граничащий с неизбывностью, промелькнувший, словно вспышка молнии в разряженных облаках. Какая-то грусть, накатившая, навалившаяся словно камень на голову. Что-то тяжелое на плечах. Что-то, что накатывает исподволь на любого, когда-нибудь, без видимой причины, без смысла и без повода, а оттого еще более скверное. Словно обычный пасмурный день, с еще не развидненными облаками, серым небом и хмурой тоской. Ветром, что гуляет в дудках хромированных мостовых. Горько-терпкий запах гаванны.