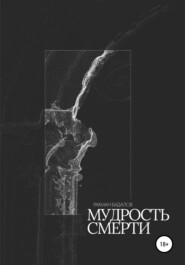скачать книгу бесплатно
Здесь прошлое и настоящее разрывают друг друга. Здесь мифологизируя прошлое, мифологизируют будущее, а в настоящем пытаются жить вне времени, вне его законов и правил, вне его духовных поисков. Тогда и наступает разочарование во всём, обида на весь мир, только и остаётся приписать миру все существующие пороки, двойные стандарты, обман, подкуп, уловки, лицемерие.
В этих условиях мост медиации может превратиться в дорогу ниоткуда и никуда. Открытость к различным идеям, облучающим с разных сторон, может выработать привычку к приспособленчеству, к мимикрии. Время может сузиться до «пятидневного мира» (bes g?nl?k d?nya) как говорят здесь, а если мир состоит из пяти дней, то стоит ли думать о прошлом и будущем, не лучше ли жить «пятидневным миром» здесь и сейчас. Но почему-то этот «пятидневный мир» рождает не беззаботность, а постоянную отягощённость, уныние, натужность, почему-то это настоящее без прошлого и будущего только калечит и сокращает жизнь.
Развязать этот «гордиев узел» практически невозможно, разрубить не хватает воли и решительности, вот и раскачивается маятник между завышенной самооценкой и безжалостным самобичеванием, между верой и безверием, надеждой и отчаянием.
А если не хватает сил развязать, разрубить, то только и остаётся прокричать, прошептать, промолчать.
Контекст
Известный учёный, москвич, этнический таджик в размеренной, медиативной манере, тихим, спокойным голосом убеждал аудиторию, что народы делятся на «пассионариев духа» и «пассионариев перемещения в пространстве».
Это был более изощрённый вариант другого, весьма живучего мифа о том, что есть народы, которые засевают землю, строят храмы, собирают рукописи, а есть другие народы, которые приходят, вытаптывают землю, разрушают храмы, сжигают рукописи. Миф, выдающий себя за историю.
Известному учёному я задал простой вопрос: жёсткая демаркация между типами «пассионарности» складывается в историческом времени или существует вне времени? Ученый нехотя и как бы равнодушно ответил, что время здесь не при чем. Как бы предполагая, что всё предопределено (кем?). Других вопросов я не задавал, осталась недоговорённость, что-то меня смущало, но что, тогда я так и не вспомнил.
Только поздно вечером – ба – вспомнил. Конечно, после драки кулаками не машут. Но бог с ним, с этим известным учёным. Главное, разобраться в сути, и трезвыми глазами посмотреть на самих себя…
…Когда-то над человеком не довлело время. Прошлое было так далеко, что временем не измерить. Даже не прошлое, просто до-время, до – всего. Из него всё началось, в нём всё вылупилось целиком, как Афина из головы Зевса. И предметы, и слова, и поступки, и правила жизни. Всё, из чего состоит жизнь. А если случались несчастья, это означало только одно – нарушение того, что открылось в до-времени, пра-времени. Произошла порча, осталось её исправить, чтобы вернуться в мир, над которым время не властно.
Гильгамеш, возможно, первый возвестил миру о конце безоглядной веры в до-время. Он был сильнее всех людей и кичился своим могуществом. Он возомнил о себе, как о боге. А был лишь смертным. Вот и пришлось ему расставаться с иллюзиями, терять друзей, содрогаться от ужаса собственной смерти и после долгих странствий возвращаться домой побитым и униженным.
Возвращаться человеком, живущим, в реальном мире.
Эстафету Гильгамеша подхватили многие, но, прежде всего, Прометей у древних греков. Вот кто действительно взбаламутил, взбудоражил, растормошил сонно-прозябающих людей.
Он отправил их за доблестью и славой, но без бессмертия, прерогативы богов, и без гарантии, что каждому смертному удастся завоевать эту доблесть и честь.
Он заставил людей жить под набатами времени, убеждая, что у них нет иной альтернативы.
Возможно, именно Прометей обрёк их на трагическое само-стояние, обрёк на то, что Симона Вейль определила, как способность противостоять силе, ощущать трагизм этого противостояния. Но не сомневаться в своём выборе, поскольку нет другого способа не быть раздавленным временем, обстоятельствами, судьбой.
Позже, практически в одно и то же время в разных точках земного шара у разных народов произошло духовное прозрение, прорыв, высвобождение из времени, равного самому себе.
Задумавшись над этим одновременным прозрением, немецкий философ Карл Ясперс не смог скрыть своего удивления:
«человек осознаёт бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения».
К. Ясперс посчитал, что от духовных прозрений Китая, Индии, Персии, Палестины и Эллады этого периода ведут своё начало все религии и все философские системы современности.
Действительно, человек впервые ощутил себя в мире, где всё необратимо, неповторимо и потому уникально. Мир человека навсегда стал хрупким и утончённым, нежным и ранимым, гибким и стойким в своей гибкости. Печаль уходящего стала сопутствовать полноте пребывания. Открыв смерть, человек заново открыл красоту жизни.
Вся культура человека с этих пор стала с одной стороны «поиском утраченного времени», а с другой попыткой научиться жить в этом вечно уходящим, убегающем времени. С тех самых пор возникла и стала углубляться граница между общественными системами, сакрализирующими до-время, пра-время, и предзаданное поведение, и общественными системами, где время вечный дракон с тремя головами.
Но как бы не углублялась эта демаркация, она размывалась вновь и вновь. Одни продолжали искать «град божий» и охранять нас от «каиновых напастей», другие звали назад к природе, пытаясь «реабилитировать дикаря», третьи обращались к сакральной Книге, убеждённые, что её правила не подвластны времени, четвертые, пятые десятые, демаркация всё возникала и всё размывалась, а святые и безумцы сходились и расходились вновь и вновь.
Красивая теория, названная К. Ясперсом «осевым временем», оказалась не столько научной теорией, сколько интеллектуальной поэмой о величии человеческого духа перед лицом бездны, в которую он заглянул, ужаснулся, но выстоял.
Но К. Ясперс не ограничился красивой интеллектуальной поэмой, он решил, что он учёный и проповедник в одном лице. Удивление сменилось назиданием, восторг – приговором, красивая интеллектуальная гипотеза – тестом отбраковки народов: «все народы делятся на тех, основой формирования которых был мир, возникший в результате прорыва, и тех, кто остался в стороне. Первые – исторические народы, вторые – народы первобытные» (Вы не забыли витиеватые слова московского учёного?).
Самое время вернуться к пассионарности.
Общеизвестно, что термин «пассионарность», «пассионарии» введён в обиход русским мыслителем Львом Гумилёвым, для характеристики ландшафтной истории этноса. Пассионарии – это люди особого психического склада, особой энергетики, способные разорвать границы своего времени, даже ценой самопожертвования. Они создают этнос, они его формируют и направляют, они сохраняют пассионарность и при затухании этноса («яркого, как румянец у чахоточного», говоря словами поэта).
Пассионариями, в зависимости от времени и стадии развития этноса, могут оказаться полководцы и проповедники, мыслители и художники. Для Л. Гумилёва и этносы, и пассионарии – явление не историческое, а космическое, природно-ландшафтное.
Л, Гумилёв создал красивую интеллектуальную поэму об этносах (не случайно, сын великого поэта), которая с тех пор стала мощно подпитывать мировую интеллектуальную мысль. Даже в тех случаях, когда с Л. Гумилёвым не соглашались.
Но теория (поэма) Л. Гумилёва и теория (поэма) К. Ясперса оказались взаимоисключающими (в не в эвклидовой системе отсчёта – взаимодополнительными). Л. Гумилёв никак не мог согласиться с тем, что пять народов оказали благодеяние остальному человечеству, что «осевое время» обрекло народы на вечный экзамен, который не все смогли сдать.
Бог не делит нас на избранных и отсталых.
Если уж судить о народах, то только с точки зрения космически-природно-географически-ландшафтной среды. Таков пафос мысли Л. Гумилёва.
Горький парадокс: и Карл Ясперс, и Лев Гумилёв, убеждённые гуманисты, пострадали от двух наиболее жестоких тиранических режимов ХХ века, фашизма и коммунизма, которые как раз вознамерились разделить расы и народы на «высшие» и «низшие». И кто сегодня способен отгадать, где и как возникают жестокие, репрессивные режимы, в космосе, в истории, или в глубинах нашего высокомерия.
Вы обратили внимание, в чём состояла манипуляция известного учёного? Термин Л. Гумилёва, принципиально не принимающего разделение народов на «цивилизованных и отсталых», был использован … для разделения на «духовных и «бездуховных», отсталость которых предопределена. Расизм, обёрнутый в изощрённые теоретические покровы.
Но … не знаю, как у вас, а у меня не выходят из головы эти «пассионарии пространства».
Вновь повторю, бог с ним, с маститым учёным. Не в этом дело. Да, ничего нет в мире изначального и абсолютного, любое деление придумано нами, но действительно, там, где меньше духовности, больше мельтешения.
Речь не о кочевниках и кочевничестве как типе жизни. Любой здравомыслящий человек поразится их особой духовности. Всё на колёсах, всё верхом, и быт, и социум, и искусство, и политика, и любовь, и смерть. Всё должно разбираться и собираться, вновь и вновь. Особая брутальность жизни. Мощная пассионарность. При этом изысканно-орнаментальная эстетика и высокая экологическая этика – никакого ущерба природе. Невольно подумаешь, что философия «кочевничества» не столько прошлое, сколько будущее человечества. Одним словом, дело не кочевничестве.
Дело в другом.
Там, где всё меньше от Гильгамеша и Прометея, от трагического вызова судьбе, где всё меньше от хрупкости, нежности, от печали по необратимому времени, там остаётся только одна внешняя активность. Ни поражения, ни побед. Одна только нужда, которая гонит и гонит вперёд. Только страх перед этой нуждой. Одно только желание забежать за время, спрятаться от него.
Как-то, выступая по национальному ТВ, я говорил о том, что нет у нас оснований стыдиться наших соотечественников, торгующих на бескрайних просторах России. У них хватило предприимчивости и решительности двинуться в неизвестное, чтобы прокормить свои семьи. Они трудятся в поте лица, и только наивный человек может решить, что на рынках России «сладкая жизнь». Не будем бросать в них камни.
Но кто же они, тысячи и тысячи азербайджанцев, переместившиеся в холодную северную страну.
Пассионарии?
А может быть жертвы, которые так и остались «между», повисли над пропастью, не способные сдвинуться с места. Хватит ли им мужества заглянуть в бездну собственной жизни, чтобы духовно прозреть?
Смогут ли они осознать трагизм и величие собственного положения?
Станут ли они ядром нового этноса, способного, побеждая пространство, вырваться на простор из тисков остановившегося времени?
Застрявшего в углу, где скапливается пыль.
А может быть они сопровождают мемориальную фазу жизни этноса?
Не справившись с жестоким временем, они прячутся в забытьи воспоминаний о прошлом, которое всё больше исчезает в дымке времён.
… на перекрёстке дорог и идей
Он вернулся в Азербайджан после окончания Московского Университета. Мог не вернуться.
Во-первых, учился блестяще, предлагали остаться, были все основания остаться.
Во-вторых, женщина. Более других просила остаться.
Он не согласился, просветительский «зуд» звал его домой, он уехал, она осталась. Не всякая женщина согласится поехать из «цивилизации» в «архаику».
Он вернулся. Взял себе псевдоним Зардаби, по названию местности, из которой был родом. И, возможно сам того не ведая, попытался взорвать изнутри сонно-текущее время захолустной жизни.
Позже он напишет серию статей, назвав их «Письма из захолустья». Но, по существу, весь Азербайджан был тогда захолустьем. Кто-то возразит, как так, страна древней культуры, и вдруг «захолустье». По поводу древней культуры спорить не буду, хотя, признаюсь, не очень понимаю, что означает «древняя».
Во всех случаях, не трудно вообразить «захолустье» с «древней» культурой, уходящей в до-время, в пра-время. Вообще «захолустье» совсем не означает мрак, голод, отсутствие нравственности, всеобщую вражду. Просто тип жизни в конкретном историческом времени.
Не будем спорить. Достаточно просто подсчитать, сколько было тогда у нас городов, сколько было школ, сколько было газет, сколько было образованных людей, и это будет самый серьёзный аргумент. Даже о Баку, будущем центре цивилизации и культуры страны, Зардаби в то время писал, как о «богом забытой земле».
Но есть ещё один фактор, без которого выхолащивается суть того, что сделал Зардаби. Просветитель Зардаби вносит в азербайджанскую культуру точку обзора, зеркало, в которое теперь можно и придётся смотреть. Это переворот, подобный потери девственности. Назад к мирной, убаюкивающей жизни, которая течёт в размеренных берегах традиций предков, уже невозможно. Только если в уродливых, гротескных формах.
Зардаби не просто вернулся домой. Он вернулся с намерением поменять всё в своей стране.
Всё, и нравы, и способы управления, и сорта растений, и породы животных.
Всё, и способ жить, и способ мыслить.
Жить не так как завещали предки, а как требует того время, которое и должно было взорвать захолустье. По крайней мере, в городах. По крайней мере, в главном городе «захолустья».
Зардаби был просветитель в эпоху Просвещения и этим многое сказано. Просветители того времени верили, что Просвещение открыло архимедову точку опоры, способную перевернуть весь мир. Способную сделать любое «захолустье» просвещённым. Верил в это и Зардаби.
Несомненно, Зардаби удалось сделать поразительно много. Первая газета, первая светская школа, прорыв в женском образовании, прорыв в городском самоуправлении. Многое другое. Но удалось ли ему сдвинуть с мёртвой точки «захолустное время»?
Что можно было сделать в тех условиях?
Каковы оказались последствия сделанного?
Вопросы трудные, вопросы на все времена. Вопросы, которые сеют сомнения, вопросы, которые вносят растерянность.
Только об одном можно говорить с большей или меньшей уверенностью, отныне каждый шаг наш станет историческим, не в том смысле, что каждый наш шаг станет значительным. А в том смысле, что изменилась точка отсчёта, место традиций предков, место до-время и пра-время, время без времени, неподвижное время неизменных постулатов для мысли и для поступков, заняло время как таковое, подвижное время, подвижное, благодаря перманентным импульсам извне и изнутри, отныне каждый наш шаг станет историческим в силу того, что будет менять ракурс.
И снова, и снова, придётся отвечать на старые и на новые вопросы, как вытекающие один из другого. И мы по-новому будем воспринимать происшедшее в Азербайджане во второй половине XIX века, и в том, что происходило в Азербайджане до XIX века, и что происходило после XIX века, но, прежде всего, происшедшее в Азербайджане, во второй половине XIX века.
Зардаби можно назвать пассионарием духа.
За последовательность, упорство, неистовство.
И ещё за жёсткость, резкость, колючесть.
Не так-то просто столкнуть время с мёртвой точки. Поэтому выбрал схватку, противоборство, без каких-либо уступок. Естественно, должен был получать удары, и получал их слева и справа, от своих и чужих, от власти и от народа, везде, где посмел потревожить «захолустное» время.
Потом, когда умер, похороны оказались не просто пышными и продолжительными, многоязыкими и многоконфессиональными. Конечно, дань уважения. Но если чуть поменять ракурс, встретились различные времена, которые Зардаби поставил лицом к лицу. По календарю было начало ХХ века (сколько времени прошло с тех пор?), но здесь встретились разные времена, разные народы, разные языки, разные культуры.
Перед лицом смерти великого человека они замерли в почтительном молчании, чтобы потом разойтись в разные стороны. Если только не взорваться и не ополчиться друг на друга. Время замерло на перекрёстке дорог и идей, чтобы уже в следующее мгновение прийти в непредсказуемое движение.
Деяния Зардаби я бы сравнил с деяниями Прометея и это не просто риторика, не просто пафос. Дело в масштабе деяний и в трагизме результата. Представьте себе Прометея, который разбудил мирно спящих людей, а потом вдруг оказалось, что «разбуженные» люди перегрызли друг другу глотки. Именно в этом смысле я сравниваю Зардаби с древнегреческим титаном. Масштабные изменения, которые во многом опошлились в реальном времени.
Теперь, по прошествии стольких времён, мы уже знаем масштаб этих опошлений в различных временах. «Захолустное время» оказалось более живучим, чем могло показаться Зардаби. Мы так и не научились практиковать сложность жизни, так и не научились публичной свободе, так и не научились рациональным процедурам по поводу общественного договора.
Во многом мы остались в плену мифологических грёз, коллективных упований, сброса «больных» мыслей и чувств на внешних и внутренних врагов. По-прежнему остались не готовыми к само-стоянию.
Во многом мы остались в «захолустном времени», но теперь уже растревоженном, лишённом спасительной инерции захолустья.
Так что же, обвиним во всём нашего Прометея, который растормошил нас, сонно-прозябающих, заставил жить под набатами времени. Нет и ещё раз нет. И не только потому, что нет альтернативы «выходу из захолустья», может быть, только если глобальный мир придумает новые планетарные резервации.
Нет, прежде всего потому, что «после Зардаби» выяснилось, что у нас немало тех, кто оказался готов к трагическому само-стоянию. Мы заболтали их деяния риторикой «служения народу», но дело было как раз в том, что они оказались «пассионариями духа», они никому не «служили», «народу» в том числе, они встали во весь рост, чтобы осуществить себя вопреки требованиям «захолустного времени».
Их оказалось на удивление много, по крайней мере, трое из них получили статус Мирзы, то ли как признание их учёности, то ли как признание того, что они являются предводителями.
Они были разные. Один – Мирза Фатали – был степенный и почти невозмутимый, он мог позволить себе издеваться над самими «звёздами», определяющими судьбу человека, он создал комическую галерею национальных типов, к которым, за все эти годы, кажется, нечего и прибавить.
Второй, – Мирза Алекпер – был едким и жёлчным, преодолевая немощь, он яростно обрушивался на всё косное и застойное, его «Хоп-хоп-намэ» могли счесть за пасквиль, но парадоксальным образом его признали почти народным поэтом, то ли музыка его стихов была сродни фольклорной, то ли его воспринимали как дервиша, которому всё дозволено.
Третий – Мирза Джалил – был саркастичным и беспощадным, его метафоры «мертвецы» и «сборище сумасшедших» до сих пор стучат нам в висок, его жизненная энергия опрокидывала бастионы фарисейской морали, но по инерции его признали классиком, стараясь не замечать ни его шокирующих фельетонов, ни разительных стрел его «Мола Насреддина», ни пронзительную горечь его трагифарсов.
Все они, и те, кого мы не назвали, а их было поразительно много, создали новую просветительскую символику, которая требует для своей реализации публичного пространства, в котором и происходит вечное расколдовывание мира, вечный выход из захолустья.
Они завещали нам вечную борьбу с захолустьем коллективных мифов и коллективных упований, даже когда покажется, что время окончательно застряло в углу, там, где скапливается пыль.
Они должны остаться в нашей памяти не только как «борцы с захолустьем», но и как титанически-прометеевские люди, способные действовать вопреки, способные на святотатство, способные создать самих себя, преодолевая границы исторического времени.
А заколдованный мир захолустья продолжает сопротивляться новому историческому времени до сих пор…
Вместо заключения.
Мы придумали время или время придумало нас? Мы для него или оно для нас?
Говорят, мы живем в эпоху «post», «после».
После всего. После истории, после модернизма, после национализма.
Даже после времени.
Конечно, время, бегущее мимо нас, никуда не делось. Часы отстукивают астрономическое время, календари помогают не запутаться в смене дней недели, месяца, года. Но эпоха постмодерна, если не отменяет время, то замедляет его настолько, что разные времена наскакивают друг на друга. Сталкиваются в одном пространстве. Поэтому, кажется, что время остановилось.
Растворилось в пространстве.
Время стало пространством.
Пространством современности.
Историческое время, когда каждый шаг осмысляет себя как вытекающий из предыдущего, постепенно отступает под напором международных конвенций и юридических санкций.
Модернизация стала пониматься сугубо технологически, как набор дискретных правил, исключающих время событий.