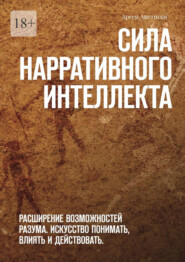скачать книгу бесплатно
Монополия на нарративы
Как общества создают монополию на смыслы и нарративы и их добровольный выбор людьми.
Люди верят в то, во что верят, и видят то, во что верят.
В прошлом веке, если в кинотеатрах города шли фильмы про ковбоев и индейцев, то в детских медучреждениях увеличивались обращения с травмами от стрел из самодельных луков. Добротно сделанное кино – один из примеров эффектного пассивного нарратива.
Нарратив может выступать в двух ролях. Пассивная – когда нарративы выступают как ролевые модели для подражания. И активная – когда они влияют на поведение через их смысловое осознание.
Правильно построенный разговор с родителем или духовным пастырем, после которого человек меняет свою жизнь, – пример активного нарратива. Мы принимаем любые истории, в которых находим для себя что-то полезное, что мы можем приобрести или чего избежать. Мы учимся у тех, кто нам рассказывает такие истории и, по сути, формирует наше поведение. Но урок, который можно извлечь из истории человечества в широком смысле, состоит в том, что человечество не извлекает из истории уроков. Каждые сто лет или меньше оно повторяет какие-то драматические части своей истории. Может, это не те истории… А может, не те уроки…
Подавляющее число историй нам рассказывают любители. Но большее и целенаправленное влияние на нас оказывают профессионалы.
На протяжении веков прямо или косвенно правительства создавали и транслировали нарративы, позволяющие осуществлять непрерывный контроль за поведением граждан. Система нарративов – это мощный инструмент, с помощью которого институты в состоянии предполагать и направлять мышление, определять решения и поступки людей. Системность и преемственность этого процесса в том, что для каждого возрастного периода человека существует своя группа нарративов. Шаг за шагом, начиная с семьи, детского сада, родителей, с установленных порядков в школе и режима в институте. Дальше всё уже намного проще.
В людях воспитывают модели поведения, которые внутри себя несут много разных смыслов и понятий: про вину, про наказание при малейшем отклонении от существующей системы, про поощрения и даже про системы баллов социального поведения.
Если следование нарративу родителей обеспечивает ребёнку соответствующее вознаграждение, то он будет вновь и вновь повторять его. Для мира взрослых существует своя универсальная система контроля и регулирования поведения – денежная. Суть её в изначально созданном дефиците и ограниченной покупательской способности. Этот дисбаланс становится главным механизмом для функционирования любой модели выживания, которую выбирает человек.
В системе должен быть инструмент, которым можно было бы измерять положение человека относительно дисбаланса между его потребностями и возможностями. И эта форма измерения, назовём её социальной условностью, и есть деньги.
Деньги позволяют обменивать удовлетворение самых разнообразных фантазий человека на его труд, время и саму жизнь. Для закрепления такой зависимости придуманы ещё сотни разнообразнейших инструментов – кредиты, обязательства, ипотеки. Поэтому люди цепляются за работу, выносят унижения и терпят давление. Деньги – это универсальный и уникальный нарратив. Они, не являясь природным ресурсом, необходимым человеку для жизни, как воздух, солнце, флора или фауна, оцениваются людьми как незаменимое средство выживания, ради которого можно пожертвовать и флорой, и фауной, и воздухом, и самой планетой в целом.
Доминирующие в обществе нарративы не исходят от самого общества, хотя и могут убедительно таковыми казаться. Они всегда в той или степени представляют взгляды управляющей группы, будь то политические партии, банки, корпорации, властвующая элита или вооружённые силы. Можно наблюдать любую комбинацию вышеупомянутых организаций, которые, создавая временные альянсы, и определяют общественную повестку нарративов.
Смыслы содержания в нарративах регулярно создают иллюзорные общественные убеждения. Например, то, что война стимулирует научный и творческий потенциал. Для этого нет никаких реальных оснований, кроме того факта, что увеличение финансирования оборонной отрасли и приводит к появлению большего количества изобретений и технических прорывов. Финансируйте в таком объёме другую отрасль – и увидите, что получите. Растёт то, что поливают и за чем ухаживают.
Большинство склонно преувеличивать факт, что система свободного предпринимательства и конкуренция создают мотивацию. Это верно только отчасти. Если мир основан на конкуренции, то на чём держится сама конкуренция? Неужели эта система основана на желании стать лучше? Ведь очевидно, что параллельно такая система порождает и то, что свойственно конкуренции, – коррупцию, преступность, конфликты. Цена данной мотивации настолько высока, что подвергает сомнению сам смысл существования человека, особенно когда этот смысл подменяется корпоративными и национальными нарративами.
И на бытовом уровне может параллельно существовать несколько управляющих нарративов, порой прямо противоположных. Мы убеждены в том, что деньги настолько здоровая мотивация, что редко доверяем людям, единственная цель которых – финансовая выгода. Более того, к таким субъектам чувство недоверия не является единственным.
Люди склонны привносить нарративы прошлого в настоящее и проецировать их на будущее. Но о каком прошлом идёт речь, когда уже сегодня использование компьютеров и интернета бросает вызов самим формам занятости? Когда интернет представляет основу для развития невиданного социального направления в нашем взаимодействии с миром? Интернет аккумулирует огромные объёмы информации, формирует общественное мнение, и так получилось, что у нарративов больше нет таможенных барьеров, границ или международных соглашений.
Отдельные государства пытаются, и небезуспешно, ввести ограничения, но и они понимают, что человек, вынужденный выполнять монотонные повторяющиеся и бессмысленные для него действия, деградирует. Нарративы стран, на которые ориентируется мир, для большинства станут в будущем непригодными из-за созданных ими же техническими возможностями ускоренной интервенции альтернативных нарративов.
Нарративы – часть нашей физиологии, натуры, культуры. Даже те, кто думает, что принимает свои собственные решения, отключив телевизор и обезопасив себя от культурно-идеологической обработки, всё равно находятся под влиянием нарративов людей, которые смотрят ТВ и читают блоги.
И, может, завтра суперкомпьютеры не начнут войну, как в «Терминаторе», а просто будут создавать и распространять нарративы, благодаря которым само человечество сведёт цивилизацию к краху. Представляете, на что готовы убеждённые в чём-то люди? Это про них сказано, что один человек с убеждениями может больше, чем сотня с интересами. А если таких миллионы?
Человечество было в большей безопасности, когда, сидя вокруг костра и смотря на звёзды, люди рассказывали друг другу легенды и сочиняли мифы.
Мы мало знаем о себе. Люди ведают о собственном поведении меньше, чем о том, что продаётся в соседнем супермаркете. Но те, кто формирует систему нарративов, знают о нас больше. Технологии big data делают это знание невероятно эффективным. Очевидно, что ненавязчиво изменять систему можно меняя культуру и уровень просвещения. Люди должны узнать больше о себе и о мире, и что делает этот мир таким. Узнать, что именно их система нарративов делает этот мир таким, и как её можно изменить.
Что нас на самом деле заставляет принимать те или иные «осознанные» решения или направляет нас? Исключительно нарративы – то, во что мы верим, то, из чего мы состоим, и то, из чего выбираем. Наше поведение – это выбор представляемых нашему мозгу возможностей, того, что в нём уже записано. Нельзя выбрать из того, чего в нём пока нет. Но это можно создать.
И даже если монополия нарративов у государства, и оно формирует повестку, мы по-прежнему остаёмся парадоксальными содержанками своих нарративов. И у нас есть небольшая, но собственная монополия на нарративы.
Притча – одна из форм нарратива
Специфическое пространство обучения
Люди не созданы понимать логику; они идеально
созданы, чтобы понимать истории.
Роджер Шэнк
Человеку всегда необходимо специфическое пространство, где бы он размышлял, обучался, понимал и принимал своё место в этом мире и то место, которое ему ещё предстоит найти. Это не работа, не дом и не социальные сети, куда переместилась часть мира. Это то, с чего всё началось. Интеллект и его нарративы.
Одна из форм таких нарративов, способствующих его познанию, – притчи. Притча – это небольшой назидательный рассказ в иносказательной форме. Владимир Даль так и толковал притчу: «поученье в пример». Притчи позволяют облечь знание в живой динамичный образ, глубже запечатлеть его в памяти и представить как законченную идею, имеющую смысл. Любая притча захватывает слушателя не только сюжетом. Притчи образны и лаконичны, они полны метафор, они эмоциональны.
В жизни мы чаще встречаемся с притчами, имеющими отношение к ежедневной практике. Такие притчи широко известны и чаще цитируются, как, например, притчи царя Соломона. И даже сегодня, через тысячи лет они способны производить сильное впечатление на слушателей. А созданные на основе их сюжетов произведения искусства являются одними из известных для широкого круга. Но есть и другие известные притчи и не менее смысловые.
Например, притча о сеятеле:
«Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное зерно упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и оно, потому как, не имея корня, засохло. А иное упало в терние и выросло, но терние заглушило его. И только то, что упало на добрую землю, принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать».
О чём эта притча? Она о многом, и в том числе о процессе становления человека как личности и о роли в этом процессе условий и окружения. Многое в нашей жизни действительно зависит от того, насколько глубоко в нас падают зёрна знаний. И насколько мы подвержены влиянию внешних факторов – птиц, клюющих зерно, сорняков, которые растут рядом с нами. Если мы не будем сосредотачиваться, если получаемые нами знания и опыт не будут приняты так, чтобы трансформироваться в компетенции, если они не будут связаны с нашими ценностями и жизненными принципами, то в конце концов увянут и придут в негодность. Восемьдесят три слова притчи о сеятеле представляют собой ясный и лаконичный SWOT-анализ возможных форм этого процесса.
В нашей жизни много похожих притч или историй, но они, скорее всего, не настолько масштабируемые, глубокие и художественно безупречные, как у классиков. Мы удивляемся, как им удаётся так филигранно связать множество простых событий, увлечь нас и акцентировать внимание на главном смысле изложения. Этим феноменом и занимается целая наука – нарратология.
Управление парадоксальным и непредсказуемым
Управление – это формирование целеустремлённого поведения и как классические эксперименты показывают, насколько это возможно.
В жизни каждого человека существуют два замечательных дня: день, когда родился, и день, когда понял, зачем.
Джон Максвелл
Что человек хочет на самом деле, кроме традиционных счастья, здоровья и достатка? Больше всего он хочет определённости в своей жизни и судьбе. Но это невозможно без контроля над собой и контроля своего окружения. Контроль над собой в представлении человека означает понимание того, как он думает, что решает и как действует. Конечная цель контроля окружения – сделать так, чтобы оно способствовало достижению человеком его жизненных целей.
В управлении окружением есть множество составляющих. Помимо постоянной и активной коммуникации и продуманной стратегии построения отношений, это конкретные направленные действия, которые приводят к тому, что личные потребности человека становятся личными желаниями окружения.
В конечном итоге, суть любого управления собой и окружением сводится к формированию устойчивого целеустремлённого поведения. В этой простой формуле к обеим её составляющим – целям и особенно поведению – есть множество комментариев, которые делают эту формулу не такой однозначной, какой она выглядит на первый взгляд.
Касательно самого поведения человека – оно порой кажется нам совершенно непредсказуемым и невероятно парадоксальным. Приведём несколько самых известных экспериментов, дискурсы вокруг которых не утихают и сегодня. Но, так или иначе, они показывают степени этой непредсказуемости и парадоксальности.
В 1971 году Филипп Зимбардо с тремя коллегами из Стэнфордского университета исследовал природу насилия и жестокости, возникающих у человека в условиях навязанной ему социальной роли. Студентов последнего курса привлекли разыгрывать роли охранников и осуждённых в созданных «декорациях» тюрьмы.
Экспериментаторы с удивлением обнаружили, что через короткое время отношения между «охраной» и «заключёнными» быстро приобрели классический для этого сюжета характер. При этом и самими «охранниками» было замечено быстрое развитие у них проявлений садизма. А буквально через несколько дней уже «заключённые» устроили в «тюрьме» настоящее восстание.
Исследователи не ожидали такой стремительной трансформации поведения добровольцев и уже на шестой день досрочно закрыли эксперимент. Исследование продемонстрировало, насколько восприимчивыми и покорными становятся люди, когда присутствует поддержанная обществом или государством оправдывающая их поступки идеология. Проще говоря – когда нам присваивают роли, и если вокруг ведут себя так же, то и мы поступаем подобающим образом.
Следующий эксперимент – Стэнли Милгрэма из Йельского университета. Испытуемым «учителям» предлагали повышать напряжение тока в электродах, присоединённых к «ученику», который на самом деле был профессиональным актёром. «Учителя» об этом не знали, а «ученик» в высшей степени правдоподобно имитировал страдания, вызванные воздействием тока. В случае неправильного ответа «ученика» на вопросы «учителей», последние, согласно полученным инструкциям, повышали напряжение. При этом «учителя» знали, что напряжение свыше 300 вольт опасно для жизни. Экспериментаторы же, если их об этом спрашивали, настаивали, что эксперимент на самом деле не является таким жестоким, каким выглядит, и что «учителя» должны продолжать.
До начала эксперимента предполагали, что до 450 вольт напряжения, являющихся смертельным для человека, дойдут около 2—3% «учителей». Это соответствует статистике людей в популяции с садистскими наклонностями. Но в ходе эксперимента таких оказалось 65%! Лишь 12,5% остановились на напряжении в 300 вольт, а остальные участники распределились в промежутке от 300 до 330%.
Эксперимент показал, что люди готовы делать многие вещи, когда их действия оправдывают или они следуют указаниям авторитета.
Ещё один известный эксперимент «Добрый самаритянин» был проведён в 1977 году, также в Стэнфордском университете. Но прежде сто?ит напомнить, что представляет собой понятие ценностей человека. Ценности – это то, кем человек является сейчас и в жизни, и это убеждения о том, что для него важно и чего он придерживается, во что верит и чем руководствуется.
Об эксперименте. Библейская история о добром самаритянине (Евангелие от Луки, 10:30—37) рассказывает о том, как прохожий самаритянин остановился помочь раненому человеку, тогда как духовные пастыри – священник и левит, просто прошли мимо. Незатейливый сюжет с большим смыслом. Психологи Джон Дарли и Си Дэниел Батсон решили проверить, оказывает ли религия какое-то существенное влияние на потребность помочь ближнему. Участниками эксперимента стали учащиеся духовной семинарии. Группу разделили на две части: одну из них попросили сделать доклад о добром самаритянине, а другую – доклад о возможности трудоустройства в семинарии. Доклад нужно было презентовать в другом здании, и чтобы добраться туда, участникам надо было пройти через аллею. На обочине аллеи лежал пожилой актёр, имитирующий сердечный приступ. Разным участникам было дано разное время на то, чтобы дойти до аудитории. Поэтому одни торопились, проходя через аллею, а другие – нет.
По результатам оказалось, что студенты, готовившие доклад о добром самаритянине, останавливались, чтобы помочь, не чаще, чем те, кто готовил доклад о проблемах трудоустройства.
Единственным фактором, который оказывал влияние на решение семинаристов помочь мужчине, было время, которым они располагали. Те, кто торопился меньше, останавливались чаще. И, независимо от темы своего доклада, только 10% из тех, у кого было мало времени, пытались оказать помощь пострадавшему. Оказалось, что у нравственности есть временная зависимость, и она может существенно деформировать ценностную модель человека.
Чем больше в распоряжении людей времени, тем они добрее и больше склонны к сопереживанию и помощи. И, соответственно, наоборот: если люди спешат, то становятся недобрыми и безразличными. Стало быть, в мегаполисе вероятность получить помощь на улице на порядок меньше, чем в провинции. По-другому это звучит так: мы добрые, но у нас нет на это времени, или мы злые, потому что везде пробки.
И ещё об одном эксперименте, не таком известном, как предыдущие. Учёные из Института зоологии Зоологического общества Лондона вместе с Институтом человеческого развития Берлинского общества Макса Планка и Кембриджского и Оксфордского университетов под руководством доктора Эндрю Кинга показали, как могут появляться лидеры в человеческом обществе.
Представьте себе 200 человек, которым предложили двигаться по кругу. Единственное действующее при этом правило – не приближаться друг к другу ближе, чем на один метр. Один метр в данном случае можно было истолковать как некое интимное безопасное расстояние.
И вот в этой толпе появляется группа из пяти человек, которые начинают двигаться не по кругу, а в определённом направлении, к какой-то лишь им известной цели. Через некоторое время и остальные следуют их примеру. Двести человек начинают маршировать в одном направлении, не задаваясь вопросом, куда и зачем.
И если мы подумаем, что во всех этих экспериментах речь идёт о некой игре, то граница между любой игрой и реальной жизнью весьма относительна. Эти пространства имеют взаимный переход. Феноменологический казус заключается в том, что жизнь порой выступает как игра, а игра – как жизнь.
Как-то устами известного английского классика были произнесены слова: «Весь мир – театр, а люди в нём – актёры». А если так, то у актёров есть не только название их роли – есть сценарий, есть подготовленные монологи и действия.
Всех и всегда интересовал вопрос: кто и как пишет этот сценарий? И, как увидим дальше, мы являемся авторами лишь его небольшой и незначительной части.
Иерархия целей
Иерархия целей и сообществ. Как верхние уровни стремятся подчинить нижние и как это им удается.
Если ваш рабочий день не идеален, значит,
вы работаете на кого-то другого, а не на себя.
Марджори Бланшар
Жизнь человека можно рассматривать как процесс постоянной постановки целей и их достижения. Повседневная активность человека, его мышление, решения и, соответственно, поступки, которые формируют его поведение, – всё это направлено и подчинено целям, которые у него есть. Или тем целям, которые перед ним поставили или которыми соблазнили.
Уровни целей соответствуют формам объединений людей. Уровень целей в этой иерархии определяет ту категорию самоидентификации человека, в которой человек себя осознает и которая способствует достижению его личных целей. Иерархия выглядит следующим образом: человечество, государство, нация, корпорация, группа, семья и, наконец, сама личность. Цели верхних уровней стремятся подчинить себе цели нижних уровней. Но это не всегда у них получается.
Самый высокий уровень целей – это мегацели планетарного масштаба, цели всего человечества, цивилизации. Самые популярные из них – проблемы экологии. Человечество не перестаёт делать попытки как-то решать их, но с переменным успехом. Один из известных примеров – Киотский протокол по ограничению выбросов парниковых газов.
Или такая гипотетическая цель, которая станет реальной при появлении инопланетян с явно недружественными намерениями. Если действительно будет угроза интервенции на Землю, то нет сомнения, что произойдет объединение стран и правительств, а все текущие конфликты, войны и разногласия сразу потеряют актуальность. Объединение в данном случае произойдет в категории идентичности человека как вида.
Следующий подуровень целей в иерархии – изначально племенные, ставшие впоследствии национальными и государственными целями. Категории идентичности человека – это язык, паспорт, образ жизни, границы проживания. Объединение на этом уровне целей позволяет порой пренебречь мегацелями. Например, можно активно вырубать леса в Амазонии и объяснить, почему не стоит подписывать Киотский договор.
Уровнем ниже национальных – корпоративные цели. Это цели компаний, целых отраслей, объединённых в категории сфер занятости и мест работы. Реализация целей этого уровня становится доминантой, которая время от времени позволяет производствам сбрасывать токсичные отходы в окружающую среду, пренебрегать нормами ведения бизнеса и игнорировать государственные программы сохранения природы.
Ещё ниже уровень целей семей, групп, кланов и банд. И на этом уровне бывает так, что несмотря на корпоративную культуру, традиции и негласные законы, происходят конфликты, войны и противостояние поколений.
И, наконец, уровень личных целей. Это – самые чувствительные и самые важные цели для человека. Цели, которые и формируют большую часть ежедневного поведения человека. Цели, от которых люди не готовы отказываться, которыми не готовы пренебрегать, порой даже в самых экстремальных обстоятельствах.
Вопрос управления людьми всегда состоял в том, как подчинить цели нижних уровней верхним, будь то семейные, корпоративные или государственные. И чем выше уровень цели, тем это дается сложнее и сложнее. Одна из причин в том, что на нижних уровнях, поведение человека формируется на глубоких и устойчивых нарративах, а выше смыслы нарративов начинают расплываться или представляются неубедительными.
От эффективности и удовольствия процесса достижения целей зависит, как считают, качество жизни человека. Ради целей для достижения этого желаемого качеств люди готовы и объединяться, и изменяться. Они готовы менять место жительства, семью, профессию, место работы, а порой и страну и национальность. Люди готовы менять свою идентичность, чтобы реализовывать цели самого нижнего уровня. Это, как будет видно в следующей части, совершенно нормально для мозга человека. В этом и заключается его работа.
Интерес представляют другие случаи – редкие, но популярные, когда человек ставит цели верхних уровней превыше целей нижних. И вот здесь, реализуя эти «высокие» во всех смыслах цели, человека ожидает встреча с иллюзиями.
Первая иллюзия в том, что человек думает, что стремится к своей цели. Но на самом деле цель могли незаметно заменить заданиями, полученными от его окружения. Почему так? Хотя бы потому, что долгое время считали, что человек с какими-то своими целями опасен, особенно если они не сходятся с целями тех, кто им управляет. Не лучше ли ему дать задания? Большие, масштабные задания на всю жизнь.
К примеру, в некоторых странах ввели непрерывное задание – балльную систему оценки поведения гражданина. Баллы складываются из его соответствия требованиям и правилам общества. Чем ни цель? История показывает, что стремление «быть правильным» в рамках государства или нации постепенно обязательно трансформируется в ещё более неоднозначное – «быть правым».
Менее масштабные цели оставляют для пространств супермаркетов, ярмарок тщеславия, поливалютной системы ценностей и тому подобных зон для реализации своей материализованной самоидентификации. Для комфортного пребывания в этих пространствах потребления люди готовы к изнуряющему труду, эффективность которого начальство и общество определяют достигнутыми целями в единицу времени. Что в конечном итоге сводится к сомнительной системе оценки результатов этих достижений.
Рассуждая об оценке, стоит вернуться к гипотезе Сепира-Уорфа о значении языка в мышлении человека.
Есть ёмкое английское слово – outcome. Это и результат, и итог. Английский язык сам по себе одновременно ёмкий и лаконичный и, соответственно менее описательный, по сравнению с другими. И это слово больше всего соответствует и подходит по смыслу глобальному пониманию производительности человека или его деструктивному времяпрепровождению.
Американцы предпочитают термину «outcome» термин «profit», что многое говорит и о них, и об их подходе просчитывать, влиять и культивировать стремление к накоплению и власти. Для постоянного напоминания о сакральности таких стремлений и идентификации нации существует даже девиз «Мы верим в Бога», почему-то размещенный на денежной купюре. И насколько это ни выглядит неуместно, зато вполне доходчиво. Но что на самом деле существует для человека такое, ради чего он был бы готов добровольно подчинить свои личные цели целям компании, нации или страны? Смыслы. Только смыслы могут мирно принудить мозг пойти на компромиссы с его собственной целью выжить. И это, наверное, главное, чем люди отличаются от остального живого мира.
В конечном итоге на всех уровнях целей для подчинения нижележащих все занимаются одним и тем же – продажей концепций счастья. Существуют множество концепций счастья. Они настолько же растиражированы, просты и привлекательны, насколько недосягаемы. И возможно потому, что цель всех этих концепций нивелировать разрыв между «я хочу» и «мне надо», сделать его несущественным и малозаметным.
Сколько лишних забот от «хочу» возникает из-за того, что то, что человеку действительно «надо», не всегда есть то, чего он «хочет»! Поэтому, если человеку представить, что он «хочет» именно то, что ему «надо», то это уже обретает какой-то и коммерческий и политический интерес. Единственная задача – убедить в этой конструкции самого человека. Показать, что в его «желаниях» помимо целей, действий и планов, есть и смысл его жизни.
Кстати, если человека не убеждать в этой смысловой конструкции, то может наступить нежелательный для верхних уровней статус – когда человек хочет то, что у него уже есть. И это можно расценивать как счастье – хотеть то, что имеешь. Но это другая история и другая концепция.
Заветные истории
Сколько историй – столько толкований.
Кто хочет – найдёт способ, кто не хочет – найдёт причину.
Авраам Линкольн
Читая новости, порой трудно даже представить место, где ещё могут происходить такие циничные и лицемерные истории. Хотя каждый подозревает, что место не так далеко от него. И таких историй много, очень.
Сколько историй успело рассказать себе человечество. Знаете, сколько историй в Ветхом Завете? Их намного больше, чем на первый взгляд. Ведь каждую историю можно интерпретировать по-разному: это и историческое описание народа в поиске своего места в мире, это и инструкции поведения на каждый день, это и пособие по управлению людьми и процессами. Каждая история раскрывает несколько слоёв смыслов, в зависимости от ракурса, под которым её рассматривать.
Какой смысл истории жизни Иисуса Навина – военачальника и предводителя или истории такой противоречивой личности, как царь Давид? Сколько искушений выпало на долю царя Давида. Царь, регулярно нарушавший законы, по меньшей мере нравственности, после всех перипетий вновь и вновь возвращался к своей вере и своей миссии. Может, смысл в том, что никто из нас не знает своего предназначения в этой жизни, пока не возьмёт на себя ответственность за события и свою жизнь?
Или история Иосифа, брошенного своими братьями в пустыне, а потом ставшего первым министром у фараона. После того, как братья его чуть не убили, а потом продали караванщикам, он их всё-таки простил. История милосердия? Или это история о том, что путь к успеху всегда лежит через страдания, предательство и знания? Или в способности толковать сны и что надо прислушиваться к голосу Бога или своему внутреннему голосу? Во всяком случае, стараться понять, что он хочет вам сказать. Сколько разных толкований! Это как в медицине: сколько врачей – столько и диагнозов.
Мы иногда больше верим героям сериалов, чем политикам, потому что герои сериалов представляют нам более понятный смысловой нарратив. И, как показывает история, в отношении политиков важнее то, насколько их обещания близки нашим желаниям, нежели нашим ценностям. А наши желания не всегда находятся в полном соответствии с нашей моделью нравственности. Мир стал настолько циничным, что для достижения своих целей политики и их окружение не гнушаются тем, чтобы взывать к разным существам, живущим в каждом из нас. Но больше к тем существам, которые пренебрегают своим интеллектом.
Смыслы выживания
Жизнь – это выбор и совершенствование модели, в которую пытаются внедрить смыслы.
Пустые карманы никогда не помешают нам стать теми, кем мы хотим быть. Помешать этому могут только пустые головы и пустые сердца.
Норман Пил
Перед человечеством, на самом деле, всегда стоял исключительно один вопрос – выживание. За всё время своего существования на планете человек совершенствовал формы и модели этого выживания, накапливал знания, развивал навыки. И всё это для того, чтобы успеть дожить до возраста, когда он смог бы оставить свой уникальный генетический материал для глобального планетарного эксперимента с его участием.