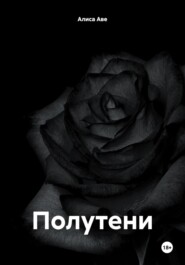скачать книгу бесплатно
– Я боялся тебя сломать, – откликнулся он на прикосновение, – у тебя такая тонкая талия. А Дашка говорила, ты жирная, – Стас осекся, помолчал и добавил: – Прости, но она в самом деле говорила.
– Не надо сейчас о ней, – попросила Катя.
«Ни о Дашке, ни о талии», – сжевала она продолжение, как обычно делала Даша, поглощая пирожные.
Они со Стасом полночи поглощали друг друга, и Катя наконец смогла оценить, чем отличаются поцелуи губами-нитками от поцелуев припухшими от страсти, полными, нежными губами. Со дня рождения Даши прошел месяц, изменения продолжались. Фитнес Катя забросила. Ела, что хотела, и влезала в размер XS, обтягивая идеальные бедра, которые забыли проклятие целлюлита. Кошелек, наоборот, прибавлял в весе, избавленный от частых походов в «Золотое яблоко», на массажи и к косметологу. Ни тебе складочек, лишних килограмм, угрей и высыпаний, и даже мелкая сеть морщин, пылью протянувшаяся от уголков глаз, исчезла.
Исчез и густо-фиолетовый кровоподтек, оставленный Дашкой, которая била бывшую лучшую подругу кулаком, с зажатыми в нем ключами от машины. Стас стоял немного поодаль беспомощным придатком ко всем троим: Даше, Кате и визжащей машине. И поражался отчаянному рычанию Даши и спокойному принятию Кати.
«Ничего, ничего», – шептала Катя телефону, поглаживая бирюзовую иконку приложения. «Ничего-ничего», – вторило зеркало, висящее теперь напротив кровати, где Катя и Стас наслаждались неведением Даши. Точнее наслаждался Стас, а Катя изучала их сплетенное отражение. Она действительно менялась, и в глазах под идеально вычерченными бровями горел зеленый огонь.
Сфотографироваться голой перед зеркалом, да еще в полный рост, оказалось не просто. Мысль поразила Катю неожиданно. Родилась не в голове. Катя исправляла многочисленные фото, развалившись на диване, и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Волна поднялась из живота, накрыла грудь, сбив дыхание, ударила в лицо и в руки, обожгла кончики пальцев, что метались по экрану. Или импульс от нагревшегося телефон растревожил пальцы, а после, превратившись в настойчивое желание, пробрался в голову?
Отражение корчилось Катиным недовольством. Обработанные селфи подтверждали, все куда плачевнее. Как в той песне: «Ну что ж ты страшная такая?» Над пипеточными ногами торчал круглый живот, над ним стеснялась обозначить себя маленькая грудь, жалко стекали покатые плечи. Лицо – венец несчастного тела – являло зеркалу мешки под невзрачными карими глазами, узкие губы, каплевидный нос. Зеркало тщетно выставляло в неярком освещении красивые руки, молочную кожу, усыпанную легким золотом веснушек, темно-каштановые мягкие волосы, всю Катину немодную, сахарную рассыпчатость. Катя подняла телефон и, распахнув глаза как можно шире, нажала на кнопку.
На голую Катю на экране упала слеза.
Она изменяла себя с довольным оскалом прямо перед зеркалом. Выше, больше, тоньше, меньше, гуще, лучше. Телефон пожаловался на низкий уровень энергии. Катя на экране и Катя в отражении застыли в полном противоречии друг другу.
– Вот, – Катя очнулась и показала зеркалу экран, – Вот она я! – она потрясла телефоном, – Не это все, – отражение ткнуло в Катю пальцем, – Я такая! Я хочу быть такой!
Перемены происходили не разом. Взмахов волшебной палочки Катя не видела, фея действовала украдкой. Тело наливалось соками, молодело, разглаживалось, приобретало упругость. Метаморфозы происходили по ночам, с каждым разом Катя приближалась к идеалу – голому селфи в полный рост. Иногда ей мерещилось, что она слышит хруст костей: расходились бедра, вытягивались ноги, сужалась талия. Куда реже Катя улавливала назойливый голос, похожий на её обычное нытье: «Не надо, а?» Просьбы перекрывали жадные вздохи: «Еще!»
После побоища Стас прислал короткое «прости» и ссылку на фотки с Дашиного дня рождения. Катя чесала щеку, которая за ночь очистилась от следа праведного гнева подруги, и понимала, как бы ни обновлялось ее тело, как ни сохраняло отзеркаленный образ, Даша все же оставалась выше и стройнее. А изменить чудо-селфи у Кати уже не получалось. Она водила пальцами по фото, добиваясь превосходства, но формы возвращались к исходнику, вымоленному в тот вечер. Катя вновь оценивала отражение, зеркало она перевесила из прихожей в спальню, и кривила нос. Мало отредактированных фотографий в соцсетях, ей надо быть прекрасной в реальной жизни! Но ведь Даша подсунула ей приложение! Она сама пользуется им и делает все, чтобы превзойти Катю!
Таксист кидал восхищенные взоры на скукожившуюся на заднем сидении Катю, и усталость долгой, насыщенной ночи для него отражалась разве что в томных зеленых глазах пассажирки. Больше не требовалась целая ночь, час-два от силы, и красота возвращалась. Катя зажимала ворот пальто у горла, прикрывала обнаженное тело, распаренное яростью взбунтовавшейся крови, и кровь Даши, покрывшую ее сперва безупречно, как красное платье, а после побуревшую, ссохшуюся, подобно старой змеиной шкуре, из которой Катя выросла. Катя косила. Один глаз не отрывался от мутного окна, другой, шальной, горящий, принимал молчаливые знаки восторга таксиста. Катя с трудом сдержалась, чтобы не пригласить его в дом. Молчание спасло мужчину от бьющего в Катин висок требования.
«Еще!»
У программы насчитывалось более семидесяти тысяч скачиваний. Среди хвалебных отзывов маячили Катины пять звезд и благодарность разработчикам. «Лучшее приложение». «Стоит своих денег». «Пользуюсь уже год, очень довольна». В потоке радости мелькнул чей-то слабый писк: «Как удалить приложение?» Катя хмыкнула глупому вопросу. Нажала на иконку, подержала, дождалась появления «минуса» и удалила. Очистила галерею и корзину, изгнав с телефона селфи, и уснула крепким сном в своей бурой змеиной коже. На утро фотки и приложение встречали Катю на привычных местах. Отражение в зеркале таращилось испуганными зелеными глазами, именно того цвета, что Катя подобрала в вечер своей великой боли, и улыбалось спелыми губами.
«Не надо, а?» – пищала неуверенная, некрасивая Катя, когда прекрасная Катя, вошла в квартиру Даши.
– Чего тебе? – спросила Даша, вскинув точенный подбородок.
– То, что мое, – прошипела Катя.
Стас запивал недавнюю смерть Даши джином с тоником, телефон беззвучно разрывался в кармане. Звонила какая-то из многочисленных Дашиных подруг, обвинявших Стаса во всех грехах, но не явившихся на похороны любимой-обожаемой-бедняжки. «Это Света. Как какая? Света Павлова. Ты совсем, Стас? Ну рыжая, блин… Короче, эта ненормальная… прости Господи… Дашкина однокурсница. Не притворяйся, что не въезжаешь! Катька Сенчина, короче, умерла. Повесилась. Да откуда я знаю?! Даша с ней возилась, я эту придурочную на дух не переносила!»
В то утро Стас летел к Даше с букетом роз сорта Аргентина, оттенка Пинк Флойд, купленный вместо пионов. Пионов Стас не нашел, но надеялся, что бархатная коробочка со сверкающим сюрпризом перевесит по значимости неправильные цветы. Он почти видел, как Даша прыгает при виде кольца с бриллиантом и хлопает наращенными ресницами, смахивая последнее недоразумение между ними. Она уже простила Стаса, неразумного, запутавшегося, любящего её одну и больше никого-никогда-ни за что. А до него снизошло озарение, что он не скоро найдет кого-то более красивого и отходчивого на данном отрезке своей жизни. Катя, конечно, получше, поэффектнее, но на «прости» она реагировать не пожелала. Последнее Даше знать было ни к чему, и Стас прятал бегающие глаза за лепестками роз и терзал домофон.
Вместо Даши вокруг Стаса запрыгала полиция и не радужная перспектива подозреваемого номер один в особо тяжком убийстве. Полицейские говорили что-то об отрезанных кистях и ступнях, волосах и груди, выщипанных ресницах и бровях, а Стас трясся над телефоном, вызванивая Наташу, очередную Дашкину знакомую, из постели которой и помчал за букетом.
Алиби Стаса подтвердилось. Катя, слава богу, сама повесилась, и даже записку оставила. Никаких осуждающих «прошу винить в моей смерти того-то», а коротенькое «похороните с телефоном».
Ну точно дура. Она же телефон даже в кровати из рук не выпускала…
Телефон лежал на подушке рядом с красавицей Екатериной Сенчиной. Жизнь еще не схлынула с нее. Приоткрытые губы чудились теплыми и податливыми, ресницы бросали манящую тень на гладкие щеки, волосы пахли апельсином. Кружево покрывала почти дышало на большой груди. Катю обрядили в белое платье, которого не нашлось для дня рождения Даши. Хотя незамужних девушек, Стас выудил информацию из неизвестного уголка памяти, вроде как хоронили в свадебных платьях.
– Ну что тебе не жилось, – вздохнул Стас и в порыве грусти прижался поцелуем к волосам Кати.
Он спрашивал обеих, Катю и Дашу, которую несколькими неделями раньше провожали в закрытом гробу. Вокруг толпился народ, безликий в своем причитающем горе. Стас никого не узнал, никто не узнал Стаса, да и на Катю мало кто смотрел по-настоящему. Стас не удержался, чиркнул взглядом по сторонам и взял телефон с подушки. Почти не удивился, что телефон не выключили. Пароль Катя не сменила. Стас открыл галерею проверить, удалила ли она фото их недолгих встреч. И выронил трубку. Телефон стукнулся о Катину грудь. Стас отполз от гроба, не в силах перебирать ногами. Он пятился и пятился, пока неведомая гравитация не ослабла, и он не побежал прочь из мавзолея.
Совместные фотки нашлись сразу. И с Дашкиного праздника тоже. Вот он. Вот Даша. Вот Катя. Стас зажал ладонью прорвавшийся вскрик. Что за чушь? Катя… вот она… Только не та Катя! Не стройная, яркая, желанная, какой она явилась на день рождения. Не скромная и невзрачная, какой её знала Даша. Со всех фото на Стаса взирала пародия на абстрактных человечков Пикассо или Дали. Или на детские попытки слепить фигурку из дешевого не расшибаемого пластилина. Это не могло быть Катей! Стас пролистал кадры, борясь с тошнотой, в голову лезли странные образы. Части насекомого, склеенные под острыми углами. Опыты над мутантами из дурацких голливудских фильмов. Или… или словно кто-то зашел в редактор фото, в одно из приложений, что меняли внешность, и от души поиздевался над Катей. Талия вот-вот сломается, бедра как у статуэток первобытных мадонн, дородных, слишком откормленных, грудь от горла до пупа, ноги – длинные, кривые палки, губы на пол-лица и огромные зеленые глазища почти у ушей.
Но бежать Стаса заставили не фото. Он оторвался от экрана, уверенный, что увиденное – чья-то плохая шутка, и увидел настоящую Катю. Она лежала, вся в белом, точно такая, как на искореженных фото. На покрывале проступала кровь, черные губы кривились в усмешке, к одутловатой щеке приклеился клочок жестких волосков, загнутых к одному концу и покрытых бурой коркой у другого. От этого клочка и спасался Стас.
От Дашиных ресниц на щеке Кати.
Койотл не понимает
Койотл не понимает. Сестра кружит по залу, взмахивает руками и туман благовоний обвивает золотистые запястья и плечи. Ожерелье из оникса пляшет на её груди. Койотлю нравится глухое постукивание пяток о каменный пол и звон тройного ряда бус. Сестра источает терпкую радость, пахнет потом и предвкушением. И Койотль тоже готовится, чувствует как бурлит кровь, как отдалённый гул рождается в ушах, нарастает и заполняет голову, как щекочет ноздри аромат трав и горячего тела.
– Ты так любишь этот зал, брат, – слова гаснут и вспыхивают танцем. Сестра кружится: закручивает ноги, тонкую талию, гибкую спину, голову, украшенную материнским венцом. Последним отводит от брата взгляд, закрываясь на миг чёрной пеленой волос, чтобы сразу же вновь взглянуть ему в глаза, – Мне же здесь душно и тесно! Тесно в огромном доме, где серебряный звон колокольчиков на щиколотках слуг перемежается с хрюканьем свиней во дворе. Где в чистой воде фонтана во внутреннем дворе храма отец омывает ритуальные чаши. Где с первым лучом солнца над изголовьем моей кровати поднимается и чёрный дым костра. Где ты, мой брат, пьёшь яд и вино, и кровь подношений. Где каждый праздник ты возносишь нож, и жрецы провозглашают, что Великий Койот насытился. Я почти не дышу, когда стою над толпой, изливающей своё сияющее благоговение и смрадный страх. Я терзаюсь днями и ночами, прячу хохот и не показываю слез, потому что он, тот, кому так улыбается зачерненными губами маменька, кому благосклонно кивает отец, пряча истинные эмоции покорённого вождя за белой равнодушной жреческой маской, ждёт назначенного дня. Ждёт завтра. Я должна была выйти за тебя, как мать вышла за своего брата, а их мать за своего. Я бы смирилась, ведь я люблю тебя, брат. И ты бы был счастлив, ведь ты ничего не понимаешь. Но у моего… нет! Я не могу даже выговорить этот приговор – у их избранника три подбородка и маслянистые глаза, на животе у него зелёные змеи татуировок, он видел много и знает многое, и привык брать все, на что падет его взгляд. Но меня он не получит!
Койотль не понимает, что она говорит. Сестра, наверное, поёт, и он закрывает глаза и сквозь источившиеся веки видит ряды кукурузы. Рассвет разливается над зрелыми початками и множество солнц горит на поле. Койотль идёт по полю, его ведёт нюх, обострённый за долгие годы проведённые в темноте жертвенного зала, настроенный на терпкость и горечь, на сияющий нектар, бьющий из ритуальных чаш.
– Страданиям моим придёт конец. Мой возлюбленный Матакл ждёт у Ночных врат. Я прощаюсь с тобой, с этим залом, с уготованной мне судьбой. Мы скроемся за полем и нырнём в рассвет, в новую жизнь.
Койотль знает, чья кровь слаще других. Юных. Смелых. Влюблённых.
Сестра накидывает ожерелье ему на шею, целует в испещрённый узорами лоб.
– Бедный брат. Как бы мне хотелось, чтобы ты в самом деле обернулся койотом и сбежал с нами. Но ты не понимаешь…
Койотль не понимает. На завтра Праздник Урожая приносит ему жареную кукурузу, много початков, отмеченных светом солнца и жаром, поднимающимся от углей, что символизируют тьму. Приносит сердца трёх войнов – смелых, трёх новорожденных – юных. И двоих влюблённых. Матакла, который подобно оленю, чьё имя он носил, бежал по полю прочь от стрел Ицтли. И Инзель, дочери вождя, сестры Великого Воплотившегося Койота, обещанной в жены Ицтли, вождю соседнего племени.
Койотль воет на луну, заглядывающую в единственное око храма, но ночное светило прячется за облаком. Цветом прозрачная, туманная Луна походит на влагу, что струится из глаз Койотля. Он трогает влагу пальцами, нюхает, пробует капли и не понимает, почему на его лице эта солёная лунная вода…
Дом
Я люблю исполнять мечты. От зловонного, полузалитого водой подвала до обгаженной голубями крыши, я полон желаниями.
Мне не сбежать от круговорота мыслей, не сдвинуться с места, никуда не деться от поколений сменяющихся людей. Я пытался, трескался, скидывал шифер, стряхивал сосульки с козырьков в опасной близости к жильцам, выпускал на волю содержимое дряхлых труб. Тщетно. С годами смирился, понял, что я часть игры в жизнь, стал наблюдать за лицами, судьбами, снами. И желаниями, что люди шепчут в горячке гнева или мимолётных порывах радости. Когда прискучило наблюдать, решил тоже принять участие в игре. Оказалось, с человеком играть весело.
Аня нашла квартиру в новостройке. Взглянула вниз в чистые стекла витражей, почувствовала как воздух проникает в тело, обнимает, пронизывает. Столько света! Простор! Никаких порогов, комната перетекает в комнату, потолки высокие. Подъезд белый, не выедает глаз ядовито-зелёная краска со следами грязных рук, засохших соплей, крови и чего-то более мерзкого. Шумоизоляция, сплит-система и минимализм. Идеал. Ипотека. И пусть. Они с Женей решили пожениться, молодой семье предоставляются льготы, небольшие, но все же. А там в минимализм ворвётся ураган, по имени Макс. Или Ева. Ну как получится.
Главное, она выберется из сырого плена старой девятиэтажки. Сердце перестанет высчитывать этажи, дрейфуя в вонючем лифте, с надеждой что в этот раз не застрянет между пятым и шестым. В темноте. С хихикающими подростками или наевшимся лука ухажером соседки. Перестанет оправдываться перед бабулькой снизу, что же она так громко топает, вроде не слон. И забудет, наконец, о горьком привкусе железа во рту от пьяного голоса отчима. Он появлялся до того, как тяжелый кулак прилетал в ухо.
– Не зажимай язык зубами, откусишь, говорить больше не сможешь, – Петьке, брату, доставалось чаще. Он смотрел папе Вите в глаза, тот бесился. Мать поджимала губы. Под сердцем сучил ногами третий ребёнок., что хоть этот будет удачным. Его-то точно бить никто не будет, любимого крошечку, «ути-пусечку».
Петя периодически ронял страшные слова, когда утешал сестру. Очень тихо, чтобы не услышали взрослые.
– Он не родится, их чудесный малыш, вот увидишь.
– Что ты, Петька! – девочка в страхе трясла головой, – он же не виноват. Может, появится братик и папа Витя успокоится.
– Он скорее пожелает место для него освободить.
– Как?
– Сошлёт нас к бабуле, в деревню. Хотя, это к лучшему. Слушай, Аня, давай маму уговорим. Бабушка нас с радостью примет, будем ей по хозяйству помогать. Представляешь, корову станешь доить?
Идея манила. Нос уже вдыхал свежий воздух, полный аромата трав и цветов. Мама обещала поговорить с отчимом, сама она в принципе не против. Вот только Петя оказался прав. Через неделю после радостного решения раздался чавкающий звук. Мама готовила кофе. Закричала, согнулась, прижала руки к круглому животу. Кровь потекла из-под халата. Темная, вязкая. Кофе сбежал. Преждевременные роды на двадцать седьмой неделе. Мог бы быть Миша. Могла бы жить мама.
– Как в моем сне, – шептал Петя, пока в соседней комнате друзья семьи и соседи тихим гулом поминали две души, -Я лежал в кровати, всё не мог уснуть. Вдруг услышал голос. Он шёл будто бы из стен. Спрашивал, чего я хочу. В тот вечер он мне ребро сломал, помнишь? А мама не стала везти в больницу. Я и ответил, что хочу, чтобы они страдали. Оба. Мама особенно. Я увидел малыша. Он валялся на полу, в дальнем углу комнаты. Вопил, я видел, как широко рот раскрывает, а звука не было. Потом посмотрел на меня, из глаз у него потекла кровь. Много крови. Потом кожа вся слезла, словно сдёрнули целиком. Я позвал маму. Она вошла… такая же, как младенец. Сделала два шага, упала. Я проснулся…
Аня вспоминала рассказ брата каждый раз, проворачивая ключи в замке.
Отчим съехал. Отпинал Петю, забрал все деньги и смотался. Его сбила машина в трёх кварталах от дома. Смерть не прибрала папу Витю, ему выдали инвалидную коляску и мизерное пособие. Бить детей он больше не мог. Аня ликовала. Судьба избавила их от человека, отобравшего маму и счастливой детство. Бабушка приехала из деревни, шуршала документами, бегала в опеку, в школу, собирала внуков в дорогу. От бабушки пахло блинами и любовью. Корова, куры, мягкие холмы и березы – Аня грезила ими во сне и наяву.
Грезы оборвались распахнутой дверью. Брат дрожал и заикался.
– Я снова, снова слышал голос!
– Петь, давай пойдём к школьному психологу. Он же помог после смерти мамы.
– Я не рассказывал ему о сне. Меня же в дурку заберут.
– И мне ничего не рассказывай!
У Пети от сестры секретов не было, он привык делиться с ней болью и страхами.
– Я ничего не желал, честное слово. Ты же знаешь, как я хочу уехать!
Лифт не работал, бабушка упала с лестницы. Кто-то толкнул или неловко поставила ногу. Она пересчитала два марша, шея хрустнула у основания головы. В школе Аня посещала кружок «уроки медицины»: продолговатый мозг отключает тело. Бабуля не успела понять, что умерла.
– Я мечтал переехать в деревню. Он сказал, что такое желание исполнить не может.
– Кто? Кто сказал, Петька!
– Не знаю… стены…
Они все же переехали. В интернат. За неимением родственников, готовых взвалить на себя обузу в виде двоих школьников. Четыре года растянулись в четыре века. Петя не спал ночами, его мучил голос, требующий вернуться. Аня делала вид, что с братом все в порядке. В зеркалах ловила сходство с матерью и ненавидела себя за это. Один морок Петя заменил другим. Шприцы ходили по кругу. Корки на венах мальчик прятал под длинными рукавами. Съеденное передозировкой тело обнаружили в сарае завхоза за главным зданием интерната. В восемнадцать Аня вернулась в большой мир совершенно одиноким человеком. Точнее в пыльную, маленькую квартиру на восьмом этаже, как единственный наследник.
Аня вязла в горе, почти не спала и без конца пила энергетики, когда жизнь засияла улыбкой Жени. Чудеса еще случались, Анино было сплошь в веснушках. Появились новые обои, яркие занавески и даже в лифте вдвоём застревать оказалось весьма интересно. Женю Аня называла «вознаграждением», «подарком», «ангелом». У них появилась общая мечта: прыгнуть с самолета, распахнуть купола парашютов, растворить прошлое в свободном небе. Аня твердила мантру перед сном: «Я благодарна тебе. Я люблю тебя». С Женей поверила в визуализацию и материальность слов и обязательно делилась счастьем с Петькой и бабушкой, которых хранила в сердце. Трещала им вслух о Жене, его серьезных намерениях и синих глазах, маму с Мишей старательно обходила мыслями и взглядом, пусть стоят в углу.
Женя сделал предложение, выбрал банк для ипотеки, торжественно объявил, что вместо свадебного платья и толпы гостей Аню ждёт полет.
– Замолчи! – крикнул Петька, – Нельзя никуда лететь!
Аня упала с кровати.
– Зажми язык зубами! Не показывай радости!
Следом раздался другой голос, перебил мольбы брата: «Чего ты хочешь, Анечка?»
Голос странно напоминал на едкий аромат водки, исходивший от отчима в минуты негодования. Кружил голову, сушил губы.
– Не говори ничего, – Петька кричал где-то в глубине сознания.
Аня зажала зубы. В глазах отразилось небо, сверкнул крыльями самолёт, захватило дух.
Крыша девятиэтажки видела поцелуи юных пар, пьяные вечеринки студентов, драки, ссоры и, что тут таить, шаги в бездну.
Аня всегда хотела летать. Улететь прочь от пьяного папы Вити, безразличной матери, спятившего брата. Из этого дома, где пахнет мочой, испражнениями, тоской и серыми буднями. Она хотела чувствовать воздух кожей, волосам, кончиками ресниц. Витражи новостройки почти подарили ощущение света в душе, опьянили высотой. Но её ждал настоящий полёт.
Женю отгоняли от распростертого на земле тела. Самоубийца или нет должно решить следствие. Женя то и дело отпускался на колени, поправлял склеившиеся пряди, прикрывал зияющую дыру в черепе. Он успел сложить тонкие руки на груди, ими девушка обнимала мир в полёте.
Аню прятали в большой пакет, Женя прятал в кармане крохотную записку.
Почерком отличницы Аня написала: «Это наш дом, Петя».
Слезы никак не могли прорваться. По прогнозу обещали дождь. Он выплачет горе, смоет с улицы кровь, унесёт записку в канализационный сток. Вместе с ипотекой, идеалом. И пусть…
Я храню их в стенах, они никуда не делись, не ушли. Жизнь продолжается, ведь они хотели жить. На самом деле самой большой мечтой была именно жизнь.
Я исполнил эту мечту, они снова вместе, кроме мерзавца отчима. Он пришлый, не мой человек. Не думайте, что я забочусь только об этой семье. Во мне девять этажей, тридцать шесть квартир, в подвале ночуют трое бомжей, я даже за ними приглядываю. Играю, живу наравне с людьми. В квартиру мечтательной Ани вселяются новенькие, с собакой, вертлявым, пушистым шпицем. Он лает в угол хозяйской спальне. Маленький Мишка смеётся беззубым ртом, старшие брат с сестрой улыбаются. Гармония.
Священник не поможет, экстрасенсы тоже. Новая семья пока не понимает, но у отец у них балуется писательством, может, почувствует, ведь фантазия разгулялась, как никогда прежде, стоило лишь переступить порог квартиры. Мне нравится свежий ремонт. Собака вскоре замолкнет, чтобы не мешать милейшей бабуле снизу.
Новостройки возводят вокруг. Они что дети, не могут понять истинного значения стен, квартир, крыш. Я место, которое люди называют Домом. Я продолжение их тел, отражение душ. Я люблю исполнять мечты и не люблю, когда они решают переехать. Они мои.
Джон Марстон
Говорили, Джон Марстон не знает промаха, и тот, кто выйдет против него – не жилец. Говорили, он отливает пули с особой молитвой. Чуть тише, но так же горячо убеждали, что молится Джон Марстон вовсе не Богу, а кому-то за своим левым плечом. Еще рассказывали, дурашливым тоном, какой бывает, когда человека или крепко любят, или крепко боятся, если спросишь у Джона Марстона, который час, он не достанет из кармана серебристых часов, но ответит непременно точно. Обсуждали, но уже совсем шепотком, что Джон Марстон и не человек вовсе. Но все уверяли, что уж это точно слухи.
Джон Марстон вышел из салона и встал, очертив свои границы в этом мире: утоптанная серая дорога под ногами и усталая закатная дорожка в небе. Ровно в десяти шагах дороги пересекались с Бьюфордом Пирсом. Над левым плечом противника отсчитывали время часы. Бьюфорду Пирсу оставалась ровно минута. Они выхватили револьверы и выстрелили. Бьюфорд упал, ограничивая границу своей жизни алой полосой, часы над ним исчезли.
Говорили, Джон Марстон стрелял куда-то влево, поверх головы Пирса. Клялись, что стрелял он с закрытыми глазами. И не обманулся с исходом.
Джон Марсом всегда знал, с кем выходить к закатному солнцу. Лишь с тем, чьи часы гнали время по последнему кругу. То, что круг последний Марстон определял по особенному дрожанию секундной стрелки.
– Эй, Джонни, который час? – крикнул Марстону пьяный старик, навалившийся на двери салуна.
– Семь двадцать пять пополудни, – ответил Марстон, – У тебя есть запас, старый Билл.
Джон Марстон не нуждался в механических часах, он видел время каждого в этом городе. И понимал, какой час наступает. Все чаще он чуть запрокидывал голову, косил глаза влево и яростно моргал, ненавидя секундную стрелку, выбивающую нервный пунктир на белом циферблате. Запас Джона Марстона подходил к концу, а люди говорили, что он молится после очередной победы. Молится своему неизвестному не-Богу.
Новая жизнь
– Когда я закончу чертить круг, вы войдёте в его центр и будете стоять совершенно неподвижно, даже неверный вдох приведет плачевному результату.
– Что же мне совсем не дышать?
– Дышите, конечно, но не шевелитесь. Делайте, что я говорю, если хотите сохранить гарантию на последующие чистки.
Один дорисовывает круг, второй внимательно наблюдает. Круг сложносоставной, многослойный, в него вписаны знаки: из знакомых только символы планет – вот Юпитер и Сатурн, а вот Луна и Солнце. Остальные второму в новинку, он разузнает побольше, прошерстит сеть, после ритуала. Вроде нарисован круг мелом, но вот замыкается бесконечная линия и сложный рисунок начинает светиться. В полумраке свет распыляется, над кругом поднимается дымок.