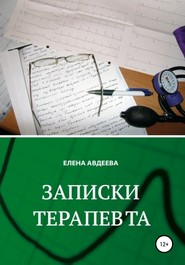скачать книгу бесплатно
Записки терапевта
Елена Викторовна Авдеева
Предлагаемая книга – автобиографическая во всем, что касается профессиональной жизни автора, терапевта широкого профиля с опытом работы в различных разделах терапии, кандидата мед.наук. опубликовавшего более 50 научных работ. Изменены только некоторые фамилии. Автор делится своим видением особенностей работы преподавателя мединститута, научного работника, практического врача. Идёт обстоятельный рассказ о принятых в конце прошлого века методах лечения таких распространенных заболеваний, как бронхиальная астма, абсцессы легких, гипертоническая болезнь в сравнении с сегодняшними подходами. Приводится много клинических примеров и их клиническое осмысление.
Памяти Евгении Александровны ФЕДОТОВОЙ, моего первого профессионального Учителя и наставника
Предисловие
В сентябре 2013 года я в третий раз, и на этот раз окончательно, ушла на пенсию. Конечно, врач – всегда врач, но главное в моей жизни закончилось. И как-то незаметно подкралось желание попытаться рассказать об этом главном, хотя бы самой себе, оценить и переосмыслить жизненный и профессиональный опыт, вспомнить ошибки, неизбежные в нашей работе. Словом, пережить заново с высоты своих лет впечатления молодости и зрелости.
Подтолкнул меня и муж, который был в курсе событий моей профессиональной жизни, и знал, как много интересных и поучительных случаев с больными мне довелось наблюдать и лечить. Никаких записей и дневников я, конечно, не вела, но – удивительное дело – стоило сесть за компьютер и написать первые слова, как в памяти стали всплывать лица, диагнозы, данные обследований. Успевай только составлять список. Чтобы как-то систематизировать свои наблюдения, я решила привязать их к этапам своего пути в медицине, тем более, что от жизненных обстоятельств зависел и контингент больных, с которыми приходилось иметь дело. Другой объединяющий момент – нозологический состав: о больных с одной и той же болезнью, пусть и в разных вариациях, я рассказывала в одной главе, независимо от того, когда происходили описываемые события.
Первую половину трудовой жизни я работала преподавателем терапии в крупной клинике, причём, в разных специализированных отделениях. Поэтому, когда пришлось перейти в практическое здравоохранение, возглавив общетерапевтическое отделение в центральной районной больнице, за плечами был немалый опыт общения с пациентами различного профиля. В отличие от героя автобиографических «Записок врача» В. Вересаева, которые произвели на меня ещё в ранней юности неизгладимое впечатление, я не окунулась неподготовленной в самостоятельную деятельность. Напротив, с годами пришли уверенность и отсутствие боязни ответственности за принятые решения. А успех в разрешении сложных клинических ситуаций, пусть не слишком частый среди повседневной рутины, стал источником радости и профессионального удовлетворения. Конечно, были и ошибки, заставляющие возвращаться к их анализу и переживать заново не один раз. Получилось или нет, но я старалась честно обо всем рассказать.
Первыми читателями стали персонажи этой книжки, для которых я напечатала и переплела рукописные варианты. Интерес проявили и мои не относящиеся к миру медицины родственники и подруги. Потом рукопись отдельными главами издавалась на медицинском портале «Мир врача», где её прочитало около 3 тысяч коллег. Наконец, я созрела для публикации, которую после небольших сокращений и искажения некоторых фамилий, и предоставляю вашему вниманию.
Начало
Появилась на свет я в 1949 году в Порт-Артуре, куда после окончания военно-морского училища был направлен служить мой отец. Вскоре к нему приехала и мама, беременная мной, но через месяц после родов мама вернулась с новорожденной девочкой во Владивосток, который и был указан местом рождения. Это было лучше, чем «заграница», ведь всё еще оставалась неизвестной судьба маминого отца и деда, арестованных в 1938 г. (их расстреляли почти сразу). К тому же в Порт-Артуре с 1948 г. объявилась губительная для русских младенцев болезнь, о чём напоминают их маленькие могилки на Русском кладбище в количестве около 300.
В отличие от многих моих сверстников, родившихся в конце 40-х – начале 50-х, меня крестили, правда, втайне от отца коммуниста-атеиста. Я ношу крестик с 1989 года, т. е. с момента, как узнала об этом событии. Даже знаю «Отче наш». Но на вопрос о вере прямо не отвечу. Хочется думать о том, что где-то кто-то тебя прикрывает и ведёт по жизни. Иначе как объяснить, что, несмотря на все «закавыки», которые послала мне судьба, в конечном итоге приходится признать, что всё сложилось правильно, а там, где решение зависело от меня – уж никто не виноват.
Казалось бы – золотая медаль в школе, диплом с отличием в институте, клиническая ординатура на любимой кафедре – и дальше всё покатится по гладкой дороге. Увы!
Но по порядку. О том, что буду врачом, я знала с детства. Прошло более 60 лет, но перед глазами – ясная картинка: я заливаюсь слезами на коленях у бабы Ути, а она меня утешает: «Вот вырастешь, станешь врачом и придумаешь такое лекарство, чтобы люди не умирали». Это пришла телеграмма о внезапной смерти в Риге моей любимой прабабушки, бабы Тани (Татьяны Ивановны Новосельцевой), которая всегда жила с нами, а в 1954 году поехала навестить младших дочерей в Ригу. И там случился сердечный приступ.
Потом были игры «в доктора» с куклами и с подружками, книга Ю. Германа «Я отвечаю за все», мамина ближайшая подруга Надежда Александровна Бржезинская – хирург от бога и добрейшей души человек. Ну и, конечно, мое общение с «белыми халатами» с раннего детства. Приятным оно не было: удушающая маска с эфиром, многомесячный гипс. Наверное, боль и страх тоже были, но – не помню. Вот мягкие добрые руки нянечки тети Дуни, всю жизнь проработавшей в приёмном покое Краевой больницы, шутки и улыбки «рыжего дохтура», (так я называла Ефима Исааковича Воскобойникова, как будто специально посланного мне в момент безысходности из далекого Ленинграда и спасшего от хромоты и ужаса прожить жизнь калекой) – врезались в память навечно.
Естественно, когда подошло время подавать документы в институт, у меня не было сомнений в выборе. Как «золотой медалистке», сдавать надо было только один предмет – химию, а её у нас в школе преподавали очень слабо, и мне пришлось весь июль досконально изучать толстенный учебник химии Глинки. Тогда я и разобралась во всех этих валентностях, свойствах элементов и поняла, как надо решать задачи. Перед экзаменами мама всё же для страховки водила меня к двум разным преподавательницам вузов, и обе признали мои знания вполне удовлетворительными, в смысле заслуживающими хорошей оценки.
В 1966 году, когда я закончила 10 класс, одновременно с нами выпускались и одиннадцатиклассники, следовательно, абитуриентов было в два раза больше, чем обычно, поэтому мама и волновалась. Но экзамен я сдала легко, и через несколько дней была зачислена вместе с другими медалистами, на первый курс Владивостокского Медицинского института.
Нас сразу же отправили в колхоз, но уже через два дня работы в поле у меня так разболелись суставы, что я вынуждена была вернуться домой и взять справку об освобождении. Вместо колхоза меня определили помогать в деканате, тогда я и познакомилась «вживую» с нашим легендарным деканом Александром Макаровичем Гусевым, который был грозой всех студентов. Он, действительно был строгим и требовал аккуратности и порядка, в историю вошёл своими публичными угрозами в адрес притихших первокурсников, многие из которых в течение года оставались бесправными вольнослушателями. Он приходил в лекционный зал и с грозным видом кричал, топая ногами: «Я вас в порошок сотру, я на вас высплюсь и выброшу», употреблял и прочие цветистые выражения. Но на самом деле студентов он любил, был человечен и внимателен, что я очень хорошо почувствовала за месяц работы под его руководством. Приходится говорить «был», т. к. А. М. Гусев нелепо погиб в расцвете своей педагогической деятельности, угодив под колеса автомобиля, нёсшегося по ул. Острякова: Александр Макарович как раз выходил из института после очередного ненормированного рабочего дня.
Поступая в мединститут, студенты, как известно, больше всего боятся «анатомки», но в действительности она оказалась не такой уж и страшной. Формалин с его специфическим запахом превращал человеческие тела в серого цвета препараты, не имеющие ничего общего с настоящими трупами и, тем более, с так называемой «расчленёнкой». Гораздо более серьёзным испытанием были занятия по нормальной физиологии, на которых для изучения рефлекторной деятельности требовалось обрезать головы живым лягушкам, что было для меня совершенно непереносимо, и приходилось просить это делать кого-нибудь из парней – одногруппников.
Но совершенно неприемлемыми, с моей точки зрения, для психики нормального человека были занятия по патологической физиологии, где для фиксации реакции организма на шок студенты были обязаны ошпаривать кипятком несчастного бездомного кота. Мы активно возмущались, и сейчас, кажется, разбор этой темы не сопровождается такими жестокими сценами.
На третьем курсе пришел черед оперативной хирургии, где уже подготовленные студенты не падают в обморок при виде крови оперируемых собак и сосредоточиваются непосредственно на выделении и сшивании сосудов, учатся накладывать швы и обращаться с хирургическими инструментами.
К третьему курсу я уже окончательно поняла, что хирургия – это не моё, и мне надо работать в такой области, где больше задействуется голова, а не руки. Что меня привлекло в студенческий научный кружок на кафедре биофизики, я уже не помню. К сожалению, не помню даже, какой темой мне предложили заниматься. Заведующая кафедрой прикрепила меня к аспиранту Пете Калмыкову, который озадачивал любознательную студентку, в основном, мытьём лабораторной посуды и приготовлением каких-то препаратов, помещавшихся потом в прибор типа спектрографа, выдававший на дисплее маловразумительную информацию. Прибор этот постоянно ломался, опыты не удавались, и Петя больше занимал меня разговорами, чем работой. Так я пришла к выводу, что чисто лабораторно-инструментальная наука тоже не для меня.
Наконец, когда на 3 курсе мы пришли на кафедру пропедевтической терапии и стали учиться обследовать больных и изучать симптомы, складывая их, как кирпичики, в синдромы, я почувствовала, что моё место в этой жизни уже где-то близко. Но сама по себе пропедевтика (введение во «внутренние болезни»), обучающая методам обследования больного, меня не захватила. Она была необходима как инструмент для дальнейшей работы, и только.
После пропедевтики уже на 4-м курсе пришёл черед факультетской терапии, изучавшей классическое течение наиболее распространённых заболеваний внутренних органов, и только на 5 курсе начинался завершающий этап в обучении студента, согласно учебной программе того времени. Это была госпитальная терапия, «королева внутренних болезней», где рассматриваются уже различные варианты распространённых заболеваний, изучаются редкие и трудно-диагностируемые болезни.
Чтобы быть «поближе к теме», я решила попроситься в научный студенческий кружок при кафедре госпитальной терапии с самого начала 4 курса. У меня отыскалась и единомышленница – Ира Фишелевич, и мы появились в обществе старшекурсников уже вдвоём. Занятия проходили один раз в неделю в вечернее время и были такими интересными, что терапия действительно покоряла. Всё зависело, конечно, от человека, который, собственно, и занимался со студентами, отдавая им свою душу, обучая элементам клинического мышления и показывая сложных и интересных больных, которых всегда было много в Краевой больнице, где и помещалась кафедра госпитальной терапии. Этим человеком и первой моей наставницей в профессии была доцент Федотова Евгения Александровна. К тому времени, о котором идёт речь, ей уже было за 60, она обладала богатейшим клиническим опытом и, главное, умением и желанием поделиться им со студентами. Её хотелось слушать бесконечно: так талантливо она преподносила свои знания. Проводя разборы у постели больного, она своими действиями показывала, как сделать это тактично, не травмируя человека, и как получить самую нужную для точного диагноза информацию. Потом, в учебной комнате мы разбирали с ней теоретические аспекты и алгоритм диагностического поиска. Это была настоящая школа. А девизом, который висел над доской в учебной комнате, были слова Гиппократа: «Студент – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь».
Думаю, что задачей преподавателя или одной из главных задач, было создание у нас «образа болезни», когда диагноз, по крайней мере, предварительно можно было поставить по внешнему виду больного и некоторым моментам анамнеза. Так невропатолог «с ходу» диагностирует болезнь Паркинсона – по скованной походке, скандированной речи и ригидности мышц, иногда в сочетании с тремором.
Вот таких больных, образ которых навсегда западал в память, и старалась подобрать нам для демонстрации Евгения Александровна. Разве можно забыть 19-летнюю девушку, измученную лихорадкой и болями в суставах с типичной эритемой на лице в виде «бабочки»? Это была СКВ(системная красная волчанка), которая, как и другие «коллагенозы» (правильнее «заболевания соединительной ткани»), сейчас стала встречаться гораздо реже. И как поражал вид этой больной уже через неделю – на следующем занятии, после назначения ей адекватной дозы кортикостероидов! Это был нормальный весёлый человек, лишь лёгкое покраснение в области переносицы напоминало о жестоком диагнозе.
Ревматоидный артрит с типичной «ластовидной» деформацией кистей и симметричным поражением мелких суставов – это тоже «визитная карточка» болезни. Очень узнаваемая!
А склеродермия? Куда подевались эти больные с истончённой, не собирающейся в складку кожей на предплечьях и на лбу, собранными в кисет складками вокруг еле открывающегося рта и прозрачными кончиками пальцев рук? Мне они как-то больше не встречались. Уже на предпоследнем этапе своей врачебной деятельности я несколько лет наблюдала фельдшера нашей больницы с диагнозом «Системная склеродермия», поставленным в дебюте болезни на основании биопсии кожи на фоне полисистемного поражения внутренних органов. У неё были признаки миокардиодистрофии, небольшая дилатация пищевода, двусторонний нерезко выраженный пневмосклероз и несколько уплотнённая кожа наружной поверхности предплечий. Характерные же кожные проявления в виде «livido reticularis» (кольцевидные розово-синюшные разводы на туловище и бедрах) возникли гораздо позже.
Помню с того времени и пожилую женщину с хронической надпочечниковой недостаточностью, проявлявшейся внешне типичным серо-стальным цветом кожи, почти чёрными веками и очень тёмными ладонными и межпальцевыми складками.
Таким же ярким является и «образ» синдрома Иценко-Кушинга с лунообразным лицом, покрытым красными угрями («acne vulgaris») и многочисленными розовыми полосками растянутой кожи в области живота и внутренней поверхности плеч («стриями») – это заболевание, наоборот, следствие повышенного образования гормонов коры надпочечников.
Видели мы на занятиях и болезнь Грейвса (тиреотоксикоз –повышенная продукция гормонов щитовидной железы), распознать которую можно было иногда уже при первом осмотре – экзофтальм, немигающий взгляд, дрожь кистей рук или даже всего тела («симптом телеграфного столба»), горячие, влажные ладони и худоба. При этом сама щитовидная железа была увеличена незначительно.
Тогда, на рубеже 60–70-х годов, во Владивостоке ещё не было специализированных эндокринологических отделений, и нам повезло увидеть этих «классических» и незабываемых пациентов на базе терапевтического отделения Краевой больницы и запомнить на всю жизнь. Эти впечатления очень пригодились в дальнейшем, так как заподозрить эндокринную патологию у «своих» больных и своевременно направить к «узкому» специалисту должен именно терапевт – врач первой линии.
Неожиданный и вынужденный уход Евгении Александровны на пенсию, который совпал с моим окончанием института, стал для меня настоящей трагедией.
Е. А. Федотова была человеком с непререкаемым врачебным авторитетом, обожаемым коллегами и студентами. Её мнение по поводу клинических и некоторых внутрикафедральных ситуаций не всегда совпадало с мнением профессора, заведующего кафедрой, и она позволяла себе деликатно, но твёрдо его высказывать. И вот случился какой-то конфликтный разговор на кафедральном совещании, была обидная реплика в её сторону, и в результате Евгения Александровна написала заявление об уходе, которое сразу же было подписано. Коллеги пытались бороться, ходили к ректору, но бесполезно. Сначала вся кафедра, а потом уже отдельные представители, в составе которых всегда были Евгений Юльевич Лозинский, Алла Александровна Ищенко и я, навещали её дома, но пережитый удар сильно отразился на её здоровье. Ей было тяжело при виде нас вспоминать прошлое, поэтому походы эти не были частыми, но всё же продолжались до самой её смерти через несколько лет. Для меня это была огромная, невосполнимая потеря, повлиявшая на всю дальнейшую жизнь.
Но возвращаюсь в 1970 год. Через пару месяцев мне посчастливилось прочитать «Очерки современной клинической терапии» И. А. Кассирского, читай «драматической» – потрясающий медицинский бестселлер. Тогда я точно поняла, что хочу быть именно терапевтом, ибо ничего интереснее терапии нет. Занятия в студенческом кружке предполагали выполнение какой-нибудь научной работы или хотя бы её фрагмента. Евгения Александровна, посоветовавшись с заведующим кафедрой Кравченко Леонидом Фёдоровичем, предложила мне самостоятельную научную тему.
Принцип организации научной работы на клинических кафедрах института тогда был такой: в лаборатории при кафедре силами её сотрудников и старшего лаборанта с биохимическим образованием осваивались какие-нибудь относительно новые «продвинутые» методы исследования, изучавшие деятельность какого-либо органа. Затем для каждого из начинающих учёных выбиралось заболевание, прямо с этим органом не связанное, и предлагалось изучить функцию, а если возможно, и морфологию этого органа у больных с различными формами и стадиями выбранного заболевания.
Поскольку в организме всё взаимосвязано, такой подход был безошибочным и позволял решить определённую проблему в рамках кандидатской диссертации.
Мне поручили оценить значимость прозеринового теста для диагностики хронического панкреатита у больных с патологией печени и желчного пузыря. Прозериновый тест заключался в определении содержания в крови фермента поджелудочной железы амилазы до и после введения прозерина (стимулятора функции поджелудочной железы). Прежде всего, надо было освоить лабораторную методику, что оказалось самым трудным для меня, по крайней мере. Научиться работать с резиновой грушей, а не отсасывать содержимое реактива, взяв конец пипетки в рот (опасно!), «откапывать» в «рабочую» и «контрольную» пробирки точное количество взятой крови, которую предварительно надо было развести физиологическим раствором. Проследить за поддержанием нужной температуры в термостате и, наконец, самое простое, определить конечный результат на фотоэлектрокалориметре. А главное, до этого необходимо было убедить больного согласиться сдать эту кровь (хорошо, что из пальца, а не из вены), и это не всегда было просто: порой видя перед собой студента, кое-кто ворчал, что он «не подопытный кролик». Одновременно проводилось клиническое обследование больного по классической схеме, в специальную карточку заносились и данные обследования из истории болезни, и собственные, полученные в результате вышеописанных трудов, показатели. Потом проводился анализ результатов – и вот это было самое интересное!
Тема меня не очень увлекла, т. к. тот факт, что поджелудочная железа страдает при всех заболеваниях печени и желчных путей: слишком интимно связаны их выводящие протоки, не нуждается в доказательстве. Но это был первый опыт.
Обследовав 21 больного и 15 здоровых, вычертив графики и обобщив результаты, я получила 6 типов кривых. Один из них, наиболее показательный, был уже описан в монографии, один был проявлением нормы, остальные давали пищу для размышлений и предположений. Неожиданно для меня на научной студенческой конференции в конце 6 курса, моё сообщение заняло первое место в терапевтической секции.
Что делать дальше? Заведующий кафедрой профессор Кравченко Л. Ф. предлагал продолжать эту тему, подключив исследование сока поджелудочной железы и некоторые другие методики, и таким образом заложить основу будущей кандидатской диссертации. Но, хорошо подумав, я решила всё же отказаться. Дело в том, что содержание амилазы в крови зависело от так называемого «феномена уклонения ферментов», который возникал при отёке и сдавлении протоков поджелудочной железы, и чтобы судить об истинном объёме её продукции, надо было бы одновременно определять активность ферментов и в крови, и в дуоденальном содержимом. Следовательно, от зондирования больных никуда было бы не деться, а мне ужасно не хотелось связываться с этой малоприятной процедурой. Забегая вперёд, скажу, что дуоденальное исследование в практической медицине сейчас очень редко где применяется, разве что в санаториях и в научно-исследовательских институтах, где исследуют тонкий биохимический состав желчи для решения некоторых пока ещё оторванных от практики, но далеко не бесперспективных задач. Прозериновый тест, целесообразный, в основном, для диагностики степени «истощения» поджелудочной железы, как показало будущее, так и не привился: ведь сначала при УЗИ, а теперь и с помощью КТ (компьютерной томографии) можно определить состояние и структуру органа, не вызывая у больного неприятных ощущений. Но главное, этот путь не сулил мне никаких открытий, а моя честолюбивая и уже вкусившая азарта изучения нового душа жаждала заняться исследованием чего-нибудь малоизученного.
И вскоре представился случай. В сентябре 1971 года во Владивостоке проходила конференция по ревматологии с участием самых известных ревматологов страны. Там впервые прозвучало высказывание о лизосомах как ведущем звене патогенеза в инициировании воспалительного и аутоиммунного процессов. Лизосомы – это внутриклеточные вакуольки, содержащие около 40 различных ферментов, разрушающих при высвобождении из клетки различные белки, нуклеиновые кислоты, мукополисахариды. Активная роль лизосом в патогенезе аллергических, воспалительно-деструктивных и аутоиммунных процессов уже была показана во многих экспериментальных работах, а также при заболеваниях ревматологического профиля.
Как староста научного кружка и круглая отличница, я надеялась остаться после окончания института в клинической ординатуре, а затем, может быть, и в аспирантуре, что мне и было обещано, и продолжить занятия наукой. В клиническую ординатуру я была зачислена. Но какую патологию выбрать для научных изысканий?
В 1971 году открылось специализированное краевое отделение пульмонологии на базе БМСЧР, и кафедра распространила туда свою сферу влияния. Заболевания органов дыхания меня интересовали и, покопавшись в литературе, я не нашла никаких сведений об исследовании лизосомных ферментов у больных с лёгочной патологией (бронхиальная астма, пневмония, абсцесс, рак, хронический бронхит). Так и определился предмет исследований и будущей практической работы.
Но как от идеи перейти к делу? Я уже знала, что начинать надо с методики исследования. Ещё раз, целенаправленно посмотрев опубликованные статьи, я выбрала 4 самых интересных, на мой взгляд, фермента лизосом. Наиболее известен был «маркерный» лизосомальный фермент – кислая фосфатаза. Она уже давно исследовалась в клинике для диагностики рака предстательной железы, и методика её определения содержалась в лабораторном руководстве. Кислые протеазы (катепсины) в сыворотке крови определял профессор Фильчагин Н. М. в Институте ревматологии РАМН, и, следовательно, методика эта тоже была разработана. Оставались дезоксирибонуклеаза и рибонуклеаза. Заведующий кафедрой госпитальной терапии, курировавший все научные работы, профессор Л. Ф. Кравченко поддержал меня и подсказал, где можно попытаться освоить методики определения активности нуклеаз в крови. Так я появилась в Институте Биоорганической Химии ДВО РАН (ТИБОХ) в лаборатории Валерия Александровича Рассказова. Её дружный коллектив получал нуклеазы из морских животных для последующего изучения свойств и создания препаратов. А для определения активности этих ферментов требовались субстраты. Активность рибонуклеазы исследовалась с помощью готовой РНК из дрожжей (г. Новосибирск), а вот субстрат для определения активности дезоксирибонуклеазы в лаборатории получали сами учёные из молок лосося.
В лаборатории меня приняли хорошо, научные сотрудники и, в первую очередь Ю. А. Гафуров, терпеливо обучали азам практической биохимии, но делать за меня мою работу, конечно, никто не собирался. Поэтому мне предстояло, прежде всего, самой освоить весь многоэтапный процесс получения из обыкновенных молок лосося, какие продаются в магазине, плотных белых нитей дезоксирибонуклеиновой кислоты. Деталей я не помню, записи за ненадобностью давно выброшены, но работа была ещё та. Измельчение, выпаривание, обработка различными реактивами, центрифугирование в центрифуге с охлаждением, настаивание и, наконец, извлечение самих нитей и высушивание. По времени процесс длился с перерывами около 3 суток. Я приезжала в институт на Академическую сразу после работы в больнице и возвращалась домой уже после 23 часов.
Сейчас я понимаю, что поспешила, ведь моему сынишке Мишутке было всего 5 месяцев. В декрете я пробыла, как и положено было в то время, 2 месяца, вопрос об академическом отпуске (ординатура!) на семейном совете даже не ставился: как всегда на помощь пришла мой ангел-хранитель, моя любимая бабушка, мамина мама Павелко Устинья Федоровна, или баба Утя. Я вышла на занятия, пропустив всего 2,5 месяца в клинической ординатуре, – и никаких поблажек. Когда поняла, как много времени будет занимать моя «бурная» научная деятельность, отступать было уже поздно.
Ординатура
Обучение в ординатуре заключалось в самостоятельном ведении больных в разных отделениях клиники, подготовке и «сдаче» профессору зачётов по всем разделам внутренних болезней. Ординаторы также обеспечивали лекции: демонстрационный материал, представление больных и контроль за ведением ведомостей присутствия. Одновременно со мной в клиническую ординатуру были зачислены еще три доктора, и поскольку я здесь кратко отдаю дань своим учителям, не могу не сказать о Людмиле Ивановне Гамановой. Она была старше меня всего на 2 года, но эти два года уже проходила через жернова клиники внутренних болезней под руководством доцента Сухановой Галины Ивановны. Конечно, она успела поработать и с Федотовой Е. А., и с заведующей терапевтическим отделением Зубаревой А. А., а следовательно, прониклась до кончиков пальцев методами работы «старой школы». Как практический врач, Люда всегда была для меня образцом по всем статьям: и грамотности, и решительности, и милосердия к пациентам. А как замечательно кратко и по существу она писала истории болезни своим чётким уверенным почерком! Проработав в клинике всего два года, Людмила Ивановна овладела всеми положенными для терапевта краевого уровня манипуляциями (стернальная пункция, плевральная пункция, эндотрахеальные вливания, и др.) и делала их блестяще. Пункция плевры – это всегда было священнодействие. Всё было именно так, как положено: шапочка, обязательная маска, обработка рук и перчатки, в то время ещё такие неудобные, редко по размеру. Она всегда пользовалась переходником при удалении экссудата, что легко при большом количестве выпота и постоянно угрожает смещением иглы (для меня, по крайней мере), когда жидкость приходится «откачивать» с усилием. Конечно, я училась у старшей подруги и старалась ей подражать.
Предполагалось, что после окончания ординатуры я сразу поступлю в очную аспирантуру и продолжу начатую работу, непосредственно приступив к набору больных. А пока, за два года ординатуры мне надо было помимо учебного процесса и ведения больных хорошенько освоить и апробировать свои методики и подготовиться к проведению их на базе клиники.
С этой последней задачей я, в конце концов, справилась, конечно, с неоценимой помощью В. А. Рассказова, который стал моим вторым научным руководителем, и его сотрудников. Начала потихоньку обследовать больных в пульмонологическом отделении. Первое время заканчивать реакцию мне приходилось всё же в ТИБОХе, привозя в мешочках со льдом пробирки с пробами, но постепенно в БМСЧР появились и центрифуга с охлаждением, и необходимый для окончательного этапа – определения показателей – спектрофотометр.
Казалось бы, всё хорошо, после окончания ординатуры я сразу поступаю в аспирантуру, дальше – уже работа по проложенной с такими трудностями колее.
Но судьба распорядилась иначе. По разнарядке министерства на кафедру «спустили» только одно место в аспирантуру, и то заочную, а это значило, что надо одновременно проводить исследования и работать врачом. Идеальный вариант – работать врачом в той же больнице, где производился «набор больных» (специфический термин). Но в БМСЧР на тот момент мне могли предложить только место врача-диетолога, которое бы давало достаточно времени для занятий наукой, и в принципе вполне годилось для поставленной цели, но меня совсем не привлекало. Обсуждался и ещё один вариант – остаться на кафедре в должности старшего лаборанта и продолжать лабораторные и клинические исследования по теме. Но этой идее на общем собрании кафедры сотрудники воспротивились, т. к. опытный старший лаборант – биохимик остался работать на базе Краевой больницы, а ассистентам кафедры, пришедшим на базу БМСЧР, требовался грамотный помощник для выполнения исследований по их собственным запланированным темам.
В результате я оформила документы в заочную аспирантуру, естественно, при той же кафедре госпитальной терапии (вступительные экзамены сдала ещё весной) и пошла за направлением на работу в горздравотдел. Заведующий подозрительно на меня посмотрел: мол, красный диплом, ординатура, и никто за меня не просил, что было явно не в духе времени. Перебрав несколько предложений, я остановилась на месте врача терапевта в городском родильном доме № 3 на Чуркине, куда госпитализировались беременные женщины, как с акушерской патологией, так и с заболеваниями внутренних органов.
Обследование тематических больных пришлось прервать, т. к. они находились в другом конце города, и погрузиться в лечебно-диагностическую работу. Вероятно, в тот момент я действовала под влиянием импульса, а не трезвого расчёта, но получается, что предпочла работу врача занятиям наукой. Интересно, что через много лет ситуация повторилась, и я опять в ущерб карьере выбрала больных. Значит, судьба. Но об этом потом.
Роддом
Я проработала в роддоме, консультируя беременных и рожениц, 10 месяцев. Работа была очень ответственная, т. к. решения приходилось принимать самостоятельно. Кроме меня, в роддоме был только ещё один доктор терапевт – Лина Владимировна К., с большим опытом работы в этой области, и в некоторых случаях я могла обратиться к ней за помощью. Но наши рабочие часы не всегда совпадали, и «сферы влияния» тоже были разделены: она «отвечала за больных» в стационаре, я же вела приём в женской консультации, находившейся в том же здании.
В моём распоряжении был просторный кабинет и два аппарата для функциональной диагностики: электрокардиограф и фонокардиограф. В институте нам, конечно, преподавали основы ЭКГ, но к расшифровке конкретных ЭКГ-плёнок я не чувствовала себя готовой. На помощь пришли руководства по клинической электрокардиографии Маколкина В. И., Тумановского М. И. и, конечно, Дехтяря Г. Я., книга которого была настольной у всех «функционалистов» (врачей кабинетов функциональной диагностики).
Я тщательнейшим образом их проштудировала и, описывая ежедневно 8–10 электрокардиограмм непосредственно при приёме больных и сопоставляя их с анамнезом и клинической картиной, разобралась в закономерностях изменений зубцов и сердечного ритма, и приобрела определённую уверенность. Очень помогла мне вышедшая чуть позже «Клиническая электрокардиография (нарушения ритма и проводимости)» Исакова И. И. с соавторами. Эта привычка оценивать ЭКГ самостоятельно, составив представление о больном и не полагаясь на готовое описание, сохранилась на всю жизнь и очень помогла в дальнейшем. В одном из вышеперечисленных руководств, уже не помню где, мне попалась на глаза фраза о том, что по одной и той же электрокардиограмме 25 врачей могут выдать различные заключения, сообразовываясь каждый со своим опытом и теоретическими знаниями. Поэтому и сейчас кардиолог всегда смотрит представленную больным плёнку и хорошо, если есть записи в динамике.
Когда я начинала работать, эхокардиография еще не появилась, и фонокардиография была очень распространённым методом исследования сердца. Её я осваивала с помощью прекрасно написанного руководства по клинической фонокардиографии Фитилевой Л. М.
Сейчас мы крайне редко встречаем больных с острой ревматической атакой, мало пациентов и с ревматическими пороками сердца. У взрослых это либо случайная находка при обследовании, либо уже необратимая декомпенсация своевременно не прооперированного митрального порока сердца у весьма пожилых пациентов. В 70-е же годы ревматизм и ревматические пороки были серьёзной проблемой, особенно, при беременности, когда велика вероятность рецидива процесса. Строго выполнялись предписанные инструкции профилактики ревматизма бициллином и аспирином трёхкратно за период беременности. И это притом, что в настоящее время назначение аспирина (ацетилсалициловой кислоты) беременным считается противопоказанным из-за большой вероятности его патогенного воздействия на плод.
Оценивая критически этот период своей работы, я понимаю, как много тогда было случаев гипердиагностики пороков сердца, особенно митральной недостаточности, и, как следствие, совершенно неоправданного назначения противо-рецидивной терапии. Дело в том, что у беременных очень часто появляется систолический шум на верхушке или на основании сердца, иногда довольно интенсивный, и терапевт, видя такую пациентку в первый раз, не может клинически исключить порок сердца – недостаточность митрального клапана, или значительно реже – стеноз аортального клапана. Электрокардиограмма в таких случаях не информативна, так как при увеличении матки сердце принимает полу- или горизонтальное положение в грудной клетке с появлением, соответственно, амплитудных признаков гипертрофии левого желудочка сердца. Из-за опасности облучения плода флюорография сердца с контрастированным пищеводом беременным не проводится. Приходилось полагаться на результаты аускультации и фонокардиографии. Последняя позволяет оценить амплитуду шумовых колебаний, связь шума с тонами сердца, выявить «тон открытия митрального клапана», характерного признака митрального стеноза, и отличить его от III тона сердца миокардиального происхождения. Впрочем, последний если и исключает митральный стеноз, то может встречаться при истинной (клапанной) митральной недостаточности. Между тем известно, что во II триместре беременности систолический шум на верхушке сердца, обусловленный ускоренным кровотоком и увеличением объема циркулирующей крови, появляется у большинства беременных. Он бывает довольно интенсивным, сочетается с акцентом, а иногда и расщеплением II тона на лёгочной артерии, что очень напоминает органическую митральную недостаточность. Кроме того, в III триместре уменьшается и амплитуда I тона, а это кардинальный признак клапанной недостаточности.
Конечно, диагноз ревматической митральной недостаточности устанавливался только после консультации кардиолога и оценки всех имевшихся в распоряжении методов исследования, но все сомнения принято было толковать «в пользу больного» и назначать противо рецидивную терапию по полной программе. Значительно позже, после появления эхокардиографии, позволявшей видеть состояние клапанов, площадь митрального отверстия, а также наличие и степень регургитации, мне приходилось встречать многих больных, у которых диагноз митрального порока сердца, выставленный в 60–70-е годы, был снят.
Но среди моих пациенток были и больные с достоверно подтверждёнными пороками сердца. В этом случае решался вопрос о возможности вынашивания беременности, если женщина обращалась своевременно, т. е. до 12 недель беременности. При большем сроке эта проблема принимала, действительно, драматический характер: судьбу плода определяла комиссия с участием нескольких специалистов: кардиолога, терапевта, акушер-гинеколога. Если больная отказывалась от прерывания беременности, сохранение которой было противопоказано, её госпитализировали и наблюдали вплоть до родов, иногда вызываемых искусственно на сроке 7–8 месяцев. Тактика ведения родов определялась индивидуально, но практически всегда исключался «потужной период», грозивший внезапным развитием отёка легких.
Мне очень хорошо запомнилась история с больной Д., 18 лет, которая сознательно избегала врачей и обратилась в женскую консультацию впервые в 24 недели беременности. У неё был врождённый порок сердца – дефект межжелудочковой перегородки, к сожалению, уже на стадии значительной лёгочной гипертензии. Были выражены цианоз, застойные хрипы в лёгких, одышка при незначительной нагрузке и отчётливая пастозность голеней. От прерывания беременности больная отказывалась категорически: она только что вышла замуж и очень хотела ребенка. Уговаривать её было бесполезно, оставалось положиться на судьбу, резервы её молодого организма, ну и медицину. Больную госпитализировали, по возможности улучшили состояние сердечно-сосудистой системы с помощью сердечных гликозидов, мочегонных (очень осторожно!) и так называемых кардиопротекторов, в те годы широко применявшихся (кокарбоксилаза, рибоксин, панангин). Затем успешно прооперировали путем кесарева сечения. Родилась здоровая девочка, молодая мама перенесла операцию относительно благополучно и, по крайней мере, года 3 состояние её явно не ухудшалось. Я уже работала в БМСЧР, когда увидела её в кардиологическом отделении, куда она поступила на «профилактическое лечение». К сожалению, радикальная операция на сердце была невозможна из-за высокой лёгочной гипертензии, и дальнейшая судьба этой молодой женщины мне неизвестна. А ведь этот порок сердца успешно оперировали уже тогда в кардиохирургических клиниках Благовещенска и Новосибирска, но диагноз своевременно поставлен, увы, не был.
В связи с этим случаем, я хочу коротко остановиться на одной очень актуальной для 70-х годов теме. После публикации монографии Б. Е. Вотчала «Сердечные гликозиды», не знаю, как в фармакологии, но в терапии этот раздел преподавался в соответствии с понятиями о темпах дигитализации, насыщающей, поддерживающей и летальной дозах, коэффициенте кумуляции, условиях, способствующих развитию дигиталисной интоксикации. Словом, чтобы «следовать букве», нужно было проводить математические расчёты у постели больного, что я и делала в случае с той молодой женщиной в роддоме, которой в связи с сердечной декомпенсацией требовалось введение строфантина. Это был мой первый и последний случай «математического подхода к лечению». Посоветоваться, кроме как с книжкой, было не с кем.
Когда через несколько месяцев я пришла в терапевтическое отделение, то увидела, что никто из врачей расчётами доз на практике не занимается. Назначается, как правило, «медленная» дигитализация, когда насыщающая доза достигается через неделю приема препарата в обычной терапевтической дозе, и только в отдельных случаях проводится коррекция. Обычно больной принимал 1–1,5 таблетки дигоксина, иногда на несколько дней дозу увеличивали до 2 таблеток. Но случаи дигиталисной интоксикации на фоне гипокалиемии, спровоцированной диуретиками, мне приходилось наблюдать. Диагностика редко вызывала затруднения: кроме тошноты и рвоты, обязательным проявлением были «корытообразное» смещение сегмента ST на ЭКГ и желудочковые аритмии. А еще через некоторое время уменьшилось содержание препарата в готовых ампулах: и строфантин, и дигоксин стали выпускаться в концентрации в 2 раза меньшей (0,025 % вместо 0,05 %). Многие врачи как бы по инерции продолжали назначать по 1 мл на иньекцию, а не по 2 – с учётом более низкой концентрации. Более решительные и уверенные доктора соблюдали прежнюю дозировку, но вероятность возникновения дигиталисной интоксикации при парентеральном введении гликозидов резко уменьшилась. Там, где прямых показаний для урежения ЧСС не было, с целью улучшения энергетической функции миокарда предпочитался «мягкий и безобидный коргликон», насыщающая доза которого была гораздо выше, чем строфантина.
Ну а сейчас сердечные гликозиды вообще находятся далеко не на первом плане в лечении хронической сердечной недостаточности. Основное показание к их назначению – не повышение сердечного выброса и урежение ЧСС, а стимуляция продукции предсердного натрий-уретического гормона. Достичь же целевого уровня ЧСС можно с помощью бета-адреноблокаторов или, если они противопоказаны, селективного ингибитора If каналов синусового узла ивабрадина (кораксана).
Функциональная диагностика
В начале августа 1975 года меня вызвала заместитель директора по научной части мединститута профессор Мотавкина Н. С. и сурово потребовала ответить, как я собираюсь продолжать обучение в заочной аспирантуре. Мои путаные объяснения были выслушаны, наверное, последовали какие-то указания, потому что через неделю я уже была принята на работу в БМСЧР в качестве врача функциональной диагностики.
Вот здесь-то мне пригодились мои самостоятельные занятия электрокардиографией. Я села описывать пленки всех других отделений, кроме кардиологического. Записи мои, естественно, вначале проверяла заведующая кабинетом, но уже через пару недель я работала совершенно самостоятельно, расшифровывая электрокардиограммы все подряд. Благо под рукой были и руководства по электрокардиографии, и атлас нарушения ритма и проводимости. А в действительно сложных или спорных ситуациях на помощь приходила ассистент кафедры и классный специалист по функциональной диагностике Тамара Степановна Барсукова.
Одновременно я продолжала учиться фонокардиографии, ведь в кардиологическом отделении всегда находились больные с пороками сердца, а весной и осенью «пачками» поступали призывники, направленные военкоматом для уточнения характера или наличия сердечной патологии. Я наконец-то научилась «слушать сердце», сравнивая данные аускультации в условиях тихой и затемнённой комнаты, что помогало сконцентрироваться, с записанной тут же фонокардиограммой и с данными истории болезни, в частности, с результатами рентгенологического исследования сердца. Теперь я могла более-менее уверенно отличить функциональные шумы сердца (физиологические) от органических уже при осмотре больного и аускультации. Неожиданным открытием для меня стало, что высокочастотный протодиастолический шум, патогномоничный симптом недостаточности аортальных клапанов, лучше улавливается «ухом», чем фиксируется на фонокардиограмме, где амплитуда его колебаний низка, и может быть принята за артефакт.
В течение года я освоила все поставленные в отделении методы исследования, т. е. помимо электро- и фонокардиографии, реографию, скорость распространения пульсовой волны и спирографию. Особенно важным было умение разобраться в спирографии со всеми ее нюансами и оценкой достоверности, что помогло не только в практической работе, но и позже при преподавании и консультировании больных.
С нагрузкой врача кабинета функциональной диагностики я справлялась быстро, и у меня появилась возможность заняться обследованием своих тематических «лёгочных» больных по уже разработанным методикам. Во время забора крови у пациентов я стояла рядом с медсестрой, держа пробирку, стараясь приурочить свои анализы к уже назначенным врачом стандартным исследованиям, чтобы «не колоть» больного лишний раз. Если вены были хорошие, я брала кровь сама, но, к сожалению, отсутствие практического навыка и, что уж говорить, не очень ловкие руки оставались моим больным местом. Работать головой мне всегда было проще, чем руками. Потом я бежала с этими пробирками к центрифуге и, получив сыворотку, относила её в лабораторию для исследования активности всех 4-х лизосомальных ферментов (кислой фосфатазы, катепсинов, ДНК-азы и РНК-азы). Сначала мне помогала («доводила» пробы крови до этапа спектрофотометрии за отдельную плату) старший лаборант кафедры инфекционных болезней. Позже мы стали сотрудничать с врачом-лаборантом из основной лаборатории больницы, замечательным творческим человеком и моим соавтором в некоторых публикациях Ниной Николаевной Рябовой.
Чтобы быть поближе к больным, я стала вести небольшую палату в пульмонологическом отделении «на общественных началах». Это продолжалось около года, потом у начальства возникли вопросы, что делает врач функциональной диагностики в пульмонологическом отделении, и я с удовольствием полностью перешла в это отделение на ставку врача-пульмонолога. Правда, этот переход почему-то забыли отметить в моей трудовой книжке, что я обнаружила уже после увольнения. К счастью, отсутствие документального подтверждения моей работы пульмонологом не сыграло в дальнейшем никакой роли. Потом я уже сама преподавала пульмонологию, не имея необходимого теперь сертификата «по специальности». Вообще, за всю жизнь мне ни разу не пришлось учиться на каких-то серьёзных специализированных курсах по терапии. Институт заботился только о своевременном прохождении ФПК (факультета повышения квалификации), где основным предметом была педагогика, хотя отдельные лекции по терапии, как и разборы больных на кафедре, к которой ты был прикомандирован, проводились. Хочешь знать больше – посещай заседания научных обществ, клинические разборы больных (и в Москве, и здесь во Владивостоке), читай литературу.
Пульмонологическое отделение (бронхиальная астма)
Врачом пульмонологического отделения я проработала 2 года, и эта небольшая часть моей жизни вспоминается мне как самая интересная и продуктивная. В те годы у нас сложился замечательный коллектив единомышленников: заведующая отделением Елена Федоровна Соловьева, второй врач – ординатор Антонина Ивановна Гусева и бронхолог Ольга Викторовна Бондаренко. Мы были все примерно одного возраста, работали «в команде», делясь в ординаторской своими размышлениями о больных и учась друг у друга. Для нас было не вопросом задержаться в отделении, если нужно. Впрочем, мы и так никогда не уходили вовремя: работы хватало, больные были тяжёлые, со всего края, т. к. отделение тогда имело статус Краевого Пульмонологического Центра.
Отделение состояло из 60 коек, на которых лечились больные, в первую очередь с бронхиальной астмой различной степени тяжести, осложнёнными пневмониями и абсцессами легких; достаточно много было больных с обструктивными бронхитами (по современной терминологии ХОБЛ); значительно реже встречались пациенты с диссеминированными процессами и другой более редкой патологией. Ну и, поскольку это всё же была «рыбацкая больница», благосостояние которой зависело во многом от организаций, связанных с рыболовством, здесь же лечились и «рыбаки» с обычными пневмониями и бронхитами, которые нуждались в госпитализации, иногда больше по социальным показаниям (жили на судах либо в общежитиях).
Вокруг бронхиальной астмы (БА) в 70-е годы, особенно, во второй их половине, развёртывались поистине драматические события. Если раньше студентам преподносили эту болезнь как «страдание, при котором пациенты долго мучаются, но не умирают», то теперь ситуация изменилась. Прежде всего, на смену теофедрину, эуфиллину и астматолу, основным препаратам для купирования приступа астмы, пришли бета-адреностимуляторы (или симпатомиметики), в форме «карманных» ингаляторов – такие, как астмопент и его аналоги. Они были удобны в употреблении и позволяли быстро достичь эффекта. Но одновременно всё чаще стали регистрироваться астматические статусы, в том числе, с летальным исходом. Оказалось, что между этими двумя событиями существует причинно-следственная связь. В Ленинградском институте пульмонологии под руководством профессора Федосеева Г. Б. был расшифрован конкретный механизм спазма бронхов и мелких сосудов. В общих чертах на уровне знаний того времени это выглядело так. Состояние гладких мышц регулируется внутриклеточным соотношением мононуклеотидов – циклического аденозинмононуклеотида (цАМФ) и циклического гуанозинмононуклеотида (цГМФ). Повышение содержания цАМФ вызывало стимуляцию бета-адренергических рецепторов и расслабление гладкой мускулатуры бронхов и мелких сосудов, в то время, как повышение цГМФ, активировало альфа-адренорецепторы и, напротив приводило к бронхоспазму, и, соответственно, к приступу удушья.
Так вот, бета-адреностимуляторы первого поколения обладали значительным влиянием и на альфа-рецепторы, которое проявлялось только при уменьшении количества их антагонистов, бета-рецепторов, или их угнетении. При частом употреблении ингаляторов (свыше 5 раз в сутки, а больные, чувствуя снижение эффекта, использовали порой весь баллончик за 1–2 дня) возникало резкое угнетение, вплоть до блокады, бета-рецепторов, и развивался так называемый «синдром рикошета». При этом каждое последующее употребление ингалятора стимулировало альфа-рецепторы, развивавшийся при этом спазм бронхов при одновременном нарушении секреции мокроты (выделялась только её вязкая часть) переходил в их обструкцию – «синдром запирания». Отсюда – острая дыхательная недостаточность, диффузный цианоз, гипоксия мозга, а за счёт гиперстимуляции альфа-рецепторов сосудистой системы – тахикардия и аритмия. Вот это и был астматический статус, требовавший экстренных и специфических мероприятий на каждой из трёх его стадий. Последняя стадия – кома с отсутствием сознания и плохим прогнозом. Как правило, астматический статус развивался на протяжении нескольких часов и даже суток, но в отдельных случаях тотальный бронхоспазм возникал очень быстро, т. е. выделялся и вариант самой страшной «молниеносной комы».
Два таких случая, произошедших с относительно небольшим интервалом во времени (печально знакомый медикам «закон парных случаев») до сих пор стоят у меня перед глазами. Я не была лечащим врачом этих больных, но как уже писала, врачи пульмонологического отделения работали «в команде», и в ординаторской разговор шёл, преимущественно, о наших больных. Прошло уже около 40 лет, я не помню фамилий этих больных, но их лица и обстоятельства гибели навсегда врезались в память. Оба были молодыми (в возрасте 30–40 лет) образованными и симпатичными мужчинами.
Первый из них, скажем, больной В., страдал атопической астмой средней степени тяжести, глюкокортикоиды ему не назначались. Аллергия была поливалентной, но самым явным известным нам аллергеном, который спровоцировал первый приступ, были дафнии, рачки, содержащиеся в корме для комнатных рыбок. При первой госпитализации бронхоспастический синдром был быстро купирован без применения стероидов, благодаря лишь эффекту элиминации (удаления аллергена) и антигистаминным препаратам. После выписки больной был обследован аллергологом, и у него был выявлен ещё ряд положительных тестов с пыльцовыми и бытовыми аллергенами. Когда у него развилось второе обострение, неизвестно чем спровоцированное (но не инфекцией), решено было положить его в отдельную палату этажом выше, в кардиологическое отделение, где антибиотики применялись достаточно редко, и была надежда и в этот раз обойтись без назначения «гормонов». Поясню, что в то время не было ни одноразовых шприцев, ни централизованной автоклавной, и шприцы для иньекций стерилизовала в конце смены каждая медсестра непосредственно в процедурной. При этом запах пенициллина ощущался в коридоре весьма и весьма. Пенициллин – аллерген номер один среди антибиотиков, и зная это, у себя в отделении мы старались его не назначать, поскольку преобладающим контингентом больных были «астматики». Они при вдыхании резких запахов, даже если и не было зафиксировано аллергии к пенициллину, начинали кашлять и задыхаться. И вот через пару дней наш больной пошёл на поправку, приступы удушья у него прекратились, но по несчастному совпадению как раз в эти дни в кардиологическое отделение поступил больной с активной фазой ревматизма, которому, согласно принятым тогда рекомендациям, дежурным врачом был назначен пенициллин. Больной В. рано утром вышел в туалет и, проходя мимо процедурной, где кипятились шприцы, задохнувшись, упал и потерял сознание. Спасти его не удалось.
Надо сказать, что первое назначение кортикостероидов всегда было драматическим моментом и для врача, и для пациента. Для врача – потому что никогда нельзя было заранее сказать, как длительно придётся его принимать, не разовьется ли стероидозависимость. Приходилось учитывать и наиболее часто возникающие побочные эффекты: стимуляция секреции желудка с последующим повышенным аппетитом и прибавкой в весе, угроза возникновения «стероидных язв», задержка жидкости, повышение АД, при длительном приеме – остеопороз. Реже – нарушение сна. В соответствии с биологическим ритмом выделения кортикостероидов надпочечниками, преднизолон в таблетках назначался только в первой половине дня, иногда вся доза утром после завтрака. Что касается больного,– он уже был, как правило, наслышан о «посаженных на гормоны пациентах», боялся, что придётся принимать их всю жизнь, женщины ещё и просто не хотели возможной прибавки в весе. В стационаре не было каких-то строгих схем назначения гормонов. Иногда можно было обойтись внутривенным введением преднизолона или гидрокортизона на фоне капельной инфузии физиологического раствора по 2 раза в день от 3 до 8–10 дней. Более тяжёлое состояние требовало приема внутрь (3–5 таблеток) в течение 7–10 дней с немедленной отменой. При тяжёлом обострении и указаниях на приём гормонов в прошлом, обычно назначали 4–6 таблеток в сутки до отчётливого улучшения с последующей постепенной отменой. Для каждого больного схема была индивидуальной в соответствии с его состоянием и личным опытом лечащего врача.
Второй наш больной Ж. 34 лет, болел бронхиальной астмой уже лет 5, у него был инфекционно-зависимый вариант течения, при обострении требовавший курсового назначения повышенной дозы преднизолона или полькортолона. К лечению он относился адекватно, принимал минимальную дозу преднизолона в качестве поддерживающей: 10 мг – количество, примерно равное ежедневному выбросу нормально функционирующих надпочечников. Его наблюдала и многократно лечила наш старший ординатор Гурина Е. И. и, когда в очередной раз Ж., почувствовав себя хуже, пришёл в отделение вроде как посоветоваться, она решила его госпитализировать, решив, что причина обострения – затянувшаяся респираторная инфекция, и может понадобиться более интенсивное лечение. Состояние нельзя было назвать тяжёлым, но бронхиальная обструкция была чёткой, и потребность в симпатомиметиках не удовлетворялась их использованием 3 раза в сутки. Были назначены эуфиллин капельно на физиологическом растворе, антигистаминные препараты, но дозу преднизолона решено было пока не увеличивать. Трагедия разыгралась на второй или третий день пребывания в отделении, когда он уже почувствовал себя лучше. Сидя после завтрака в коридоре, без видимой причины он вдруг раскашлялся, тут же развился приступ удушья, и больной внезапно потерял сознание. Было утро, все врачи на местах, сразу же начали искусственное дыхание и массаж сердца. Прибежали реаниматологи и забрали его в своё отделение, заинтубировали, но все попытки восстановить нормальное дыхание были безуспешны. На секции никакой неожиданности не было – только признаки диффузного бронхоспазма. Переживали мы все ужасно, на лечащего врача было жалко смотреть – ведь больной пришел сам в относительно удовлетворительном состоянии – и такой исход. Анализируя этот случай, мы не смогли найти другой причины, кроме несоответствия дозы преднизолона состоянию больного на фоне спровоцированного инфекцией (без повышения температуры) обострения и, видимо, недостаточности функции собственных надпочечников.
Я начала писать о бронхиальной астме с трагических случаев, но они, конечно же, были единичными. Большинство больных выписывалось с улучшением. Сейчас, когда есть международные протоколы JINA, чётко расписаны критерии стадий с определённым для каждой из них объёмом базисной терапии, есть эффективные препараты из группы ИГКС (ингаляционных кортикостероидов), создание которых произвело революцию в пульмонологии, лечить больных бронхиальной астмой стало гораздо легче. Это, конечно, дорогие лекарства, но для больных, имеющих группу инвалидности, отпускаются (должны отпускаться при их наличии) бесплатно. Имея за плечами солидные рекомендации, проще и с больным достигнуть взаимопонимания («комплайенс» – по современной терминологии). Не все, но подавляющее большинство пациентов, стараются дисциплинированно следовать назначениям пульмонолога, понимая опасность самостоятельного прекращения лечения. Мы теперь опять не слышим о смертельных исходах, о тяжёлых астматических статусах, больные реже попадают в стационары. Значительно проще стало ставить диагноз – достаточно подтвердить наличие бронхиальной обструкции и, главное, её обратимость, затем определить степень тяжести, независимо от этиологии.
Но в 70-е и даже 80-е годы в наших руках были только появившееся селективные бета-2- симпатомиметики, меньше влияющие на сердечно-сосудистую систему, чем препараты первого поколения, всё тот же эуфиллин для экстренных случаев и кортикостероиды в таблетках и в ампулах. Поэтому ведущее значение в выборе лечебной тактики придавалось этиологии астмы. В это время в статьях и в докладах пульмонологов, приезжающих из Ленинградского института пульмонологии, а затем и в «Руководстве по пульмонологии»» появилась рабочая классификация бронхиальной астмы Г. Б. Федосеева. Она предполагала выделение вначале шести клинико-патогенетических вариантов течения БА, а позже и всех девяти. Это были атопический, инфекционно-зависимый, дизовариальный, глюкокортикоидный (стероидозависимый), аутоиммунный, нервно-психический, холинергический, выраженный адренергический дисбаланс, первично-измененная реактивность и далее – аспирин чувствительная астма, астма физического усилия. Для каждого из вариантов предлагались свои диагностические критерии и тактика лечения. И «формула диагноза» конкретного больного, соответственно, должна была быть индивидуальной.
В практической работе пульмонологу важно было:
а) исключить активную инфекцию (подвариант инфекционно-зависимой астмы), чтобы определиться с назначением антибиотиков;
б) распознать нервно-психический вариант, который в крайнем виде встречался в форме синдрома Да Коста (психогенной одышки), и подключить к ведению больного психотерапевта;
в) своевременно диагностировать бронхиальную астму аспирин-чувствительную, часто сопровождающуюся полипозом носоглотки, поскольку даже однократное использование препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту или любой другой препарат из анальгетиков, НСПВ (нестероидных противовоспалительных препаратов), могло вызвать резкое ухудшение состояния больного;
г) у женщин подумать о дизовариальном варианте, когда обострение болезни возникает как проявление предменструального синдрома. Здесь, конечно, требуется вмешательство гинекологов.
Эти варианты были достаточно условны, часто сочетались друг с другом, могли претерпеть изменения на разных этапах развития болезни и иногда выходить на первый план. Как наиболее яркий пример дизовариального варианта, приведу историю болезни больной Н., 39 лет, у которой на фоне приёма небольшой поддерживающей дозы преднизолона, три месяца подряд в предменструальном периоде развивались тяжелейшие астматические статусы. Во время одного из них обтурация дыхательных путей мокротой потребовала срочного наложения трахеостомы (врачом отделения челюстно-лицевой хирургии) с последующим отсасыванием содержимого бронхов, введением физиологического раствора и некоторых бронхорасширяющих и мокроторазжижающих препаратов непосредственно в отверстие в трахее. Лишь когда при повторном тщательном сборе анамнеза мы смогли выявить связь между приходом менструации и возникновением приступов, решение проблемы было найдено. Гинекологи обследовали пациентку, удалили внутриматочную спираль, назначили корригирующую гормональную терапию, после чего развилась стойкая ремиссия, и отпала необходимость в поддерживающей стероидной терапии.
О нервно-психическом, как о ведущем варианте, мы говорили в тех случаях, когда удавалось проследить связь между эпизодами эмоциональных «срывов или взрывов» и приступами удушья. Здесь важно было установить доверительный контакт с больным, проводить рациональную психотерапию и, по возможности, решать вопросы социальной адаптации.
Как пример значимости для больного правдивой информации об его заболевании, приведу случай с больной К. Это была девочка 15 лет, внучка известного в нашем городе хирурга Краевой больницы. Она поступила с выраженным обострением бронхиальной астмы, частыми приступами и постоянной одышкой. Вне приступа в лёгких дыхание было ослаблено, и только при форсированном выдохе (тест на скрытую обструкцию) выслушивалось небольшое количество высокотональных («свистящих») хрипов. Ранее больная была обследована в Ленинградском институте пульмонологии, диагностирована смешанная форма астмы (атопический и инфекционно-зависимый варианты). Рентгенологически определялись начальные признаки эмфиземы легких и очагового пневмосклероза в средней доле, как следствие перенесённой пневмонии. Согласно выписке из института, кортикостероиды ранее не применялись. При разговоре с больной выяснялось, что такая постоянная одышка с невозможностью глубокого дыхания у неё давно, она к ней привыкла и считала это состояние нормальным. Девочка была замкнутой, устала от пребывания в разных больницах, недоверчиво относилась к врачам вообще, видя малоуспешность лечения. О том, что бронхиальная астма – заболевание хроническое, полное излечение маловероятно (практически невозможно) ей никто не рассказывал. Напротив, родственники, обращаясь всё к новым врачам и новым методам лечения, внушали надежду на полное выздоровление. После трёх дней стандартной инфузионной терапии в сочетании с эуфиллином и симпатомиметиками, приступы удушья прекратились, но отделение мокроты было незначительным, аускультативная картина оставалась прежней. Стало ясно, что без использования глюкокортикоидов добиться разрешения бронхиальной обструкции не получится.
Поскольку девочка была достаточно взрослой, начитанной и, вероятно, «наслышанной», я решилась на откровенную беседу, рассказав в доступной форме о патогенезе заболевания, механизме действия различных медикаментов, в том числе стероидов, а также о реальном прогнозе. Мне показалось, что взаимопонимание было достигнуто, и я назначила ей преднизолон внутривенно по 60 мг (эквивалентно 10 мг внутрь) два раза в день. Вечером у девочки была истерика, а утром прибежали родственники, требуя смены врача и угрожая ответственностью вплоть до судебной в связи с возможным развитием «зависимости от гормонов». Но уже в середине дня после повторной инфузии преднизолона состояние девочки кардинально изменилось. Появился кашель с обильной мокротой, в которой было множество «беленьких червячков» (слепков обтурированных мелких бронхов), дыхание стало глубоким, в лёгких появились в большом количестве возникающие в бронхах среднего калибра «жужжащие» хрипы. Почувствовав улучшение, больная успокоилась, настроение у неё улучшилось. Через три дня интенсивного лечения дыхание в лёгких стало свободным, хрипы исчезли, и преднизолон был отменен. После этого контакт между нами, действительно, был установлен, и я почувствовала, что она мне доверяет. Вскоре появились и родственники, признавая свою неправоту.
В дальнейшем больная ещё несколько раз госпитализировалась в наше отделение, наблюдалась у краевого аллерголога. Тяжёлых обострений больше не было, но в лечении приходилось использовать различные варианты гормональной терапии. Потом девочка поступила в медицинский институт, перестала обращаться, а когда я однажды случайно встретилась с ней в автобусе, вид у неё был спокойный, даже счастливый. Она вела нормальную жизнь, к болезни своей относилась адекватно, используя периодически уже появившиеся препараты ИГКС.
Теперь о крайнем проявлении нервно-психического варианта – болезни (синдрома) да Коста. Однажды заведующую пульмонологическим отделением Соловьеву Е. Ф. и меня, тогда уже куратора женской половины отделения, срочно вызвали в реанимацию. Туда по «скорой» поступила молодая женщина, лет 28, с тяжёлым приступом удушья. Она часто и поверхностно дышала, закрывала глаза, почти теряя сознание, в беседу практически не вступала. На обложке её истории болезни был записан и подчеркнут красным карандашом длинный перечень препаратов, к которым у нее была «аллергия». В подключичных областях с обеих сторон виднелись рубцы после повторных катетеризаций. На коже локтевых сгибов тоже были рубцы, появление которых она объясняла «отсутствием подкожных вен». Никаких выписок из стационаров, где она лечилась раньше, на руках не было. В конце 70-х-начале 80-х мы ещё не встречались с наркоманами, поэтому мысли о наркозависимости и не возникали. При объективном осмотре число дыханий достигало 35–40 в минуту, но цианоза не было, дистанционные хрипы отсутствовали. Аускультативно дыхание было ослаблено, потому что нижние отделы лёгких в процессе не участвовали, выслушивались единичные сухие хрипы по передней поверхности грудной клетки. Словом, клиника в астматический статус явно не укладывалась, а такая драматическая история болезни с множеством «виновных» аллергенов при отсутствии документального подтверждения (правда, женщина говорила, что она жила и лечилась раньше в одном из районов края) явно настораживала. Обсудив ситуацию с анестезиологами, которые до нашего прихода всё же смогли попасть в вену и вводили пока чистый физиологический раствор, мы остановились на предположении о психогенной одышке и ввели внутривенно реланиум. Больная быстро успокоилась, дыхание нормализовалось, и она уснула. На следующий день в удовлетворительном состоянии без всякой одышки больную перевели в отделение, откуда она в тот же день и сбежала.
Позже на одной из лекций ленинградских пульмонологов в плане дифференциального диагноза с бронхиальной астмой упоминался этот достаточно редкий синдром Да Коста. Оказалось, что купировать приступ психогенной одышки можно, заставив больного дышать в целлофановый пакет, т. е. повысив содержание углекислоты во вдыхаемом воздухе. Но раньше мы об этом не догадывались, а проверить на практике рекомендацию случая больше не представилось. В то же время умеренно выраженный нервно-психический компонент на фоне ведущего атопического или инфекционно-зависимого встречался у многих больных, поэтому включение в лечебный комплекс того или иного вида психотерапии (а в штате больницы появились психотерапевт и иглорефлексотерапевт) оказывало заметный эффект. В основе лечебного воздействия лежало подавление патологической доминанты в головном мозге за счёт активизации других корковых центров. Это позволяло изменить течение болезни, привести к длительной ремиссии и даже отказу в некоторых случаях от гормональной терапии или уменьшению поддерживающей дозы. Встречаясь с такими пациентами впоследствии, я убедилась, что даже при гормонозависимой форме астмы можно вести нормальную жизнь, иметь семью и полноценную работу – и это еще до появления современных схем лечения с базисной терапией ИГКС.
Но всё-таки первичными клинико-патогенетическими вариантами считались атопический и инфекционно-зависимый. Чаще всего они присутствовали оба, и определить, какой из них преобладает на данном этапе, было задачей номер один при госпитализации больного с обострением БА. В этот период проведение скарификационных тестов с неинфекционными аллергенами исключалось, а отсутствие чётких анамнестических данных, и развитие обострения на фоне респираторной инфекции, к сожалению, часто приводило к переоценке роли инфекции и неоправданному назначению антибактериальной терапии. Опасность последней мне довелось и не один раз наблюдать самой, когда у больных на фоне пенициллина, назначенного дежурным врачом, не пульмонологом, (а такое, к сожалению, случалось), происходила трансформация предастмы в клинически очерченную бронхиальную астму.
Так назначать антибиотики или нет? Вопрос жизненно-важный. Я думаю, что и сейчас не потеряли значения, описанные Г. Б. Федосеевым представления о троякой роли инфекции в патогенезе БА. Во-первых, инфекционный агент сам может являться аллергеном, что подтверждается в период ремиссии тестами с микробными ангигенами – это истинная инфекционно-аллергическая астма. Во-вторых, и это наиболее часто, инфекция, как правило, вирусная, разрыхляя слизистую оболочку трахеобронхиального дерева и облегчая доступ к тучным клеткам, является своеобразным «проводником атопии». Тогда у больного ОРВИ через некоторое время после повышения температуры и появления респираторных симптомов возникают приступы удушья – это инфекционная зависимость. В-третьих, микробная инфекция при пневмонии или бронхите, непосредственно повреждая слизистую бронхиального дерева, приводит к гиперреактивности холинэргических и некоторых других рецепторов. Последние отвечают неадекватной реакцией на обычно подпороговые раздражители – и возникает бронхоспазм. Это и есть бронхоспастический синдром при обострении бронхолёгочной инфекции (хронического бронхита, к примеру).