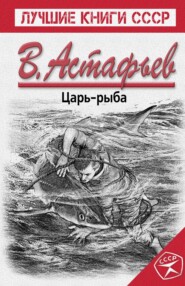скачать книгу бесплатно
Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу разэтакое… Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке не защищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.
И не ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на Опариху? Не желание же кормить комаров, коих, чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас. В отсвете костра, падающем на воду, видно не просто серое облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собою сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби.
Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином (если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса). Иной ловкач-комар все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится: «шпы-ы-ынь…» – это тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно, и что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством.
На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в валки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие, кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже малявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвою, комки цветов, гибкие тальники одавило сыростью, черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым, поределые, растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздно, тощо и бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну.
За кедром, динозавром маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял «харюзина», не изловленный сыном, блеснуло раз-другой, разрезало острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, расстриженные надвое, тоже разделились – одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра.
Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились – уснули глубоко, все в них отдыхало: слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами, какая-то часть его мозга бдила, была настороже.
Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль – сказывалось долгое городское сидение – и такая сразу нагрузка да вчерашняя духотища.
Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах Опариха, катясь по пропаханной вилючей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу на рукава, проточины и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение.
Казалось, тише, чем было, и быть уж не могло, но не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня – настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь Божий дух един, как рекли в старину.
На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением.
И я замер.
Так на фронте цепенел возле орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой – огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. «Огонь!» – не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней!
Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» – заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире.
В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров иль «ангелов крыла»?! В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но, снова задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами.
Ребята крепко спали.
Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке-сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, спозаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын окончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем – не сложился еще, не окреп, совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в ученье, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, двоих ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, Таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом, в крыльцах сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморышной, невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода, ан жалко отчего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира два близких человека, спят, пустив слюнки самого сладкого, наутреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту – рядом кто-то, стережет их от опасностей, подживляет костер, греет, думает о них…
Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, ни кто другой не сможет их греть и оберегать!
Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это еще и мука наша. Вечная наша тревога. Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими – никогда. И еще: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит?
И эта капля!
Что, если она обрушится наземь? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!
Но капля, капля!..
Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: «тот свет», – я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится с перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе-притягательном будущем. Мудра, взросла печаль – ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов – чем гуще тайга, тем они реже.
Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма?
Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру, птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только вонмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие.
С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была капалуха, на исходе вечера слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ль к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, капалуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились – птица выпаривала цыпушек – глухарят.
Близко от валежины прошла маралуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкалась в землю носом, срывая листок-другой – не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в Опариху выше нашего стана сохатый, жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской, попугайной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способной склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зуек, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду, тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, с ходу сцапала комара иль поденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, наливается соком отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали…
Так значит?..
Да утро ж накатило!
Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал, истаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохали, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.
Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою. Не желаю! И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели.
Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни.
Тайга дышала, просыпалась, росла.
А капля?
Я оглянулся и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра…»
Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег Опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостоину, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах счесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой сваляло в ватку, ребята съежились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам, псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми, ребристыми пастями.
– Эк вас, окаянных! – проворчал я на них незлобиво. – Раздерет!
Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышки отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом: где-то в вершине соседней речки – Сурнихи, за горбом осередыша, за лесами, за подтаежьем обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась размоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу или какому-то другому, более памятному и восприимчивому зрению виделась пока несмелая, силы не набравшая теплота.
Живым духом полнилась округа леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно деранул куда-то; закричали всюду кедровки, костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая вперебой, мокрая и сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох.
– Сохатый, дубак! – вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов: – Ы-ы, падлы! Дрыхаете, а людей чуть не слопали…
Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрущему пузу так, что брызги полетели.
Балуется братан, значит, отлегло.
– Хватит дуреть-то! – по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру, все так же упорно, лбом встречь течению стоявшему в речке – «харюзина» тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль дерева. Меня потянуло на зевоту, только рот мой распялило судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе; я не успел завершить сладостный зевок – на удочке загуляла сильная рыбина, потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти хариусу под кедр – там он запутается в сучках, сорвется, – быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо – ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только хариус с ленком такие циркачи.
Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну:
– Плакал твой харюз!
– Красавец-то какой! – подняв голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморгнул дяде: – Я бы его вытащил, да папа из-за харюза всю ночь не спал – пускай пользуется!..
– Ишь какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!
Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших сохатого.
Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах Опарихи.
Далеко-далеко возник широкий шум, ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шинице, залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой ели, лес задвигался, закачал ветвями, и первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы, а каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно покатился валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озора, и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи.
Вот отчего так тяжело было дышать вчера, воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал сердце – приближалось ненастье.
Шли быстро. Рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя, лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лоцманы бывалые.
Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепало листья березников, осин и чернолесья. Коля все настойчивей подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап, отставал все дальше и дальше, горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею.
Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошняком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда.
Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас и, когда встретил, вместо приветствия заругался:
– Оне люди городские, не понимают, чё к чему! Но ты-то, ты-то чё думаешь своей башкой? – корил он Колю.
– Тарзан отстал. Ждать придется.
– Тарзана дождать, самим погибнуть! – отринул наши городские претензии Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлестной прибрежной волны. – Никуда не денется байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет.
Переходили на подветренную сторону, под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали банкой, веслом, ведром воду за борт. Банка и весло – какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну, улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишко, старый, верный моторишко, работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, натужно все в нем дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко, лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот.
Но вот лодку перестало подымать на попа, бросать сверху вниз, воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет да и хлопался о волну, разбивая ее вдребезги. Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил, и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, ловко пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул:
– Ну как? Иссе на рыбалку поедем?
– Конечно! – отозвались мы, быть может, с излишней бодростью. Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть куцую телогрейку на двоих.
За кормой, за редко и круто вздымающимися волнами осталась речка Опариха, светлея разломом устья, кучерявясь облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам и все-таки снова замкнутая в себе, отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчеркивала суземные, отсюда кажущиеся недвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчало даль, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.
Не хватает сердца
И сами боги не могут сделать бывшее небывшим.
Греческая пословица
После всех этих занятных историй, после светлого праздника, подаренного нам светлой речкой Опарихой, в самый раз вспомнить одну давнюю историю, для чего я чуть-чуть подзадержусь и вспомню былое, чтобы понятнее и виднее было, где мы жили и чего знавали и почему так преуспели в движении к тому, о чем я уже рассказал и о чем еще рассказать предстоит. Брат доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться, приготовил пулю, зарядил патрон в ружье и только ждал момента.
Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики, только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чуш? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из заплота, из пьяных рук охального мужичья и резвящихся парней, пробиралась в дом брата больничная сестра с бережно хранимым шприцем.
Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала «укольчик».
Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора ко двору. И по мере того как лай чушанской псарни удалялся, затихал и наконец совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердце выдыхали – медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца тридцатых годов.
Но так было недолго – в Чуш на лето собирались бродяги всех морей и океанов, – эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким, холостяк, бродяга и приключенец, провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел – помешала занятость и болезнь брата.
Время шло. «Укольчик» действовал все слабее, и все виноватее делалась улыбка сестрицы, аккуратно и самоотверженно идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу.
И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ, там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, может достать нужное лекарство.
Уехал я не сразу.
Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в Дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуши. Северный богатенький люд двинул на отдых.
Наконец один теплоход подвалил среди ночи к чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, «хоть на палубе».
Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого – на палубе, на дровах и на мешках, в четвертом классе, ныне никто не ездил и самого этого «класса» давно не было.
Понявши, что все я погубил своим первобытным вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство и выскреб из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет.
Разлепивши ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины – не курю уж который год, но табак все виден, во зараза! – штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказал, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал – некогда читать книги – навигация, но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку, и штурман на всякий случай еще спросил: не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калинников»? Я сказал, что родня – это сын моего дяди, по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на «Калинников» телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф, ремонтники же, прибывшие на повреждение, неожиданно для себя и для всего народа загуляли.
Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро: теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться.
– Есть у нас одно место, но…
– Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою…
– Посмотрели бы вы на себя! – вздохнул штурман. – Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет. С удобствами. Богатый. Разницу мы ему выплатим. Только вы ни мур-мур…
Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу.
Я настороженно слушал, как внизу подо мною вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью, все шире и шире разделяющей теплоход и дебаркадер…
Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифлено сочилось солнце.
У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетеных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно делал гимнастику.
– Доброе утро! – бодро заявил он, не оборачиваясь. Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало.
– Хотел я скандальчик закатить, но… пассажир некурящий, к тому же писатель…
Говоря все это, он бодро, без одышки делал телодвижения. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленый зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов «причиндалами». Мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой «под корму».
Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот – чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршне, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина.
Я глядел и дивовался: вот ведь выучился ж где-то культуре человек, а мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку! Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности, как бы даже и утомленье имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия. Друзей-приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана, кто подогадливее полоскательницу из санузла принесет, выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства, сожрут апельсины, иногда и не очистив, некогда, потому что орать надо насчет соцреализма, о пагубных его последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности. Так и не заметит, не вспомнит никто, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали.
Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон к горничной, станут ей совать червонец – насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.
Хозяин каюты начал неторопливо одеваться. Свежие носки, свежую рубашку, брюки из серой мягкой шерсти с белеющими, наподобие глистов, помочами – все это надеть-то – раз плюнуть, но он растянул удовольствие на полчаса. Обмахнув щеткой и без того чистые светло-коричневые, скорее даже красноватые туфли, подбриолинил на висках волосики, идущие в убыток, взбил пушок над обнажающейся розовенькой плешинкой, которая, понял я, была главным предметом беспокойства в его сегодняшней жизни.
Делая все это, он попивал коньячок и без умолку болтал, сообщив как бы между прочим, что едет в «загранку» с тургруппой Министерства цветмета, что в Красноярске его ждут четверо соратников из управления. Отметив встречу в «Огнях» (ресторан «Огни Енисея» захудалого типа), он уже через какие-то дни будет в Париже: «Какие девочки в Париже, ай-яй-яй!»
– Не бывали в Париже? Жа-аль! Коньячку не желаете?..
– Я самогонку пью.
– Вы что так злы? Понятно, несчастье, понятно, устали. Вы и впрямь из сочинителей? Извините, по внешнему виду…
– Вы знаете, сколь я их ни встречал, сочинителей-то, они все сами на себя непохожи…
– Ха-ха-ха-ха! Ценю остроумие!..
– А при чем тут остроумие-то?