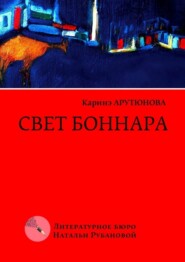скачать книгу бесплатно
Поезд мягко покачивается, будто нашептывая: север-юг, север-юг. Как быстро блекнет южная красота. Как быстро вспыхивает страсть. Обернулся – а там уж нет никого. Быстрые шаги за дверью, узкие щиколотки, схваченные тусклыми браслетами; у лавки старик в феске перебирает четки, и глаза его невидящие устремлены в вечность.
Дыхание перехватывает. Ведь и он состарится, устанет жить, осядет, точно песок, у порога чужой комнаты. Чужая женщина подожмет темные губы. Если плеснуть из кувшина на стену, повалит пар. Молчаливые старухи провожают его, навьюченного точно верблюд, – мольбертом, картонками, холстами, пледом. Прощай, бирюза, прощай, густая синева. Прощай, восток.
Колышется занавеска, на ней пляшет тень цветущего дерева. Острые тени. Быстрая любовь под жарким небом. Горсть каленых фисташек. Вкус мяты и жженого сахара. Сколько ей было? По белой стене полз тарантул, изумрудная ящерица сверкала чешуйками, дул ветер пустыни, сердце билось, мешая глотать и дышать.
Где-то льется вода, стекает быстрыми ручейками, даря прохладу и забвение. Здесь все уже было. Душа, совершив тысячу превращений, вернулась на землю. Точно после долгого сна, в котором чужой человек идет вдоль стены, шаг за шагом меняя очертания. Еще мгновение, и он поравняется с собой, бегущим навстречу.
Иные берега
Первые дни и часы (после эйфории приземления и пересечения границы миров) пребываешь в растерянности. Примеряешь на себя улицы, лестницы, коридоры, делая слабую попытку вписаться в покинутую систему координат.
Системе все нипочем. Система как была, так и продолжает быть, ничуть не страдая от вашего отсутствия. Прореха зарастает, не успев стать значительной.
Дом не узнаёт тебя, отторгает, похоже, несколько фраппирован внезапным бегством. Да и ты на ощупь продвигаешься, узнавая предметы, вспоминая их сакральный смысл. Например, любимую кофейную чашку, место у окна, в котором хорошо встречать утро, наблюдая картину мира под знакомым углом.
А вот и дом. Вот и тусклый вечерний свет, в который день кутается, готовясь к неторопливым вечерним занятиям.
Дай вспомнить. Пальцам, губам, зрению, осязанию, слуху. Найти себя, ощутить вес, размер, группу крови. Соотнести с другими. С другим. Перестать сравнивать. Начать любить.
Предвкушение
Единственная возможность «пощупать время» – дорога. Дорога, измеряемая километрами, колесами, шпалами, шагами. Вот оно, примирение времени с пространством. Измерение времени реальной величиной. Сложно, почти невозможно ощутить движение времени, уж слишком это непостижимая и таинственная для осознания категория. Осознаем его движение только постфактум, уже в результате свершившегося – взросления, старения, движущейся стрелки часов. И все же понимаем условность его, относительность. В движении вперед происходит сладостное обретение (наконец!) себя в пространстве, измеряемое дорогой и потраченным на нее временем. Забавно, – выходит, что для коровы, пасущейся у дороги, время стоит, для нас, проезжающих мимо, несется со скоростью, дозволенной на данном отрезке пути. И все же ощущение иллюзорной власти над временем дает только дорога. Из пункта А в пункт В. Делаем засечки, – солнце справа, слева, объезжаем закат, проезжаем село, въезжаем в город. Ландшафт меняется с каждым километром, даря еще одно ощущение – опять же иллюзорное, – покорения пространства. И все же пространство для нас более конкретно, – оно измеряется площадью, расстоянием. Его можно потрогать, в отличие от времени, «потрогать» которое можем лишь через движение в системе координат.
* * *
Душа насыщается сиюминутной красотой. Сотни, тысячи запечатленных ракурсов, мегабайты снимков, восторгов, замираний, воспоминаний. Куда все девается? Остается в банке данных? В памяти? Под кожей? В нейронах и межклеточных соединениях, отвечающих за умиление, жадность, восхищение, сожаление, желание хлопать в ладоши и моментально делиться? Спасительное чувство красоты, неподвластное хранению, сортировке, инвентаризации. Сколько увиденного и сколько невиданного! Мосты, фасады, падающие башни и устремленные ввысь шпили, сбитые ступени, античные стены, тропки и улочки, двери и подъезды, решетки и узоры, орнаменты и то, что скрывается за ними. Или же просто монотонный (на первый взгляд) пейзаж, пролетающий за окном. Прав был Аксаков, воспевавший медленное удовольствие от неторопливых передвижений, действий, видов, как будто ничего особенного не сообщающих, но насыщающих сетчатку детским предвкушением перемен. Вон дерево, оно уже позади, вон гривы древесные горят на ветру, дома точно спичечные коробки, грузовик, совсем игрушечный, застыл на дороге, облака клубятся, перекрывают обыденную земную жизнь, – что—то демоническое в них, неподвластное человеку и всем его представлениям о ней, – кукурузные поля проплывают в серебряном вихре, душа тешит себя внезапным чувством бесконечности и свободы.
Мимо леса и реки
Мы живем в параллельных мирах. Вайфай, чекин, смартфон, посадочный талон, онлайн-регистрация, слово фуагра щекочет язык обещанием изысканного, и тут же – чернеющие рытвины в асфальте, разбитая маршрутка, набитая пылью и мятыми пассажирами, едущими из пункта А в пункт Б, – под безудержный речитатив с пожеланиями любимой жене от любящего супруга, любимому племяннику от любящих дяди и тети – в пионерский лагерь, – панове, ведь пионеров нет, уж тридцать лет как нет, – а лагеря – есть! – счастливый хор дебелых пионервожатых в трепещущих на ветру кумачовых галстуках и минималистических юбчонках развеивает сомнения, – времена, наползая друг на друга, образуют дополнительное пространство, подобное машине времени, которая, ускоряя свой бег, в мгновение ока доставляет в будущее и далекое прошлое, – там сонные электрички, засцанные тамбуры, там петушиные головы, накрытые холстиной, выкрикивают прощальное «кукареку», в корзинах – россыпи ягод, на незнакомой станции – одинокая фигура в плаще, – время, делая резкий скачок вперед, оставляет следы, – тусклая лампочка в приемном покое, свежая побелка, драпирующая «света, я тебя лю…» и жирно прописанное (будто некий итог) слово из трех букв, – буковки, глумливо ухмыляясь, выскакивают из кармашков детской азбуки, – их можно переставлять так и этак, но итог от этого не становится иным, – а *** тебе, – в искреннюю заботу о ближнем сложно поверить в наших благословенных краях, везде ощутим подвох, двойные стандарты, – заааааходим, пассажиры, заааааходим, – у нашего водителя аккуратно выбритые седые височки, чистый воротничок, остановившийся взгляд военрука «в завязке», – слова он медленно процеживает сквозь ряд сцепленных зубов, не торопясь с результатом, – вопросы повисают в воздухе, ответы, провернутые в мясорубке рта, оказываются рубленными, нафаршированными порохом, свинцом, в них – ненависть плавает, перекатывается, подобная ртутным шарикам, – я вижу, как ходят желваки, натягивая кожу за ушами, – не будем же торопиться с выводами, панове, – водитель тоже человек, впрочем, как и любой из нас, – выходим на заправке, разминая члены, выпиваем дрянной кофе из бумажного стаканчика, выкуриваем сигарету, и тут же становимся значительно ближе друг к другу, понятней, – не вааалнуйтесь, всех довезем, – улыбается (то ли скрытая угроза, то ли обещание) он, зажав в ладони окурок, – глаза его, начиненные серой пылью, оттаивают, обнаруживая человеческое, – он треплет по головам чужих детей, которые тут же, провожая проплывающие за окнами реки, поля и леса, задумчиво изрекают – вот мост, вот река, вот корова, – мама, почему корова грустная, почему бабушка плачет, она просто старенькая, да? – пахнет беляшами, солнцем и близким дождем, и серый человек, обернувшись, все машет и машет рукой, то ли провожая, то ли встречая проходящих мимо.
* * *
В последние дни места и обстоятельства казались ему чем-то вроде многократно прожитого, пережитого, исследованного вдоль и поперек. Лес, речка, проселочная дорога, одни и те же лица, относительная предсказуемость и повторяемость событий. Теперь уже можно было представлять себе другие места, – например, город, бегство из которого еще каких-нибудь три недели тому было таким желанным. Да, там духота, жара, невыносимость, но многообразие лиц, сюжетов, происшествий. А тут – лес, река, коровы, близость кладбища, – которое, к слову сказать, не производило гнетущего впечатления, – размалеванные аляповато лавочки, пестрые луговые цветы, которые в том же количестве произрастали и за оградой. Солнце уходило за горизонт, освещая кресты, ограды, могилы, – чуть поодаль, на развилке, шелковица роняла темные ягоды, – они уходили в землю, окрашивая ее в иссиня-черный цвет, и только случайные городские люди тянулись, нагибали гибкие ветви, ловили губами спелость и сладость, смеялись, точно от щекотки, вспоминая, должно быть, беспечные времена.
Сельский продмаг с джентльменским набором – каким-нибудь сухим алиготе, портвейном, чуть подсохшим бело-розовым зефиром, пряниками, только что завезенным мороженым. Пережидая полуденный зной, присесть под навесом, – смотреть, как хмельная струя наполняет стакан, как лениво растекается время, как медленно бредет чужая старуха, – острый запах немощи не отвращает, – здесь, под высокими небесами, ничто не кажется противоестественным – ни смерть, ни старость, – у них столько же прав, сколько у жизни. Голоногая девчонка на велосипеде, – вы с дачи? с турбазы? – забытые слова из прошлых жизней, забытое чувство летнего безвременья, – когда дождь выстукивает по крыше веранды, некто раскладывает пасьянс, сдвигая карты, а вместе с ними – планы, обязательства, подсчеты, – в права вступает иная реальность, – из мятой колоды карт – подробный перестук колес, исцарапанные ноги, запястья, след от укуса комара, приблудная собака, укладывая голову на сложенные лапы, полудремлет неподалеку, вскидывается, отбиваясь от мух, помахивает хвостом, лениво приподнимается, под свалявшейся шерстью ходят ребра, – она не просит, не скулит, просто смиренно ожидает – чего-нибудь, любого знака со стороны сидящего за пластиковым столом человека. Согбенная в три погибели чужая старуха, наконец, преодолевает ступени, – их ровно три, – смеется, прикрывая ладонью пустой рот, – в ответ на чей-то вопрос тело ее сотрясается от безудержного старушечьего смеха, – коричневолицый, сухой, точно кора старого дерева, человек сметает обертки, бутылки, – зной оплавляет, размывает лица, силуэты, верхушки сосен, – пожалуй, одно оставляя неизменным – явность присутствия, делающего осмысленным и связанным все – дорожку пепла на пластиковом столе, чужую старуху, шелковицу, звуки, которые не нарушают тишину, а дополняют ее, – много позже, окруженный городским шумом, многообразием всего, обилием лиц, связей, возможностью выбора и невозможностью его, он вспомнит (между прочим) застывший кадр, в котором наполненность и бесконечность мгновения оставляют пространство как для сидящего под навесом, так для идущего по дороге, – туда, мимо кладбища и леса.
Пусть это будет, допустим, жаркий либо пасмурный летний день, проселочная дорога, виноградная лоза, опоясывающая плетень, солнце, проступающее сквозь травы, листы и цветы. Да, пусть это будут полевые цветы, растущие по обочине дороги. Повернутый к солнцу подсолнух, бесстыдно алеющий мак, невинная россыпь васильков, пустынная бескрайность поля, пьянящая тяжесть полдня. И всякий раз чувство быстротечности всего и бесконечности. Где-то посередине – точка, где эти двое пересекаются.
Иные берега
Взгляду привольно здесь. Он упирается в горизонт, не заваленный ничем. Если повернуться к морю, слепит синева, все оттенки синего, голубиного, глубинного, нежнейшие акварельные переходы, впрочем, разбавленные стройной и строгой графикой мачт, паромов, подъемных кранов. Слышен равномерный рабочий гул, – точно из глубины оркестровой ямы – визгливый стон лебедок, утробные, низкие гудки, над всем – свободное парение птиц, их резкие вскрики, их хлопотливая и в то же время богемная жизнь, не связанная условными границами. Там, за ровной белой полосой, чудятся иные берега. Море как будто застыло в преддверии холодов. С той стороны тепло идет, сохраняя ясность цвета и глубину его. С другой – надвигается неумолимо серое, тяжелое, оно движется с севера или северо-запада, урезая свет, меняя мизансцену, сюжет, декорации. Глаза, обращенные в сторону моря, распахнуты детским любопытством и умиротворением.
Не гнаться за ускользающим светом, воображая иные берега, легкость перемещений, сокровища смежных миров. Пожалуй, в этом ясность и явность присутствия, восторг обладания.
* * *
Счастье где-то здесь. В бесперебойной подаче света, в торжестве формы, без которой пространство теряет перспективу и смысл. В голубом, которое повторяется на кирпичном, – в синеве ставен и небес, в траектории солнечных лучей и птичьих крыльев, ворковании голубей и влюбленных «на переулках безымянных». В совершенстве граней, в отточенности тени, в ее постоянстве, изменчивости, – можно сказать, сама тень создает сюжет кадра, его динамику, характер, тональность, настроение.
Жизнь здесь балансирует между «увиденным» и «невиданным». Всякий раз, проходя по одной и той же улице, ты открываешь новые детали, упоительные подробности, и потом, следуя маршрутом фотографий, открываешь их вновь и вновь.
Вот этот просвет между домами, ставнями, крышами, между увиденным и не, между забытым и полузабытым, между тем, что хочется помнить, и тем, что не забудешь никогда…
Где-то здесь – между восторгом и предвкушением, между попыткой осознания себя в этом повторяющемся сюжете, между бодрствованием и сном, желаемым и действительным, – та самая жизнь, которой ничтожно мало для множественных воплощений, и которой так много, если речь идет об одном дне или часе, наполненном красотой.
В путешествии мобилизуются скрытые резервы. Вас носит вдоль и поперек, вам не лень сделать крюк и заглянуть в подворотню, проделать лишний виток, чтобы восхититься фасадом, решеткой, тем, как светотень ложится на кирпичную кладку стены; сотни раз вы жмете на кнопку камеры (телефона), проверяете, застегнута ли сумка, дергаете молнию вновь и вновь, ищете телефон, находите, забывая о том, зачем искали, потом вновь мчитесь куда-то, летите за последним вагоном, останавливаете (на ходу) поезда и автобусы, карабкаетесь в гору, обнаруживаете себя в склепе, в пещере, в подвале, на крыше, без устали восхищаетесь тем и этим, и, если хватит сил, еще вон тем далеким шпилем церквушки, до которой никак не дойти.
Невский проспект
Едва ли не первое самостоятельное путешествие – поездка в Ленинград на каникулах. Выезд 31 декабря. Следовательно, встреча Нового года – не дома, а в плацкартном вагоне, совершенно неотапливаемом, – но разве это обстоятельство имело хоть какое-нибудь значение для пятнадцатилетних?
Ощущение пронизывающего холода не казалось чем-то несправедливым. Это была данность, в которой имел счастье родиться и жить. Разве имели мы представление о заморских краях? Ну, разве что абстрактное, не связанное с чувственным восприятием.
Помню гурьбу старшеклассников, бредущих по Невскому. Шумных, возбужденных, – среди них – себя, в рыжем пальто с капюшоном, – онемение равномерно отмерзающих конечностей отнюдь не являлось препятствием для буйного веселья и чувства новизны всего происходящего. Самое неожиданное – отдельный номер в гостинице «Советская», – на каждого!
Где-то с час блужданий по огромному номеру. Босиком по ковру. Вот она, запретная роскошная жизнь!
С упоением щелкала задвижками, включала телевизор, выходила на балкон – оттуда струился поток ледяного воздуха, колючие снежинки щекотали оттаявшие в тепле щеки и лоб и исчезали на губах.
Какой влюбленной я была. Самовлюбленной. В номере полагалось «привести себя в порядок», – достать из сумочки коробочку с цыганской тушью, карандаш, блеск. Ничего этого у меня не было. И потому я долго смотрелась в овальное зеркало, любуясь внезапным румянцем. Чтобы похорошеть, требовалось всего лишь снять уродливое пальто и согреться.
А после – носиться по этажам, по номерам, шушукаться, кокетничать с идущими по коридорам командировочными, разбить окно, закурить первую сигарету, закашляться, торопливо загасить ее, вытряхнуть пепельницу, долго подбирать комбинации телефонных номеров, здороваться с незнакомыми людьми (и таким образом постигать стихийную суть города, в его вопросительных и гневных интонациях), швырять трубку, хихикать в кулак, плакать от неразделенной любви, спускаться к ужину, воображать себя взрослой и утомленной некоторым опытом, – чтобы, идя по коридору, поймать недвусмысленный мужской взгляд, польщенно улыбнуться в ответ, и дальше, – господи, нестись во всю прыть, хвататься за перила, шумно дышать в лифте, воображая себя пойманной, застигнутой, запираться в номере, мечтать о невозможном в свои пятнадцать глупых лет.
Уже на подъезде к Киеву расплакаться от ощущения прожитой жизни, – не там, не с теми, не так. Со всей безмерностью тоски по красоте. По строгости ее, стройности, имперскому объему и величию, графической ясности и неслыханной свободе.
По ту сторону воды
Тени на снегу
Похоже, на крыше нашего дома птицы свили премилое гнездышко, – домашний очаг и он же семейный альков.
Я слышу, как поют они и танцуют, и плачут, и ссорятся, и причитают, и мирятся. Еще вчера их было, кажется, двое.
Собаки здесь породисты и ошеломительно аристократичны. Кошек вообще не наблюдается. Возможно, уничтожены как класс. Либо же их съели чайки. Хотя, нет, – совсем не так давно на побережье наблюдалась дюжина пушистых и откормленных, и совсем добродушных, живущих в таких специальных домиках с отверстиями-окошками.
Чайка вездесуща. Она везде. В дымоходе, на крыше, в океане и на суше. Иногда она кричит обиженным детским голосом, а иногда – голосит заполошно, по-бабьи. Вчера, например, две чайки лаяли как собаки, а две другие бранились будто извозчики.
Если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что лицо у чайки хоть и благородных очертаний, но недоброе. Хищное лицо. Гордое и холодное. Радостно наблюдать, как взмывает она над океаном или пикирует на невидимую мне добычу. Радостно и одновременно неуютно. Слишком гордая красота, слишком гордая.
И отчего-то вспоминаются милые взъерошенные воробьи, такие неказистые и неприхотливые. Здесь их вовсе нет, а также нет голубей, крошек и опрокинутых мусорных баков. Видимо, все подчистую подъедают гордые океанские птицы.
Божьих людей, живущих подаянием, здесь тоже немного. Раз-два и обчелся. Смешно сказать, – португальский бомж – не чета нашему. Нет в нем ни хмельного отчаянья, ни голодного блеска. Куража нет. Местный бомж на редкость ленив и добродушен. Нет-нет да и протянет руку, но неуверенно как-то, без дрожи и напору.
Зато чайка деятельна и шумлива. По всему видеть, что будущее за ней. Для нее весь этот благоухающий, цветущий, белый, голубой, розовый и изумрудный мир. Для нее капли росы и тяжелые струи, стекающие с покатых крыш.
А еще для аистов, да-да, для самых что ни на есть аистов, которые живут себе в гнездах практически над каждым домом.
Бывало, задерешь голову к небу – а там – аист, и в клюве у него – сами понимаете что.
Сверток не то чтобы тяжелый, но довольно увесистый. А в свертке том – человеческий детеныш, покачивается мирно так, вперед-назад, влево-вправо. Голый человеческий детеныш, спит себе, ресничками подрагивает, весь в кудрявых завитках и ямочках.
Отчего это в одних местах аисты гнездятся, а в других – стаи тучных воронов?
Отчего в одних местах собаки как люди, а люди как птицы, а птицы как…
Отчего синева и прозрачность невозможны там, на моей далекой родине?
Отчего сердце мое так грустит и поет, поет и печалится, как будто не смеет ни окончательно возрадоваться, ни бесповоротно умереть?
Отчего тоска по внутреннему раю не покидает нас даже там, где, казалось бы, столько счастья, чистоты и красоты?
Отчего, когда над головами проносятся аисты, а за окном растекается молочная предрассветная пена, а в дымоходе воркуют суетливые чайки и щебечут птенцы…
Я слышу воронью перебранку… и свет в далеких окнах, и тучные тени на грязном снегу.
По ту сторону воды
Здесь нужно успевать между дождями.
Шаг влево – дождь. Вправо – ливень. В просвете – хвостик трески, стаканчик джиньи.
Ветер рвет зонт, обдает брызгами, – отовсюду, из-под колес, сверху, снизу, потоки стекают по лицу, хлещут по ногам.
И вдруг – тишина. Гигантская толща воды поглощает звуки. Там, за толстым стеклом аквариума, мечутся оставшиеся в живых.
Неделю возвращаешься в себя, к себе, а потом начинается ломка. Тоска по цвету и воздуху. По фантастической совместимости форм, оттенков, линий.
Уроки гармонии и перспективы нужно брать здесь. Смотри, как расходятся трамвайные пути, как желтое притягивает зеленое, как брызжет сноп света, – из-под колес, из-за угла, отовсюду.
Странно возвращаться с другой планеты. Всегда есть опасность не попасть в собственный след.
* * *
Если говорить о любви, исключительно о ней, то это, конечно, Португалия.
Возведенное в абсолют томление по чему-то такому, что не имеет точного определения, что невозможно ухватить, зафиксировать, придать законченный и упорядоченный вид. Можно, конечно, попробовать, но это будет уже не то. Томление как необходимая, важная часть целого, его невозможно изъять, иначе целое потеряет смысл. Его невозможно заменить благословенным dolce vita, в котором присутствует все, и даже более чем все, но нет той самой щемящей, берущей за горло ноты
Со временем воспоминания становятся все более совершенными, будто отшлифованными расстоянием. Тут и там выныривают драгоценные грани, новые оттенки, – без них теряет смысл все. Так текст становится бессмысленным без подтекста. Снимок – без того, кто наводит глазок камеры. Я помню серый, погруженный в толщи вод день, насквозь промокшие ноги в хлипких ботинках, я помню холодные струи, стекающие с зонта, вожделенную чашку кофе в крошечной кофейне. Я помню взгляд человека, обращенный в себя. Мелодию, проступающую (изнутри и снаружи) сквозь дождь, и исполосованное радугой небо Лиссабона.
* * *
Здесь воздух напитан солью и влагой, здесь чайки кричат как дети или обезумевшие от любовной истомы женщины. Земная твердь упирается в бесконечность Атлантики.
Неторопливая жизнь провинциального городка. Веселые автобусы увозят счастливых туристов, а они, старожилы, остаются. Взмывают над крышами, вздыхают и воркуют в дымоходах. Прекрасные, исполненные достоинства птицы.
* * *
Ночью в Байру Алту мы видели удивительных женщин. Бесстрашных. Сильных. Со взлетающими от ветра волосами, с глазами, полными жизни, смеха, огня. Это были, признаться, совершенно немолодые женщины. Если не дать себе труда восхититься смуглыми запястьями, горящими угольными глазами, откровенной сединой.
И да, их окружали мужчины. Их лица отражали и оттеняли ум и обаяние собеседниц. На них хотелось смотреть, восхищаться устройством мироздания.
Его деликатной мудростью, ее опытом, его сдержанной силой, ее утонченностью. Дистанцией между ними. Ровно настолько, сколько необходимо для поддержания огня.
* * *
Длинный, длинный, суматошный день. Вспоминаются сумки, лестницы, чемоданы, опять сумки. Хотела сфотографировать усталого мужчину за столиком в кафе, сидящую напротив него безучастную женщину, но не хватило сил и наглости. Подумалось вдруг, что эта безучастная женщина похожа на меня сегодняшнюю.
Рельсы, пересекаясь, стекают к океану. Пахнет сардинами, пережаренным маслом, субботним вечером, но и на него сил нет. Нет сил фиксировать, восторгаться, обожать, наслаждаться.
Разве что тишиной.
Скоро.
* * *
Хорошо мечтать о тишине, лежа под скошенным потолком мансарды, с окошком, которое выходит в океан, с крутой лесенкой, которая ведет к кровати, с двумя лесенками, которые ведут в дом. Эта квартира для художников, – подумалось мне. Нет, пока втаскивали имущество, мне не особо думалось, уж слишком крутые лесенки, ведущие к тишине.
Здесь можно прожить жизнь. В этой мансарде со скошенным потолком. Написать роман, черт возьми. Влюбиться. Позабыть обо всем.
Как воет океан. Воет, грохочет, обваливается.
Полчаса тишины. На этой лирической ноте можно было бы и завершить этот необыкновенный день, но тут мы стали вспоминать, ради чего, собственно, всё, весь этот длинный путь с лестницами, чемоданами и самолетами.
Неужели только ради того, чтобы лежать под скошенным потолком и слушать тишину?
* * *
Разлитая в воздухе влага как нельзя более подходит влюбленным. Здесь нужно идти, то ли держась за руки, то ли оттеняя речь нежными и неуверенными, точно маленькие запятые, касаниями.
Здесь нет напора. Ни в чем, кроме дождя, да и тот, если присмотреться, перестает быть напористым, – если войти в него плавно, то все происходящее кажется всего лишь частой сменой декораций, – вот – выдвинули голубизну, вот – натянули облако, вот – пронзили его, выпустив тысячи капель и струй, – это очень удобно, впрочем, – если нагрянет грусть, никто не заметит.
Грусть в этих местах приправлена лимонным соком, устричной едкостью, благородной сладостью мадеры.
Здесь, в этом городе, хорошо быть чуточку пьяным и влюбленным. Просто идти, просто смотреть, плескаться в вечном дожде и любви. Их хватит на всех.
Здесь нужно успевать между дождями.
Шаг влево – дождь. Вправо – ливень. В просвете – хвостик трески, стаканчик джиньи.
Ветер рвет зонт, обдает брызгами, – отовсюду, из-под колес, сверху, снизу, потоки стекают по лицу, хлещут по ногам.
И вдруг – тишина. Гигантская толща воды поглощает звуки. Там, за толстым стеклом аквариума, мечутся оставшиеся в живых.
* * *
Алфама начинается с дождя, а заканчивается океаном.
Между дождем и океаном – солнце, соленый ветер, провода, рельсы, блошиный рынок, лавочки, лавочки, лавочки. Дорога исполосована – острым ощущением счастья, воздуха, цвета, внезапной меланхолии, жгучей тоски. Чем ближе к океану, тем отчетливей проступает она, – вместе с запахом рыбы, головокружением – от рвущего одежды ветра, усталостью и осознанием предела.