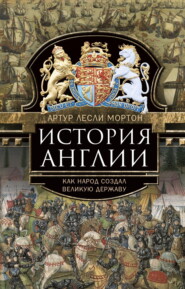скачать книгу бесплатно
4. Скандинавы
Хроника от 18 июня 793 г. повествует, что «язычники подвергли ужасному разрушению Божью церковь в Линдисфарне, прибегнув к грабежу и насилию». Эта короткая запись открывает повествование о тех бедствиях и сражениях, которые длились почти 300 лет и в течение которых была захвачена половина Англии, а скандинавы и их обычаи оставили свой неизгладимый след на этой земле.
Захватчики назывались общим именем «датчане» или «норманны», и эти два скандинавских народа были настолько родственны друг другу, а передвижения их так тесно переплетались, что не всегда можно с уверенностью сказать, с каким из них мы имеем дело. Войско их и впрямь зачастую было смешанным по составу, но датчане в основном вторглись в Англию, а норвежцы – в Ирландию и Шотландию. Хотя эти народы в некотором отношении находились на более низкой ступени развития, чем англосаксы, они обладали особым преимуществом, которое делало их опаснейшими врагами.
Ключом к разгадке превосходства скандинавов был большой железный топор, который найден в местах их погребения периода 600-х гг. При помощи железного топора они могли вырубать леса Дании и в скором времени распространиться вдоль норвежского побережья, на узкой полосе земли между морем и горами. К 700 г. эти земли, лишенные плодородия и сильно суженные, были заселены настолько плотно, насколько могли обеспечить существование поселенцев. Но топор не только позволил скандинавам расчистить леса, он дал им возможность построить более крупные и лучше приспособленные для мореходства корабли, каких никогда еще не видывал Север. На них они вскоре начали совершать далекие плавания, и следующим шагом стала колонизация незаселенных Шетландских и Фарерских островов. Первые поселенцы были мирными крестьянами, но к концу VIII в. острова эти стали использоваться для пиратских набегов.
Во время одного из таких рейдов и был разграблен Линдисфарн, но для Англии это был пока еще единичный случай. Передвижения скандинавов выглядят неясными до тех пор, пока не усвоен простой принцип, по которому они действовали. Будучи готовыми к битвам, они тем не менее искали не битв, а наживы, и их набеги были направлены в первую очередь туда, где можно было захватить богатую добычу и не встретить ожесточенного сопротивления. В 800 г. таким местом стала Ирландия, которая избежала нашествия римлян и англичан и которая обладала культурой не менее богатой и самобытной и почти настолько же беззащитной, как у перуанских инков времен Писарро. Не следует забывать, что в те давние времена Ирландия являлась главной золотодобывающей страной Западной Европы. И хотя междоусобицы среди ирландских племен случались нередко, ирландские воины не могли тягаться свирепостью и хитростью со скандинавами.
Первые годы IX в. были посвящены грабежам Ирландии. Когда страну опустошили настолько, что набеги уже не приносили захватчикам желаемой добычи, их длинные лодки устремились к югу, по направлению к великой, но неповоротливой империи Карла Великого, впадающей в безнадежную смуту. Париж был разграблен, и завоеватели заполонили обширные территории Франции. Скандинавы отваживались на еще более дерзкие морские походы, во время одного из которых в 846 г. был осажден сам Рим.
Еще до этого момента внимание датских флотилий привлекла Англия. В 838 г. большой отряд датчан был разгромлен Эгбертом, но, несмотря на поражения, каждый год на английский берег высаживались новые орды захватчиков. В 842 г. был сожжен Лондон. Захватчики провели зиму 850/51 г. на острове Танет вместо того, чтобы отплыть на родину, как это делали раньше. С этого времени набеги их становятся смелее, пока в 866 г. большое войско датчан не высадилось в Англии, всерьез намереваясь захватить ее земли и осесть на них. С военной точки зрения на стороне датчан были практически все преимущества. В Скандинавии, где шведские месторождения разрабатывались еще с доисторических времен, железа всегда было в избытке. Грабежи предыдущих поколений дали скандинавам возможность вооружиться лучшим оружием и доспехами, доступными на тот момент. У них были боевые топоры и длинные мечи, на головах – железные шлемы, а в руках – щиты, кроме того, у пиратов и профессиональных воинов нередко имелись кольчуги.
Они также разработали новые методы ведения войны и научились быстро передвигаться по морю на своих длинных многовесельных судах, каждое из которых вмещало до ста человек. По суше они перемещались на конях, которых захватывали повсюду, где только могли найти, превращаясь, таким образом, в первую в истории кавалерию. В бою они наловчились сочетать сплоченность морской команды с гибкостью варварской орды. Они также научились строить укрепленные частоколом форты, в случае поражения отступали за их прикрытие и бросали вызов преследователям.
По сравнению с ними англичане были вооружены плохо, у основной части фирда имелись только дротики и кожаные доспехи. Даже меньшие по числу дружины тэнов к тому времени стали превращаться в земледельцев и не всегда годились для долгих походов. К тому же медленно передвигающийся фирд был мало пригоден для более чем одного сражения. Пока Альфред не построил свой флот, преимущество неожиданного нападения всегда оставалось на стороне захватчиков. Военный гений Альфреда, его способность перенимать приемы врага, а затем превосходить его стала одной из главных причин поражения датчан. Другой причиной послужил неразвитый общественный строй скандинавов, что мешало им в ведении длительных крупномасштабных военных операций. Войско их имело постоянную тенденцию распадаться на отдельные части, когда встречало неожиданно решительный отпор со стороны противника, и каждый предводитель отряда уводил своих людей куда-нибудь в сторону в поиске более легкой победы.
И все же войско, высадившееся в Восточной Англии весной 866 г., выглядело действительно устрашающе. В следующем году оно двинулось на север, разбило нортумбрийцев в грандиозной битве под стенами Йорка и затем в течение трех лет завоевывало и грабило земли Мерсии и Восточной Англии, не встречая серьезного сопротивления. В начале 871 г., долго потом упоминаемого как «год сражений», датчане прошли по Нильдскому пути, как это сделали до них саксы четыре века тому назад, и основали в Рединге укрепленный лагерь, который послужил стратегической базой для нападения на Уэссекс. Потерпев поражение при Ашдауне, они укрылись от разгрома в своем лагере, и последовавшие за этим восемь сражений не дали преимуществ ни одной стороне. В конце того же года войско заключило перемирие с Альфредом, который в самом разгаре битвы сменил своего брата на троне короля. В течение следующих четырех лет вторжение проходит через новую фазу, во время которой датчане создают свои независимые королевства в Нортумбрии и Восточной Англии и делят земли между собой.
В 876 г. атаки с моря на Уэссекс возобновились, усиленные подкреплением из Скандинавии, и после двух лет упорной борьбы войско Альфреда подверглось неожиданному нападению у Чиппенхэма, после чего ему пришлось искать убежище в болотах Сомерсетшира. Ударив неожиданно, Альфред одержал решающую победу в Эдингтоне и вынудил датчан заключить мир. С этого времени Англия была разделена на две приблизительно одинаковые части: Денло – область датского права[4 - Область датского права – территория в северо-восточной части Англии, отличавшаяся особыми правовой и социальной системами, унаследованными от норвежских и датских викингов, завоевавших эти земли в IX в.], лежащую на севере и востоке, и Саксонскую Англию, расположенную к югу и западу от линии, идущей вверх по реке до ее истока и по дороге Уотлинг-стрит до Честера. Новую попытку завоевать страну, предпринятую пятнадцатью годами позже, англичане отразили еще быстрее, после чего скандинавы снова принялись совершать набеги на менее решительно защищаемую Северную Францию, где в начале следующего столетия Ролло создал герцогство Нормандию.
Культурный и материальный ущерб, нанесенный этими нашествиями, трудно переоценить. «Столь велик был упадок образованности среди англичан, – сетует Альфред, – что лишь немногие по эту сторону Хамбера, и я думаю, что и к северу от него также, могли понять требник и перевести письмо с латинского на английский. Нет, не могу припомнить, чтобы к югу от Темзы нашелся хоть один такой человек, когда я взошел на престол». Схожую картину в другой области дают нам и законы Альфреда, где размеры выплаты штрафов за различные проступки (вергельд) в среднем составляют лишь половину штрафов, выплачиваемых по законам Этельберта двумя столетиями раньше. Это явно свидетельствует о том, что страна была лишена движимого имущества. Увенчавшиеся успехом усилия Альфреда остановить этот распад даже в большей степени, чем его военные заслуги, делают Альфреда одной из величайших фигур в истории Англии.
Первостепенной задачей Альфреда являлась необходимость оградить свое королевство от вторжения в будущем. Для этой цели он построил суда, превосходящие по своим качествам датские: «Вдвое длиннее тех других… и быстроходнее и устойчивее, а также выше». Еще более важное значение имела и созданная им система укрепленных крепостей, в которых находился гарнизон хорошо обученных, профессиональных солдат, способных отражать мелкие атаки врага или же создавать боевое ядро, вокруг которого мог сплотиться фирд. Эти крепости стали первыми городами Англии, благодаря которым англичане перестали считаться чисто сельским народом. Оборонительные меры Альфреда Великого дали возможность людям жить и трудиться в мире, а поразительные восстановительные способности всех народов, занимающихся натуральным земледелием, получили возможность сыграть свою роль в истории.
Альфред побуждал приезжать в страну образованных людей из Европы и даже из Уэльса и уже в зрелом возрасте выучился сам читать и писать по-английски и по-латыни – подвиг, который Карл Великий так и не смог совершить. Он с жадностью усваивал самые передовые знания, которые давала эпоха, и если бы ему довелось жить в более просвещенное время, то он, вероятно, обладал бы подлинно научным мировоззрением. Слабый здоровьем и никогда не знавший длительного мира, он тем не менее проделал громадную работу, важность и основательность которой подтверждается долгим периодом мирного развития после его смерти. Его преемники – Эдвард, Ательстан, Эдмунд и Эдгарвсе – были талантливыми воинами и руководителями, так что период с 900 до 975 г. знаменуется отвоеванием области Денло, которая, впрочем, продолжала сохранять свой скандинавский характер, хотя и признала превосходство английских королей. Англосаксы и скандинавы были достаточно близки между собой по языку и организации, чтобы сохранять добрососедские отношения, и в X в. многие черты различий между ними постепенно стерлись.
До сих пор мы подчеркивали исключительно разрушительные аспекты датского вторжения, но их влияние на историю этим не исчерпывается. В некоторых отношениях датчане обладали более высокой культурой, чем англосаксы. Мы уже упоминали о широком использовании ими железа и о том, что они ввели в употребление в Англии большой топор. Мы видели, что ранние англосаксонские поселения были ограничены пределами густых лесов, которые покрывали самые богатые для сельского хозяйства земли. Когда «Книга Страшного суда»[5 - «Книга Страшного суда» – свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085–1086 гг. по приказу Вильгельма Завоевателя.] дает нам картину английской сельской жизни, мы узнаем, что вся страна была усеяна деревнями и городками. Большинство существующих деревень можно проследить до этого времени (в поселениях, упомянутых в «Книге Страшного суда», можно видеть Памятную табличку). Разумно предположить, что появление датского большого топора послужило решающим импульсом развитию лесного хозяйства и сделало возможным более полное использование самых богатых сельскохозяйственных угодий Англии.
Более того, по сравнению с домоседами саксами датчане были торговым и городским людом. Еще до того, как они вторглись в Англию, они уже совершали далекие морские путешествия. У людей, пересекавших Средиземное море и видевших великий Константинополь, не оставалось места суеверному страху, с которым англосаксы все еще относились к римлянам и их творениям. Датчане были как торговцами, так и пиратами, и торговля считалась среди них делом почетным. «Если купец преуспел и трижды переправился через море своими силами, тогда он отныне считается по праву достойным», – доносит до нас ранний закон (это был саксонский закон, но скандинавы ценили торговлю даже выше, чем саксонцы), напоминающий, что классы среди скандинавов, как и среди англичан, основывались скорее на богатстве и социальном положении, чем на крови или унаследованных правах. Датское нашествие привело к повсеместному строительству городов и росту торговли, и ко времени нормандского завоевания города и торговля в Англии достигли уже значительного развития.
5. Конец саксонского периода
Три поколения после смерти Альфреда Великого отчетливо демонстрируют вырождение культуры и институтов Англии. Благодаря движению к феодализму произошел практически полный распад родового строя, но английское общество казалось неспособным своими собственными силами пойти дальше определенной точки. Возможно, остановка была лишь временной, но рассуждения на эту тему бесполезны, поскольку промежуток между двумя нашествиями на Англию, сначала датчан при королях Свене и Кнуде, а затем нормандцев, оказался слишком короток, чтобы дать стране время оправиться.
На всем протяжении X в. объединение Англии в единое королевство идет рука об руку с созданием шайр (графств), нередко возникающих вокруг построенных Альфредом или датчанами укрепленных городов. Если более мелкими ранними королевствами могли управлять из единого центра, то административного аппарата, способного охватить всю страну, не существовало, и, хотя шериф (шайра-рив) теоретически нес ответственность перед королем за управление шайрой, фактический надзор из центра на практике был весьма незначительным. Над шерифом стоял олдермен, который управлял группой шайр, нередко примерно соответствовавших какому-нибудь из прежних королевств. И если шериф продолжал оставаться чиновником и впоследствии стал главным звеном в государственной организации, то олдермен, подобно европейскому графу или герцогу, вскоре превратился в слабо зависимого от центра местного магната. Власть олдермена особенно возросла во время непродолжительного существования империи Кнуда, когда Англия являлась лишь частью гораздо большего государства. Усиление власти олдермена совпало с принятием им датского титула графа.
В сфере правосудия также были достигнуты значительные успехи в направлении феодализма, путем делегирования королевских судебных прав влиятельным лицам. Прежняя система судов шайры, сотни и тауншипа действовала успешно только до тех пор, пока какой-нибудь землевладелец данного округа не оказывался настолько могущественным, чтобы оспорить их решения. С появлением влиятельных полуфеодальных лордов авторитет традиционных судов ослаб, и они были дополнены и частично вытеснены предоставлением этим самым лордам права держать собственные суды. Таких прав настойчиво добивались для получения прибыли, которую приносили штрафы. Новый суд по-прежнему использовал старые суровые методы (ордалии) испытания огнем или водой наряду с более новым, но не менее уважаемым методом компургии, или очищения клятвой, в соответствии с которым обвиняемый должен был привести на суд несколько своих односельчан, в количестве, зависимом от тяжести предъявленного обвинения, готовых клятвенно удостоверить суд в его невиновности. Частные суды, всегда являвшиеся одним из наиболее характерных признаков феодального строя, прочно укоренились в Англии к моменту нормандского завоевания.
Другая характерная особенность феодального поместья – это закрепощение крестьян, что становится обычным явлением, за исключением области Денло Данелаг. Датское вторжение имело весьма курьезные двойственные последствия. В самой области датского права вторжение замедлило процесс закрепощения земледельца, тогда как в саксонской части Англии оно его ускорило. Свидетельства «Коллоквиума Эльфрика» (Alfrec’s Colloquy) – серии диалогов, написанных незадолго до 1000 г. в виде учебного пособия по изучению латыни для учеников монастырских школ Винчестера, – поражают своим предположением, что типичный земледелец не был в то время свободным.
«Скажи, землепашец, как ты работаешь?» – спрашивает учитель.
«О, сударь, я тружусь не покладая рук. Встаю с рассветом, выгоняю волов в поле и запрягаю их в плуг; как ни сурова зима, я не смею остаться дома из боязни перед моим господином; закрепив лемех и резак плуга, каждый день я должен вспахать не меньше акра, а то и более».
«А что еще ты должен сделать в течение дня?»
«Дел очень много. Надо наполнить кормушки волов, напоить их и убрать навоз».
«О, тяжела твоя работа».
«Да, тяжела, ибо я несвободен».
Термины «фримен» (свободный) и «серв» (крепостной) могут привести в замешательство современного человека, поскольку в феодальную эпоху они употреблялись в своеобразном значении. Их можно понять только в связи с владением землей. Человек, не владеющий землей, не был ни свободным, ни несвободным, он не принимался в расчет. (Он, конечно, мог бы быть рабом, но тогда он считался бы своего рода собственностью, а не личностью.) Свободным считался тот, кто имел землю на условиях несения военной службы или какой-либо другой почетной обязанности, или же тот, кто платил денежную ренту. Сервом, или вилланом, считался тот, кто держал землю на условиях выполнения сельскохозяйственных работ на земле своего господина. Он был прикреплен к своему наделу, тогда как фримен мог оставить свою землю и перебраться в другое место или даже в некоторых случаях «забрать свою землю», как тогда говорилось, и напроситься к другому господину. Серв пользовался некоторыми правами, четко определенными обычаем, даже если не всегда юридически защищенными. Одним из следствий нормандского завоевания являлось то, что линия раздела между сервом и фрименом – очень слабо намеченная в саксонской Англии – проводилась теперь по более высокой социальной шкале, и все, кто оказывался ниже этой линии, низводились до самого низкого уровня рабства.
В конце X в. возобновляются набеги скандинавов на Англию под предводительством короля Свена, которому удалось объединить Данию и Норвегию. Предшествующий период в значительной степени заполняют набеги на земли Северной Франции, но после установления сильного скандинавского герцогства в Нормандии центр их нападений перемещается. Богатство и упадок Англии, о котором скандинавы были хорошо осведомлены, снова делают ее самым прибыльным объектом их посягательства. Эти новые вторжения были организованы по хитроумному коммерческому плану: предварительный набег сопровождался требованием уплаты денег в качестве условия отвода войск. Через пару лет вся операция повторялась.
Такая выплата датских денег (Danegeld) производилась в период между 991 и 1014 гг. семь раз и составила общую сумму 158 тысяч фунтов серебром, что в современном эквиваленте составляет не менее 10 миллионов фунтов стерлингов – гигантская сумма для того времени. Когда Кнуд в 1018 г. стал королем и выдал своим воинам денежное вознаграждение, из англичан были вытянуты последние датские деньги в размере 82 500 фунтов. Из этих поборов и выросло первое постоянное налогообложение. В правление Кнуда и нормандских королей налог этот взимался регулярно и послужил основой налога на имущество, составлявшего важную статью доходов всех королей вплоть до эпохи Стюартов. В социальном отношении этот налог также имел ощутимые последствия, поскольку он тяжким бременем лег на плечи земледельца, таким образом еще более ускорив процесс его закрепощения. Соответственно усилилась и власть местных магнатов, которые несли ответственность за сбор налога и использовали эту должность в качестве дополнительного рычага для утверждения своей власти как хозяев земли над теми, кто ее обрабатывал. С этого времени феодальное изречение «нет человека без хозяина» и «нет земли без хозяина» может быть полностью применено к Англии.
Другой характерной чертой этого периода нашествий стало лидерство лондонских горожан в организации сопротивления врагу. Когда центральное правительство Этельреда[6 - Этельред II Неразумный – король Англии из Уэссекской династии. Слабый правитель, при котором викинги захватили значительную часть Англии и Этельред в 1013 г. был вынужден бежать.] бесславно пало, Лондон продолжал стоять неколебимо. К тому времени город становится уже значительно больше, чем все другие английские города, и начинает появляться в истории практически как независимая политическая единица. Значение его стало настолько велико, что в 1016 г. ополчение Мерсии отказалось выступить против датчан, «пока они не получат поддержку горожан Лондона». Год за годом Лондон отражал атаки датчан от своих стен и сдался только тогда, когда сопротивление в других местах практически прекратилось. О богатстве Лондона можно судить по тому факту, что при выплате большой суммы датских денег в 1018 г. Лондону пришлось отдать сумму в 10 500 фунтов, то есть более одной восьмой всей суммы, заплаченной всей страной.
Когда в 1018 г. сын Свена Кнуд стал королем Англии, а также Норвегии и Дании, на какое-то время можно было подумать, что будущее Англии связано со Скандинавскими странами, а не с Францией. Однако общественный строй северных народов оставался по-прежнему в значительной степени родовым и не подходящим для создания устойчивой империи. Достигнутое на время политическое объединение этих стран слишком многим обязано было индивидуальным качествам короля и закончилось после его смерти. И только объединение мощи северян с феодальными институтами Франции смогло способствовать развитию постоянной государственной власти.
Дальнейшим шагом вперед при правлении Кнуда стало создание небольшой постоянной армии хорошо обученных профессиональных солдат – хускерлов, которым выплачивалось жалованье. Для феодализма характерна периодически повторяющаяся тенденция превращения феодального и полуфеодального класса воинов (рыцарей и тэнов) в крупных землевладельцев, которые со все большей неохотой несут военную службу. Создание Кнудом войска хускерлов послужило, по существу, сходной заменой феодального рыцаря профессиональным наемником во время Столетней войны. Следует также отметить, что период правления Кнуда Великого знаменателен усилением дома Годвинов[7 - Династия Годвинсонов (англ. House of Godwin) – англосаксонская семья, одна из ведущих дворянских семей в Англии за последние 50 лет до нормандского завоевания.], которые поднялись из безызвестности к практически безраздельной власти над всей Англией за пределами Денло.
После смерти Кнуда его сыновья не могли удержать в руках распадающуюся империю, и семейству Годвинов без труда удалось восстановить на престоле старую англосаксонскую линию. Новый король Эдуард Исповедник, проведший юность изгнанником в Нормандии, был человеком набожным и слабоумным. Возвратившись, он привез с собой целую свиту нормандских монахов и знати, которым роздал лучшие и богатейшие епархии и земли. История его правления представляет собой непрерывную борьбу между нормандским влиянием при дворе и властью Годвинов. Распространением нормандского влияния в Англии и объясняется в значительной степени та легкость, с которой им удалось завоевать ее.
Со временем Годвины одержали верх и установили над королем полный контроль, отчасти подобный тому, который Капетинги осуществляли над потомками Карла Великого во Франции. Вся Англия теперь была разделена на шесть больших графств, три из которых принадлежали Годвинам. Когда в январе 1066 г. Эдвард умер, уитенагемот, или «совет мудрецов», – собрание, некоторыми чертами схожее с тевтонским собранием свободных граждан, а еще более с феодальным королевским советом, – провозгласил королем Гарольда, старшего сына Годвина. Вильгельм, герцог Нормандский, также предъявлял свои права на трон и начал собирать армию, дабы добиться выполнения своих требований.
Покорение Англии нормандцами можно рассматривать одновременно как последнее нашествие скандинавов и как первый крестовый поход. Хотя Вильгельм и был феодальным князем, армия его не походила на феодальную, поскольку состояла из людей, набранных со всех краев и привлеченных обещаниями земли и добычи. Он предусмотрительно обезопасил себя продуманным подбором союзников, заручившись также поддержкой папы римского, что позже послужило причиной многочисленных претензий и разногласий. Армия Вильгельма была невелика – вероятно, около 12 тысяч, – но была обучена новым приемам ведения войны, неизвестным в Англии. Англичане научились у датчан использовать лошадей для быстрого передвижения войск с места на место, но продолжали сражаться пешими, тесно сомкнутой массой под прикрытием традиционной «стены щитов». Главным оружием им служил боевой топор. Нормандцы применяли искусное сочетание тяжелых конников в доспехах и стрелков из арбалетов, что позволяло разбить ряды противника еще издали до начала решающей атаки. Как только стена щитов была пробита, конница бросалась вперед, не давая преследуемому врагу ни малейшей возможности исправить положение. В этом была причина победы нормандцев с военной точки зрения. Политическая причина заключалась в обладании им твердой властью над своими вассалами, тогда как эрлы Мерсии и Нортумбрии оказывали Гарольду открытое неповиновение.
Все лето 1066 г. Гарольд прождал в Суссексе высадки нормандцев. К началу сентября терпение его воинов иссякло, и они стали требовать, чтобы их распустили по домам. Через несколько дней до Гарольда дошло известие, что его тезка, норвежский король, высадился на севере и захватил Йорк. Со своими хускерлами Гарольд спешно устремился на север и 25 сентября наголову разбил захватчиков у Стэмфорд-Бридж. 1 октября ему донесли о высадке Вильгельма в Певенси. Спустя неделю он вернулся в Лондон, где пробыл несколько дней в ожидании сбора ополчения, после чего двинулся к югу и расположился лагерем на меловом холме у Баттла (Баттл-Хилл), откуда виден был лагерь Вильгельма. С тактической точки зрения быстрота и решительность передвижения Гарольда оказались превосходными, а его хускерлы показали себя слаженной боевой машиной. Но стратегически благоразумнее было бы оставаться в Лондоне. К сожалению, только часть фирда успела собрать силы, а хускерлы, единственные, кто мог противостоять кавалерии нормандцев, были измотаны тяжелой победой и двумя маршами, почти не имеющими себе равных в истории того времени.
Однако в любом случае новые методы ведения войны делали победу нормандцев почти неизбежной, и одной битвы оказалось достаточно, чтобы определить судьбу Англии на много веков. Хроника описывает эту битву в словах, ставших формулой, которая почти обязательна при описании сражений английских королей и краткость которой лишь подчеркивает их решительность:
«Весть эта дошла до короля Гарольда, и он созвал тогда большое войско и двинулся к Хор-Эпл-Три, а Вильгельм выступил против него неожиданно, не дав собрать своих людей. Однако король храбро бился с воинами, что пошли за ним, и много людей полегло и с той и с другой стороны. Пал король Гарольд и его братья, эрлы Леофвин и Гирт, и еще много добрых мужей, и французы захватили это место жестокой битвы».
Глава III
Феодальная англия
1. Нормандское завоевание
В битве при Сенлаке[8 - Это название гораздо более позднего времени. Дело в том, что место битвы Гарольда тогда не имело конкретного названия.] Вильгельм сломил силу Годвинсонов и открыл для вторжения всю Англию к югу от Темзы. Центральные графства и Север все еще оставались непокоренными, а Лондон и на этот раз образовал центр сопротивления, вокруг которого постепенно стали собираться войска Эдвина и Моркара, эрлов Мерсии и Нортумбрии. Армия Вильгельма была недостаточно велика для прямого нападения на Лондон. Вместо этого он совершил блестящий обходной марш, переправился через Темзу выше Лондона, опустошая всю местность на своем пути, и в конце концов отрезал город от Севера, лишив его всякой надежды на подкрепление.
Лондон сдался, поспешно созванный уитенагемот провозгласил Вильгельма королем, после чего на Рождество он был коронован в Вестминстерском аббатстве. Земли всех тех, кто оказывал поддержку Гарольду или принимал участие в битве при Сенлаке, были конфискованы и поделены между нормандскими соратниками Вильгельма. Остальная часть Англии, признавшая Вильгельма королем, была оставлена нетронутой. К 1069 г. Вильгельм был готов к следующему этапу завоевания, когда Мерсия и Нортумбрия подняли мятеж и получили поддержку короля Дании.
После похода, в котором военный талант Вильгельма проявился в полной силе, союз этот был разгромлен. Завоеватель принял меры для предотвращения подобных восстаний в будущем с такой жестокостью, перед которой меркла свирепость скандинавов. Большая часть Йоркшира и Дарема была превращена в пустыню и в течение нескольких поколений оставалась почти безлюдной. И только в XII в. эти области ожили по-настоящему, когда монахи Цистерцианского ордена превратили склоны Пеннинского хребта в обширные пастбища для овец. Над развалинами сожженных деревень Севера вознесся грандиозный Даремский замок, как бы утверждающий незыблемость нового порядка. За окончательным покорением страны последовали новые конфискации земель и новое распределение их между нормандцами.
Именно с этого момента можно считать, что феодализм в Англии утвердился окончательно. Мы видели, как в таун-шипах Англии постепенно создавалась экономическая база феодализма и как ее политический строй начал принимать феодальные формы еще до нашествия нормандцев. Теперь создание политической надстройки в соответствии с экономическим базисом было завершено с жесткостью и непреклонностью нормандцев. За какие-нибудь несколько лет все земли страны перешли из рук их прежних владельцев в руки Вильгельма Завоевателя.
Неотъемлемой политической особенностью феодального строя является делегирование власти сверху вниз, при этом вся власть опирается на земельную собственность. Король был единым и безраздельным собственником всех земель, он мог жаловать их своим главным арендаторам в обмен за несение военных и прочих служб, а также за уплату некоторых установленных повинностей. Вместе с землей жаловалось также политическое право управлять людьми, обрабатывавшими землю: право вершить над ними суд, взимать налоги и требовать выполнения повинностей. В отношении короля самая важная обязанность его вассалов заключалась в том, чтобы следовать за королем на войну, и вся страна делилась на округа, известные под названием «рыцарских гонораров»[9 - В феодальной англо-нормандской Англии и Ирландии гонорар рыцаря представлял собой единицу измерения земли, которая считалась достаточной для его поддержки.] и приблизительно соответствующие прежним владениям тэнов. Каждому из таких округов вменялось в обязанность снаряжать и содержать для армии одного тяжеловооруженного всадника.
Поскольку Англия была покорена за сравнительно недолгий период и политические институты феодализма умышленно насаждались сверху, эта система получила здесь более законченное выражение, чем в большинстве других стран. Повсюду собственность короля на всю землю являлась всего лишь фикцией. Здесь же он владел ею на деле и жаловал ее своим вассалам на чрезвычайно выгодных для себя условиях. Как говорилось в летописи, «король отдавал землю в аренду как можно за более высокую плату; потом приходил кто-нибудь и предлагал больше, чем давал тот, другой, и король оставлял землю тому, кто давал больше… И он не взирал на то, какими греховными способами шерифы взимали ее с бедняков и как много неправды они вершили; но чем больше говорилось о справедливом законе, тем больше вершилось незаконных деяний».
Феодализм теоретически всегда был своего рода договором короля со своими вассалами, но в Англии этот договор более соответствовал действительности, чем в какой-либо другой стране.
Та завершенность, которую приняли формы феодализма в Англии, не замедлила создать в стране предпосылки для государственной организации, переступающей рамки феодальной системы. Она базировалась на могуществе Вильгельма как военного лидера победоносной армии и на до-нормандской организации шайров у саксов. Вильгельм имел возможность раздавать своим сторонникам земли в разрозненных частях страны. На деле он вынужден был так поступать, поскольку страна покорялась по частям, и по мере того, как каждая новая область попадала под его власть, он давал соратникам то, что они считали частью должного вознаграждения за свои труды. По этой причине ни один барон в Англии, каким бы большим количеством земли в целом он ни владел, не имел возможности сконцентрировать крупные военные силы в каком-то одном месте. Более того, во владении самого короля оставалось еще так много земли, что он был несравненно сильнее любого барона или любого возможного объединения баронов. Помимо сотен своих поместий Вильгельм присвоил себе все леса, которые в то время занимали третью часть страны. Вряд ли он поступил так по той причине, что «высоких ланей он любил, как если бы был их отцом». Гораздо вероятнее, что он осознавал огромные возможности развития этих еще неосвоенных пространств.
За исключением Честера и Шрусбери, которые предназначались для сдерживания Уэльса, а также занимающего такое же положение по отношению к Шотландии графства Дарем, находящегося под властью князя-епископа, в Англии не было допущено возникновения крупных княжеств, владельцы которых могли стать полунезависимыми феодальными князьями, как это произошло со многими представителями феодальной знати во Франции. Вследствие чего шериф, представитель центральной власти в каждом из графств, обладал большей силой, чем любой барон в своих владениях. А поскольку не возникало необходимости чрезмерно усиливать власть шерифов, дабы позволить им оказывать давление на местную знать, не возникало и опасности того, что шерифы, в свою очередь, смогут стать независимыми по отношению к короне.
Развитие феодализма в Англии, таким образом, является достаточно уникальным в европейской истории. Изначально государственная власть здесь была более сильной, а влияние феодальной знати более слабым. Междоусобные войны среди представителей знати были скорее исключением, чем правилом, и личные войска и замки находились под ревностным наблюдением короля и запрещались, насколько это было возможно. Несомненно, что действия королевских приспешников жестоко эксплуатировали массы вилланов и жизнь которых была крайне тяжела. Однако королевские поборы были до определенной степени фиксированными и регулярными, а наиболее жестокие из них ограничивались законом.
Имеются также некоторые свидетельства тому, что английский народ взирал на власть короля как на защиту от своих непосредственных господ – лордов. Когда в 1075 г. бароны, недовольные притеснениями короля, подняли мятеж, Вильгельму удалось созвать ополчение, чтобы его подавить. Жестокость, сопровождавшая завоевание, вскоре была забыта крестьянами, которые за долгие годы датских нашествий привыкли к завоеванию и грабежам и которые предпочитали суровую, но твердую власть Вильгельма феодальной анархии, из-за которой они страдали больше всего. Совершенно очевидно, что на практике присутствие чужеземного лорда в поместье было для земледельца куда более тягостно, чем присутствие чужеземца-короля в Вестминстере. И хотя главным противоречием феодального общества является противоречие между крестьянами в целом и их эксплуататорами, включая сюда как баронов, так и короля, были времена, когда король мог использовать крестьянские массы в момент кризиса, чтобы противостоять мятежным баронам, угрожавшим его положению. При правлении Генриха I, когда восставшие бароны попытались посадить на трон его брата Роберта, герцога Нормандского, Генрих вторгся в Нормандию с армией, состоящей в значительной части из саксов, и разбил Роберта и его феодальные войска в битве при Теншбре в 1106 г.
Полуторавековой период между нормандским завоеванием и Великой хартией стал периодом, когда феодализм в Англии существовал в своей наиболее завершенной форме. Однако было бы ошибочно считать, что в эти годы ничего не менялось. Устойчивое представление о Средневековье как о периоде стабильности или едва ощутимых изменений крайне далеко от истины, поскольку не только каждое столетие, но и каждое последующее поколение привносило в жизнь свои характерные особенности и свои значимые изменения. И нельзя, указав пальцем на какую-нибудь дату, сказать: «В это время феодализм в Англии существовал в абсолютной и полной форме».
Весь этот период отмечен непрестанной борьбой между централизованной властью трона и феодальными устремлениями к децентрализации. И хотя основным направлением развития являлось усиление центральной власти, эта власть распространялась в рамках феодальных институтов, определяющих ее характер и ограничивающих ее. Некоторые из действующих сил являлись общими силами в рамках исторических условий, присущими для всей Европы, другие же возникли из особых условий, созданных пережитками дофеодальных саксонских институтов, а также из особенностей географического положения Англии. Теперь нам предстоит проследить ход этой борьбы в истории того времени и наблюдать возникновение и развитие новых классовых групп как на местном, так и национальном уровне.
2. Социальная структура Англии времен «Книги Страшного суда»
Спустя двадцать лет после завоевания Вильгельм отправил почти во все города, деревни и деревушки Англии специальных посланцев, уполномоченных созвать всех влиятельных людей каждой общины с тем, чтобы выслушать их и составить подробное описание экономической жизни страны. Задавались самые разные вопросы: сколько земли? Кто ею владеет? Сколько она дает дохода? Сколько плугов? Сколько нанимателей? Сколько рогатого скота, овец, свиней? Перепись эта была крайне непопулярной. «Стыдно даже об этом говорить, но он не счел за стыд это делать», – возмущенно сетует монах-летописец. Тем не менее ничто с такой убедительностью не свидетельствует о полнейшем покорении страны и о могуществе Вильгельма, как составление «Книги Страшного суда» всего через двадцать лет после сражения при Сенлаке. Ни одна страна не знала ничего подобного. Такой переписи одинаково невозможно было бы провести как в Англии саксонского периода, так и в феодальной Франции, и тем не менее у нас нет ни малейшего основания предполагать, что мероприятие это встретило сколь-либо заметное сопротивление со стороны даже самых могущественных баронов.
Перепись преследовала две цели: во-первых, получить сведения, необходимые для сбора гельда или поимущественного налога, и, во-вторых, предоставить королю подробную информацию о размерах и распределении богатств, земель и доходов его вассалов. Для истории этот документ представляет еще большую ценность, поскольку дает нам исчерпывающую, если и не абсолютно точную, картину социальной структуры Англии во время его составления. Сельскохозяйственной единицей экономики служило поместье (манор), наложенное на более ранний тауншип. Не стоит забывать, что страна в то время была еще почти полностью сельскохозяйственной. Некоторыми из этих маноров владел непосредственно король; остальные он даровал своим многочисленным мирским и церковным вассалам. Те, в свою очередь, имели некоторое число субвассалов, которые и являлись фактическими держателями поместий. Каждая деревня, даже самая маленькая и отдаленная, должна была вписаться в эту схему социального устройства, и все общество было разделено на ряд групп, поднимающихся шаг за шагом от серва на самом низу до самой верхушки – короля.
«Книга Страшного суда» подразделяла земледельцев на социальные группы и даже приводила их численность, так что у нас есть возможность привести приблизительные статистические данные о населении, принимая во внимание, что речь идет только о взрослых мужчинах, которые являлись фактическими держателями арендованной земли. Результаты можно представить в следующей таблице:
Увеличивая эти цифры в пять раз, чтобы получить среднюю численность крестьянских семей, и принимая в расчет те группы, которые остались невключенными (лорды и их непосредственные вассалы, управляющие манора, священники, монахи и монахини, купцы и ремесленники, безземельные наемные работники и отдельные земледельцы, избежавшие внимания королевских посланцев), мы получаем приблизительную численность всего населения 1,75—2 миллиона человек.
Социальные группы, учтенные в переписи, распределялись по различным частям страны весьма неравномерно. Больше всего рабов было на юго-западе, где их процент от общего населения составлял 24 в Глостершире, в Корнуэлле и Гемпшире – 21, а в Шропшире – 17. В Линкольне, Йоркшире и Хантингдоне о них не упоминается вовсе, в Восточной Англии или восточных центральных графствах их насчитывалось крайне мало. Бордарии и коттарии распределялись пропорционально, только некоторые графства имели более 40 и менее 20 процентов этой группы населения. Вилланы также размещались по стране равномерно, не считая только Восточной Англии и Линкольна, где было много свободных арендаторов, а также Эссекса и Гемпшира, где особенно многочисленны были бордарии и коттарии. Свободные арендаторы встречались только на востоке и в восточных центральных графствах, старой территории Денло. В Линкольне они составляли 45 процентов всего населения, в Суффолке – 40 процентов и в Норфолке – 32 процента. Если в Ноттингеме, Лейстере и Нортгемптоне их проживало внушительное число, то они почти совсем не встречались в остальных графствах. Для удобства близкая к ним социальная группа сокменов также причислялась к свободным.
Рассмотреть эти социальные группы по отдельности и проследить, как изменялась их судьба в последующие поколения, будет, пожалуй, наиболее верный способ изучения социальной истории того периода.
Рабы во времена составления «Книги Страшного суда» становились быстро исчезающей группой. В основном это была домашняя прислуга или пастухи и пахари на господской земле. Лорды считали, что экономически выгоднее нанимать своих личных работников и обрабатывать домениальные земли подневольным трудом сервов. Приблизительно около 1200 г. рабы исчезают, полностью поглощаясь более высокими по положению группами вилланов и коттариев.
Выше уже упоминалось о бордариях и коттариях, которые, по-видимому, были людьми одной и той же группы, включенными в списки в различных частях страны под разными именами. Они держали небольшие наделы, не входившие в общую систему общинных полей. Хотя большинство из них были крепостными, некоторые относились к разряду свободных арендаторов, и, когда в XIV в. началась волна раскрепощения, эта группа стремилась освободиться быстрее, чем вилланы, которые были слишком тесно связаны с хозяйством манора. Многие из тех, кто владел каким-нибудь ремеслом, платили оброки продуктами своего производства – холстами, кузнечными или столярными изделиями, вместо работы на господской земле. Вполне резонно, что положение ремесленников считалось менее рабским, поскольку они работали самолично, а не под надзором управляющих манора.
Вилланы, держатели наделов в общинных полях размером от 15 до 30 акров, являлись тем стержнем, вокруг которого вращалась вся жизнь манора. После нормандского завоевания их повинности были четко регламентированы и зачастую увеличены. Эти повинности делились на два вида: барщина и благотворительная работа[10 - Благотворительная работа – усадебная обязанность выполнять такие сезонные работы, как пахота и уборка урожая. Первоначальное значение этого слова было «одолжение», но позже выполнение таких работ стало обязательным.]. Барщина выполнялась в течение определенного числа дней каждую неделю – обычно в течение трех дней. Благотворительную повинность могли потребовать в любое время. Она считалась наиболее тягостной из двух, и от нее труднее было освободиться, поскольку отрабатывать ее приходилось в самый разгар уборки урожая или стрижки овец, когда труд виллана был необходим как в господском поместье, так и в его собственном.
Ясно, что при таких тяжких повинностях виллана основную часть работ в его хозяйстве должны были выполнять члены семьи – женщины и дети.
Между вилланами и коттариями существовала тесная связь. Наделами коттариев зачастую владели члены семей вилланов, у которых не имелось своей доли в общинных полях, в то время как наделы коттариев образовывали нечто вроде резерва, из которого можно было пополнить владения вилланов, если они по какой-то причине пустели.
С течением времени эти две группы все более и более объединялись с точки зрения закона под общим именем вилланов или сервов.
Как и рабы, группа свободных людей времен «Книги Страшного суда» постепенно становилась исчезающей. Уже в 1086 г. многих из тех, кто были свободными до нормандского завоевания, стали причислять к несвободным в результате изменения отношения к земельной собственности. Общая тенденция того времени заключалась в том, чтобы считать всякого крестьянина крепостным, если только он не предоставлял неопровержимых доказательств обратного. После составления «Книги Страшного суда» исчезновение свободных крестьян ускорилось, и когда в Англии снова появляется значительное количество свободных держателей небольших земельных участков, то это уже, как правило, не прямые потомки libri homines времен «Книги Страшного суда», а вилланы, которым удалось добиться определенной степени свободы.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: