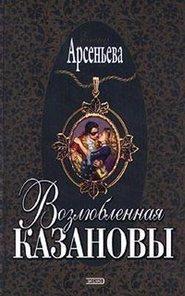скачать книгу бесплатно
Девушка тоже улыбнулась. И улыбка Софии отразилась в светлом зеркале ее лица.
Лизой вдруг овладело такое облегчение, что силы вновь покинули ее, и она почти упала на скамью. София поспешно поднесла к ее губам кружку с козьим молоком, а мужчина, мрачно молчавший, повернулся к девушке и обменялся с нею несколькими греческими словами, которые были переведены Лизе лишь через несколько дней. Впрочем, если бы она сразу услышала их по-русски, они все равно мало что объяснили бы ей.
– Ты можешь накликать беду на всех нас, Хлоя! – сказал крестьянин с тревогою, на что девушка твердо ответила ему:
– Отец, госпожа никогда не простила бы мне, что я оставила в беде ее соотечественницу. Будем молить господа, чтобы нам не пришлось в этом раскаиваться…
* * *
Наступила ночь, предвестница близкой свободы. Все четверо спустились на берег. Спиридон (так звали черноглазого крестьянина, оказавшегося мужем Софии и отцом Хлои) нес какую-то тяжесть. София подожгла охапку хвороста, приготовленного днем. Греки напряженно всматривались в тяжело вздыхавшую тьму, которая была морем и слившимся с ним небом.
Лиза, одетая в такую же домотканую юбку и рубаху, закутанная в такой же платок, какие носили София и Хлоя, тоже уставилась вдаль, не ведая, что должно явиться оттуда, но всем сердцем готовая к новым переменам в своей судьбе.
Вдруг Хлоя тихонько ахнула, вцепившись в Лизину руку. В следующий миг та и сама увидела колеблющийся огонек, услышала осторожные шлепки весел по воде.
– Это он! – промолвил Спиридон с облегчением, бросаясь вперед, чтобы помочь лодке пристать.
Лицо человека, сидевшего на веслах, было вовсе неразличимо. Хлоя, Спиридон и София наперебой начали ему объяснять что-то по-гречески, и Лиза сразу поняла, что речь снова пошла о ней, злосчастной. Ее пронизал мгновенный ужас оттого, что, возможно, этот человек не пожелает взять ее с собою. Но он, не проронив ни слова в ответ, поднял со дна лодки свой фонарь и поднес к самому лицу Лизы, одновременно удерживая ее другой рукою, так что она не могла ни отшатнуться, ни отвернуться и только покорно смотрела на огонь широко раскрытыми глазами, из которых вдруг медленно заструились непрошеные слезы.
Наконец незнакомец опустил фонарь, что-то буркнув. Хлоя издала радостное восклицание, Спиридон начал с усилием втаскивать в лодку свою ношу, а Лиза все еще стояла, слепо, как сова, внезапно попавшая на свет, уставясь вперед и понимая лишь одно – он согласен. К добру, к худу ли, но он согласен!
Лодка отошла от берега. Хлоя махала двум темным неподвижным фигурам до тех пор, пока суденышко не скользнуло в узкий проход меж утесов и свет костров не исчез, будто по волшебству. Берег скрылся в ночи, и Хлоя тихонько заплакала. Ни Лиза, ни гребец не проронили ни слова, да и какие слова могли утешить эту девушку, которая только что простилась с родными. Быть может, навеки! Никто ничего не говорил, не объяснял Лизе, но ей многое стало понятно по надрыву прощальных слов, по обреченности последних объятий, по этим безнадежным, тихим рыданиям в ночи. О, Лиза хорошо знала, что такие тихие слезы самые безнадежные, ибо значат одно: «Никогда более! Никогда!..»
Она не осмелилась нарушить печаль Хлои, так что все трое оставались погруженными в глубокое молчание до тех пор, пока среди сырой шевелящейся тьмы не вспыхнул сигнальный огонь и лодка не подошла к фелуке, покачивавшейся недалеко от берега. Путешественники вскарабкались по веревочной лестнице, прежде передав невидимым матросам свой груз, оказавшийся железным сундучком. Небольшим, но очень тяжелым.
– Господи Иисусе! – раздался испуганный женский голос, едва они ступили на палубу. – Почему вас трое?! Кто это?!
Лиза обреченно вздохнула, представив, что сейчас сызнова начнется запальчивое и многословное обсуждение. Но тут же замерла, будто пораженная молнией: женщина говорила по-русски! И не с натугою, не коверкая слова, как Спиридон и Хлоя, а живым, свободным русским языком, с протяжным московским аканьем выпевая слова!
– Господи Иисусе! – невольно повторила Лиза.
Тут человек, сидевший прежде на веслах, шагнул вперед и проговорил:
– Отложим разговор до утра, Яганна Стефановна. Поднимется ее сиятельство, и мы с Хлоей все объясним.
– Но, граф Петр Федорович… – попыталась не согласиться женщина, однако ее перебили куда более властно, чем в первый раз:
– Нижайше прошу вас идти спать, фрау Шмидт! Вы изрядно переволновались, да и у нас от усталости руки-ноги отнимаются, ночка выдалась тяжелехонькая!
Яганна Стефановна прерывисто вздохнула, словно проглотила готовые сорваться с уст возражения, и сухо проговорила:
– Хорошо, сударь мой. Но имейте в виду… – Голос возвысился, задрожал, и Лизе показалось, что там, под покровом ночи, она сердито грозит всем присутствующим пальцем. – Имейте в виду, что я положу эту… особу, хм… рядом с собою и глаз с нее не спущу всю ночь, так и знайте!
– Сделайте милость! – усмехнулся гребец, которого титуловали графом, и проводил женщин в тесную кормовую каютку, где они улеглись почти бок о бок на подушках, набросанных прямо на пол и застланных какими-то покрывалами. Отчего-то Лизе вспомнилось, как она впервые вошла в зал гарема в Хатырша-Сарае и увидела несчетное множество подушек и подушечек, набросанных там и сям…
Это было ее последней мыслью. Может быть, Яганна Стефановна и впрямь не сводила с нее глаз всю ночь, но Лиза о том ничего не знала. Она провалилась в сон.
* * *
Cолнце стояло уже высоко, и лучи его проникли в каютку, когда Лиза наконец-то пробудилась. Вокруг было пусто. Она долго, с наслаждением потягивалась, приходя в себя после крепкого сна. Голова была на диво ясной, а кувшин с пресною водою и медный тазик для умывания, поставленные около изголовья, и вовсе подняли ей настроение. Напившись, умылась и, обтеревшись краешком своего покрывала, смоченного в воде, чувствуя себя свежей и бодрой, выбралась из тесной каюты.
На узкой палубе властвовал ветер. Он туго выгнул парус, стремительно гоня фелуку по волнам, и три женщины, сидевшие у борта, были заняты даже не созерцанием бескрайней лазурной глади, а попытками поймать свои разлетающиеся покрывала. Высокий, худой, будто камышинка, человек силился читать книгу, страницы которой теребил ветер. Книга то открывалась, то закрывалась совсем в другом месте, и человек растерянно вглядывался в строчки. Он был до того смешон и растерян, что дамы только и твердили:
– Герр Дитцель! Ох, герр Дитцель! – и помирали со смеху.
Все они были одеты, как и Лиза, по-гречески, но даже это одинаковое платье не могло скрыть удивительных различий меж ними.
Хлоя, украдкою улыбнувшаяся Лизе, выглядела так, словно и родилась в этой юбке и рубашке. При дневном свете она была еще милее, чем вчера вечером! Низенькая седая толстушка лет пятидесяти, с добродушным пухленьким личиком, которому она тщилась придать выражение суровой надменности, смотрелась ряженой. Лиза поняла, что это и есть Яганна Стефановна, которая так неприветливо встретила ее вчера. Тем более что толстушка суетливо подскочила к ней и ткнула в бок железным перстом, прошипев:
– Чего уставилась! Кланяйся, деревенщина неотесанная!
Поклон, очевидно, предназначался третьей женщине, сидевшей у борта и пристально смотревшей на Лизу. У нее были округлые черные брови, высокий лоб и прямой нос над своевольными, поджатыми губами маленького рта. Красота ее состояла в больших черных глазах под бледными, слегка нависшими веками; глаза смотрели на Лизу с таким проницательным выражением, словно бы эта совсем еще молодая женщина не сомневалась в своем праве заглянуть в глубь чужой души. Ощущение беспредельной, властной уверенности в себе излучала вся ее статная фигура; и окажись она облаченной в шелк, бархат ли, в одеяние крестьянки, монашескую рясу или лохмотья нищенки, улыбнись, разгневайся или зарыдай – ничто не смогло бы изменить или скрыть этой царственной осанки, этого властного выражения лица.
О, Лиза склонилась бы пред нею с охотою, когда б не назойливые хлопоты фрау Шмидт! Но не только в том была заминка. Еще год тому назад, не замешкавшись, она согнулась бы в земном поклоне, а сейчас вдруг показалась себе чем-то вроде одной из маленьких служаночек, которые трепетали пред нею в Хатырша-Сарае, – вечно униженные, вечно испуганные, вечно готовые пасть ниц…
Внезапная волна оскорбленной гордости поднялась в ней. Она отвыкла от подобного обращения! Ведь она была почти султаншею! Брат крымского хана искал ее любви. И вообще она ведь – о господи, совсем позабыла, и вспомянуть недосуг! – она ведь не из последних, что по отцу, что по мужу!
Едва не захлебнувшись горечью от этой мысли, Лиза выпрямилась, впервые осознав, что если и не происхождение, то сама жизнь за последние два года позволяет ей прямо и открыто глядеть в надменные черные глаза.
Откуда-то сбоку подступил высокий мужчина, одетый как крестьянин, но с красивым, породистым лицом, и сказал, словно почуяв, какой угрозой наполнился воздух:
– Извольте же представиться ее сиятельству!
Впрочем, голос его был не злобен. Лиза узнала его. Это был тот человек, который привез их с Хлоей на фелуку и которого фрау Шмидт называла графом Петром Федоровичем.
Ее сиятельство! И граф! Прелюбопытнейшая же собралась компания на борту сей обшарпанной фелуки… Ну что ж, сейчас к ним присоединится еще одна титулованная особа.
Лиза снисходительно присела в некоем подобии реверанса, вздернула подбородок и, безразлично глядя в бесконечную, ослепительно синюю даль, произнесла:
– Я княжна Елизавета Измайлова.
Бог весть что должно было свершиться при этих словах! Лиза бы не удивилась, если бы в нее прямо тут вонзилась молния. Однако холодные черные глаза молодой дамы вдруг просияли улыбкою, она вскочила, схватила за руки остолбеневшую от собственной смелости Лизу и ласково сжала их.
– Какое славное имя! Оно хорошо известно семейству моей матушки! Дед ваш, княжна, был с предком моим при Азове, покрыл себя славою под Полтавою, отец ваш ходил с Минихом на Перекоп… Счастлива видеть вас, милая, счастлива оказать вам свое покровительство. Будем же знакомы: княгиня Августа-Елизавета Дараган! – И она от души расцеловала Лизу в обе щеки.
* * *
Право же, упоминание имени князей Измайловых сотворило чудо! На месте недоверия и настороженности вспыхнула искорка взаимной приязни, которую раздул в настоящий костер попутный ветер, стремительно несущий фелуку кругом берегов Греции, направляя к Италии.
Княгиня Августа Дараган поведала о себе немногое. Дочь весьма богатых и знатных, особенно по линии матери, родителей, она была рождена вне брака, и препятствия к свершению оного не исчезли и теперь. Желая оберечь девочку от враждебности многочисленных и влиятельных родственников, ее в раннем детстве отправили под присмотром двух воспитателей, фрау Яганны Шмидт и герра Дитцеля, за границу. Они жили во Франции, затем в Италии – во Флоренции и Венеции – и вот наконец вынуждены были перебраться в Грецию, на Эвбею, в маленький городок Кориатос, в котором почти не бывали османы. Августа вскользь обмолвилась, что недоброжелательность родственников по-прежнему преследовала ее…
Это было два года назад. К тому времени средства молодой княгини были изрядно истощены, потому что гонец, который являлся раз в год и исправно доставлял из России суммы на ее содержание, на сей раз непоправимо запаздывал. Им был граф Петр Федорович Соколов. Позднее выяснилось, что он подвергся в пути нападению и принужден был изменить привычному маршруту. Спасаясь от преследователей, которых никак не мог сбить со следа, претерпев множество опасностей, израненный и больной, граф добрался со своим грузом до Скироса, где и был укрыт семьей крестьянина Спиридона Мавродаки. Графу пришлось открыться ему, просить помощи для изгнанницы и взять с него клятву сохранить происшедшее втайне.
Ему повезло, ибо мать приютившего его крестьянина была русская полонянка, бежавшая из османской неволи. Греческий рыбак подобрал ее и женился на ней. Сын их Спиридон с детства впитал священную любовь к России, так что помогать русским было для него неукоснительным долгом. Прибрежные крестьяне издавна дружили с контрабандистами, те и доставили на Эвбею графа, едва он немного оправился, вместе с дочерью Спиридона, которая была любимицей бабушки, а потому изрядно знала по-русски. Она возбудила доверие молодой княгини и была взята ею в услужение. У Августы давно уже зрела мысль перебраться из османской Греции вновь в Италию, чтобы затеряться в самом сердце католической Папской республики – многолюдном и шумном Риме, изменив притом фамилию. Граф предпринял путешествие в Вечный город, снял укромную виллу на тихой улочке. Наконец была нанята крепкая фелука, которая и зашла на Скирос, чтобы принять на борт Хлою, прощавшуюся с семьей, Лизу – неожиданную находку, и тяжелый сундук с сокровищами, чуть не стоившими жизни отважному графу, который отныне должен был оставаться в распоряжении княгини Дараган…
Окажись Лиза той, за кого она себя выдавала, будь хоть мало-мальски искушена в светских отношениях, знай хоть что-то о делах государства, которое было ее родиной, этот рассказ вызвал бы у нее множество вопросов. Ну, например, сыщется ли на свете хотя бы одна молодая княгиня, гонцом и охранителем для которой был бы граф? Или какова должна быть враждебность родственников, чтобы спасения от нее следовало искать в другой стране, постоянно скрываясь и подвергаясь всяческому риску?.. Да и многое другое могло бы возбудить ее недоумение, хотя бы тяжесть сундука. Судя по ней, сокровища, там сокрытые, были поистине баснословны! Однако, по наивности своей, она ничего не заметила.
Решившись, в свою очередь, поведать почти всю правду, Лиза не скупилась на подробности, дабы прикрыть зияющие дыры в ткани ее судьбы, которую решалась выставить на всеобщее обозрение.
Она поведала о мстительной Неониле Федоровне, воспитавшей как сестер Лисоньку и Лизоньку, лишь перед смертью открывшей правду последней о ее происхождении, но не обмолвилась о том, что вызвало эту внезапную смерть. Об Алексее Измайлове тоже не упомянула. Промолчала и о Леонтии, и о Вольном, конечно… Путешествие по Волге объяснить оказалось очень трудно, однако Лиза и тут нашлась. По ее словам выходило, будто до нее дошел слух о поездке князя Измайлова в Астрахань; вот она и пустилась догонять обретенного отца, да была захвачена калмыцким царьком Эльбеком, после чего начались ее злоключения. Все, что случилось потом, Лиза пересказала в точности. Здесь стыдиться было нечего. Судьба играла ею, а она боролась с судьбою, как могла.
Августа, весьма уклончиво говорившая о себе, испытывала явное наслаждение, слушая Лизу и переживая вместе с нею ее многочисленные приключения. В плавном и строгом бытии Августы пока не было ни падений, ни разочарований, ни взлетов; только терпеливое ожидание (недаром ее любимой приговоркою было: «Si fata sitant!», что на латыни означало: «Если будет угодно судьбе!»); и торопливые рассказы Лизы производили на Августу впечатление быстротекущей реки, которая неудержимо влечет воображение, хоть раз отдавшееся ее волнам.
Княгине, конечно, невдомек было, какие призраки носились вокруг «княжны Измайловой» при этих воспоминаниях. Так над погасшим костром еще курился дымок. Однако Августа была слишком умна и проницательна, чтобы не заметить: чувство неизбывной, тайной печали стало второй натурой ее новой приятельницы. Да и Лиза, которая, думая о собственной жизни, всегда словно бы слышала гудение спущенной тетивы и свист стрелы, разрезающей воздух, давно знала, что прежняя улыбка безотчетного счастья исчезла с ее лица безвозвратно…
Всем сердцем, исполненным сочувствия, Августа возмечтала помочь исстрадавшейся соотечественнице, преподавая ей мудрые заветы сдержанности, чтобы исцелить ее душу смирением, в котором сама была большая мастерица.
– Может ли человек предвидеть, что с ним будет? Вам не в чем упрекнуть себя, княжна, и жалеть о былом не стоит. Ежели бы вперед была известна участь всякого человека, не было бы несчастных – увы, сие, видно, не угодно господу. Всякий человек должен быть готов на всякие кресты, и все надо с покорностью сносить. Будьте тверды, и бог вас не оставит…
В общении этих двух льнущих друг к другу душ время проходило незаметно. Но вот как-то раз Лиза, увидевши Августу за чтением ее любимой книги – венецианского 1736 года издания «Жизнь Петра Великого», узнала, что в вещах княгини был целый сундук книг, и ощутила необычайную радость, словно встретилась с давно потерянными друзьями. Она всегда была охоча до чтения, вот только не часто бывала возможность отдаться сей прихоти. Августа радостно открыла новой подруге доступ к своим сокровищам (уезжая с Эвбеи, она без сожаления рассталась с богатым гардеробом, не пожелав бросить любимые книги); и уж они-то оказали на Лизу поистине исцеляющее действие. Столь много значило для нее изведать, что убийственным пыткам любви и разлуки были гораздо прежде нее – и с еще вящею силою! – подвергнуты нежная Дездемона, робкая Психея, целомудренная принцесса Клевская и раскаявшаяся Манон Леско[5 - Персонажи произведений В. Шекспира, Апулея, М. Лафайета и А. Прево.], что чем дальше, тем в большей душевной ясности и покое – чувствах, ею почти забытых, – проводила она свои дни на фелуке. По вкусу пришлись ей и Вольтеровы повести, в особенности «Задиг, или Судьба», ибо впервые в жизни столь умно и убедительно была разъяснена ей победительная роль случая в человеческой судьбе. И словно бы даже легче стало ей жить, оглядываться на прошлое и заглядывать в грядущее, ибо прежде полагала она, что стоит над всяким человеком Провидение, а оказалось – случай! Но он же слеп, нечаян, неразборчив в средствах, а стало быть, вовсе нет нерасположенности Провидения в жизни Лизы, кою ощущала она с самого раннего детства. Есть лишь множество разнородных случайностей, то нелепо, то страшно сплетенных в одну женскую судьбу.
Книги пробуждали в ней щемящую любовь к миру людей и простым его истинам. «Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля; иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать…» Это было для нее как отпущение грехов! Право же, Лизе порою казалось, что для счастья ей было бы довольно и одних книг…
Словом, за чтением и уроками итальянского языка, которые давала Августа, она почти не заметила, как путешествие их окончилось, благо погода благоприятствовала, а османский военный флот ближе к Касыму[6 - 8 октября по ст. стилю, день начала зимы.] прекращал плавание по морям; от торговых же турецких судов их охранил господь. И вот однажды ночью их фелука причалила в порту Таранта, где всем был поспешно справлен необходимый для путешествия по Италии гардероб, состоящий пока лишь из самого необходимого; нанята карета. И, держа строго на северо-запад, через Альтамуро, Беневенто, Фрозимоне и Веллетри, странники направились к Риму…
2. Римская Кампанья
Еще во Фрозимоне общество разделилось: княгиня Августа, Лиза, фрау Шмидт, Хлоя и герр Дитцель продолжали путешествие в карете; граф же Соколов, имевший при себе бумаги на имя итальянского дворянина Пьетро Фальконе, отправился верхом вперед, дабы приготовить снятую им еще летом римскую виллу к прибытию своей госпожи. Его весьма беспокоило, что молодая княгиня после утомительного путешествия прибудет в свое новое жилище и не сыщет в нем долгожданных удобств и роскоши, приличной ее чину. Он просил три дня для обустройства виллы Роза, а потом намеревался вновь встретиться с княгиней в гостинице «Св. Франциск», что стояла на Тускуланской дороге, неподалеку от знаменитой виллы Адриана.
При сем предложении княгиня Августа захлопала в ладоши. Оказывается, еще во время своего прежнего пребывания в Италии мечтала она побывать в развалинах знаменитой виллы императора Адриана, где сохранились остатки всевозможных античных затей, среди которых интереснее всего считалось подобие Канопа, сооруженного Адрианом в память о его пребывании в Александрии.
Герр Дитцель и Яганна Стефановна при виде радости княгини лишь обменялись понимающими взглядами: они знали влюбленность своей подопечной в античные древности; это было единственное, что скрашивало ее существование в притихшей, задавленной османским игом Греции. Хлоя, понятное дело, возражать не могла по своему подчиненному положению, ну а Лиза мечтала лишь о том, чтобы Августа и здесь взяла ее с собою.
После Веллетри нигде не задерживались и к исходу дня были уже в «Св. Франциске». Здесь на всем лежала печать добропорядочности и прочного достатка: потолок покоился на тяжелых дубовых балках, к коим подвешены начищенные до золотого блеска медные люстры; стулья, столы и буфеты были изготовлены из отполированного дерева с затейливой резьбою; ставка для бутылок охранялась двумя статуями Мадонны, кои свидетельствовали о благочинности сего пристанища путников. На железном крюке подвешена была четверть жареной туши, а у входа в главную залу, подобно пузатым часовым, застыли две огромные бочки с вином, обитые массивными обручами. Для посетителей побогаче имелись изящные бутылки, оплетенные самой тонкою белою соломкою, точь-в-точь такой, что идет на дамские шляпки, вдобавок украшенные разноцветными шерстяными кисточками.
Хозяин с хозяйкою понравились гостям с первого взгляда. Его сорочка, шейный платок и чулки были белоснежными, грубые башмаки сверкали; ее вышитый передник, рубашка и юбка стояли колом от крахмала.
Комнаты, отведенные гостям, оказались небольшими, но уютными. Тотчас был подан ужин, состоявший из макарон с сыром (они еще не успели приесться путникам), сладкого «Треббиано», терпкого «Марино» и пенистого розового «Дженцано», которому весьма усердно отдавал должное герр Дитцель.
После ужина была готова горячая вода для мытья дам, и, с наслаждением избавившись от дорожной пыли, Августа с Лизой улеглись в постель (они спали в одной комнате). Хлоя, вычистив и приготовив на завтра их платья и настежь распахнув окна (Августа не выносила духоты), ушла в соседнюю комнатушку, которую делила с Яганной Стефановной. Герра же Дитцеля устроили в общей комнате для мужчин.
Ночь прошла спокойно, молодые дамы встали отдохнувшими и свежими. Однако Хлоя, явившаяся на их зов, сообщила, что герр Дитцель занемог. Сказалась дорожная усталость, усугубленная жестоким похмельем.
Августа распорядилась немедленно перенести его в комнату дам, где уступила бедняге свою постель, сама сделала уксусный компресс и в скором времени убедилась, что здоровью ее старого слуги ничто не угрожает; ему необходим был один лишь покой.
Августа и Лиза намеревались и дальше ухаживать за больным, однако Яганна Стефановна, хотя и не разделявшая пристрастия княгини к античным обломкам, уговаривала ее не отказываться от долгожданной поездки на виллу Адриана, заверив, что они с Хлоею будут отличными сиделками для герра Дитцеля.
Долго уговаривать Августу не пришлось. Она страшно обрадовалась возможности вырваться из-под докучливого присмотра своих воспитателей, хоть ненадолго ощутить себя не высокородной изгнанницей, а свободной путешественницей. Яганну Стефановну, правда, беспокоило, как же молодые дамы отправятся без сопровождающих, однако хозяин «Св. Франциска» сообщил, что кучер Гаэтано глаз не спустит с прекрасных синьор. При этом хозяин не скрывал сожаления, что сам он не так молод и силен, как его кучер. Итальянец не мог скрыть зависти к нему и своего восхищения молодыми дамами; зачастую его восхищение даже превосходило необходимую почтительность.
Девушки приняли предложение. Они уселись в хорошенькую открытую карету, на козлы взобрался щеголеватый молодец в синих штанах, полосатых чулках, красной безрукавке и круглой соломенной шляпе (при виде его Августа тихонько прыснула со смеху), и carrozza, иначе говоря – легкая коляска, выехала со двора.
* * *
На первых порах путешественницы оживленно обсуждали ночное происшествие, благословляя пристрастие княгини к свежему воздуху. Их отношения становились все более непринужденными, они давно избавились в обращении друг к другу от титулов и наконец, по просьбе Августы, перешли на «ты», ибо иное обращение в Италии вообще выглядит странно. Обеим страшно нравилось, как звучат их имена на итальянский манер; они то и дело без надобности окликали:
– Агостина! Луидзина! – И заливались при этом ликующим смехом, напоминая детей, вырвавшихся из-под присмотра строгих мамок.
Carrozza легко катила по извилистой Тускуланской дороге. Вдали по синему небу белой светящейся лентой вились очертания Сабинских и Альбанских гор. Кое-где при дороге стояли статуи мадонн, обещавших сорок дней индульгенции за трижды прочитанную «Ave Maria».
Вокруг простиралась унылая равнина. Вид ее поразил Лизу, уже привыкшую к прекрасным видам благодатной земли, куда принесла ее судьба. Словно бы они очутились не в Италии, а совсем в иной стране! Все было бледно, угрюмо. Плохо выделанные поля, бесприютные окрестности, изредка оживляемые повозками, запряженными быками. Кое-где топорщили свою сумеречную листву чахлые каменные дубы. Ветерок доносил запах земли и влаги – запах осени. Изгороди загонов для скота окаймляли дорогу, но сейчас загоны были пусты; лишь возле одного из них сидел, пригорюнясь, черноволосый пастух в фартуке из бараньей кожи.
У обочины остановилась женщина в крестьянском наряде, с белым платком на голове, придерживая водруженную сверху корзину, полную овощей. Черные глаза выражали такую тяжелую тоску, словно в них отразилось все беспросветное уныние округи: этих гор, полей, одиноких деревьев и бесконечной линии акведуков, тающих вдали…
Кучер обернулся на своем сиденье, сверкнув на молодых дам большими серыми глазами, улыбнулся (он был красив, хотя и не принадлежал к чистому итальянскому типу; видимо, знал о своей привлекательности и не пропускал случая опробовать свои чары на всякой женщине, от крестьянки до княгини) и, обведя кнутовищем округу, воскликнул:
– Campagna di Roma!
Августа объяснила спутнице, что Римскою Кампаньей называется окружающая Рим земля, известная тем, что в древние времена богатые люди ставили здесь свои виллы. И в самом деле, вдоль дороги то тут, то там начали появляться развалины, еще более усиливающие ощущение какой-то кладбищенской заброшенности этих мест; и наконец перед девушками возникли многостолетние оливковые рощи и укрытые в густой зелени развалины виллы Адриана.
Лиза была изумлена, увидав еще две-три кареты на опушке рощи. Августа, усмехнувшись, пояснила, что даже из самого Рима приезжают любители старины поинтересоваться, что сохранилось до сего времени от бывшей императорской виллы.
Две молодые дамы в темных строгих платьях, в сопровождении напыщенного Гаэтано, скрывшего свой щегольской наряд под синим крестьянским плащом на зеленом фланелевом подбое, не привлекли к себе ничьего внимания и без помех смогли осмотреть подобие египетского Канопа – долину, бывшую некогда каналом, и развалины небольшого храма, посвященного Антиною-Серапису[7 - Антиной – греческий юноша, сводивший с ума людей и богов своей красотою. Серапис – египетско-эллинское божество, отождествлявшееся иногда с Аполлоном. Здесь имеется в виду статуя Антиноя, выполненная в египетском стиле; подражание статуе Сераписа, воздвигнутой в настоящем Канопе – месте паломничества египтян в Александрии.].
Среди руин вздымались мощные оливковые деревья с причудливыми кривыми стволами. Их узловатые корни тянулись далеко вокруг, переплетаясь и взрывая землю. Заросли вечнозеленых дубов, лавров и кипарисов; плющ, взбирающийся на разрушенные своды; вода, выступающая из-под прошлогодней листвы; яркий мох – с этой разнообразной буйной растительностью чередовались причудливые обломки опрокинутых колонн, треснувшие ступени, осколки мозаичных полов.
Лиза даже не заметила, как отошла от своей спутницы. Августа снимала лоскут мха с причудливой мозаичной картины, а Лизу зачаровало зрелище прекрасных драгоценных мраморов. Названий их она не знала, видела только одно – красоту – и с восторгом рассматривала красноватый джиалло антико, зеленоватый, как морская вода, хрупкий и слоистый циполлин, вишневый порфир, зеленый серпентин, лежавшие в руинах. Внезапные слезы стиснули ей горло при виде сухих лепестков розы, удержавшихся в складках туники юной охотницы, словно бы на миг замершей среди колючих зарослей. Этот миг длился уже тысячелетия, но время не охладило ее неудержимого порыва, хоть и лишило обеих рук, изуродовало головку. Прекрасное тело на легких, длинных ногах по-прежнему стремилось вперед; и мрамор, озаренный скупым лучом солнца, казался теплым и живым.
Эти лепестки, эти скользящие по мрамору тени листьев и ветвей, эти ящерки, снующие среди обломков, были словно сердечное послание из прошлого…
Лиза присела на мраморную скамью, стоявшую у подножия старого кипариса, чьи твердые, душистые шишечки тихонько стучали по мрамору, наслаждаясь прекрасным покоем развалин, в каком-то блаженном оцепенении глядя на длиннобородых полудиких коз, которые щипали рядом траву, тревожно косясь на Лизу: возможно, она чудилась им лишь призраком человека… Она и сама отказывалась считать их живыми существами; и точно таким же наваждением показалась ей внезапно появившаяся неподалеку женщина.
* * *
Она стояла в зарослях папоротника, занимавших сырой грот, и манила Лизу к себе.
Девушка сделала несколько неверных шагов и остановилась. Нежные пещерные травы, что свешивались с потолка грота, коснулись ее лба, словно предостерегая. Она удивленно глядела на приземистую фигуру, которую только с натяжкою можно было назвать женскою.
Это было существо низенькое, толстое, старое, желтое, кривобокое, наполовину плешивое и с преотвратительною седою косичкою на затылке. Право, могло показаться, что одна из пестрых жирных ящериц, сновавших тут и там среди развалин, вдруг встала на хвост и теперь машет цепкими лапками, маня к себе изумленную девушку.
Взор ее был холодным, немигающим. Лиза ощутила неодолимое желание узнать, что же такое может ей сообщить эта безобразная старуха, возникшая столь внезапно, и сделала еще несколько шагов. Краем глаза она видела, что вокруг нее словно бы смыкается какая-то серая завеса, заслоняя весь мир, кроме стоящего напротив уродливого существа. Просто некуда было идти, кроме как к старухе, ибо серая завеса была непроницаемой, угрожающей, а пристальный взор, впившийся в ее глаза, обещал защиту и покой.
Они стояли почти вплотную, старуха уже потянулась, чтобы схватить Лизу за руку, как вдруг та вздрогнула от внезапной боли, пронзившей ей голову. Это напоминало чей-то пронзительный, предостерегающий крик!
Лиза отшатнулась, часто моргая, словно внезапно выбежала из тьмы. Серый туман, скрывающий окрестности, вмиг рассеялся; все вокруг озарилось бледным осенним солнцем; приземистая фигура старухи оказалась погруженной в зловещую тьму.
Лиза сделала шаг назад, второй, третий. Старуха, простирая к ней коротенькие ручки, спешила следом. Под ее неподвижным взглядом девушку вдруг охватили страшная слабость и тошнота. Казалось, ее вот-вот вывернет наизнанку! Но она чуяла: остановиться нельзя ни на миг. Превозмогая себя, повернулась и кинулась прочь, шатаясь, чуть не падая, думая только об одном: как можно скорее найти Августу и уехать. Уехать отсюда!
Она наткнулась на молодую княгиню у той же самой статуи длинноногой охотницы, коей сама недавно восхищалась до слез. Не говоря ни слова, схватила подругу за руку и потащила за собой. Та заартачилась было, но, взглянув на впрозелень бледное лицо Лизы, ощутив трепет ее ледяных, влажных пальцев, сама перепугалась бог весть чего и повлекла Лизу в carrozza.
Гаэтано отстал от них еще полчаса назад. Августа думала, что он воротился к карете, утомясь прогулкою, однако здесь его не оказалось. Подсадив Лизу в carrozza, Августа думала идти искать кучера, как вдруг Лиза издала сдавленный стон, и княгиня увидела, чем так напугана ее подруга.
Мрачная, приземистая старушонка спешила к ним со всех своих коротеньких, неуклюжих ножек… Казалось, ком грязи, перевитый червями, катится, сминая на пути цветы и травы!..
Глухо вскрикнув, Августа одним рывком отвязала лошадь от дерева, взлетела на сиденье кучера, подхватила вожжи и, за неимением кнута, концами их так хлестнула застоявшуюся гнедую, что она, коротко и обиженно всхрапнув, сорвалась с места.
– О синьоры! Высокочтимые синьоры! – послышался истошный крик, и девушки увидели Гаэтано, который опрометью бежал к ним, путаясь в полах своего сине-зеленого плаща. – Подождите же меня!
Августа медленно, словно против воли, натянула вожжи. Лошадь, взрыв копытами землю, остановилась. Княгиня, подобрав юбки, проворно перебралась на сиденье рядом с Лизою.