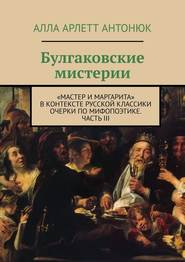скачать книгу бесплатно
В поэтике Булгакова новый небесный дом его героев-любовников – это почти чеховская усадьба, об утрате которой так сожалели и плакали чеховские герои. И поскольку уж такая ночь (почти шекспировская), когда исполняются все грезы и желания, дьявол Воланд (который все же немец по происхождению) своеобразно реализует у Булгакова русскую мечту (почти маниловскую), но не забывает и о грёзах души Фауста (земные скитания которого оказались так близки русской романтической душе Мастера): «О, трижды романтический Мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой» (гл. 32). Так дьявол у Булгакова осуществляет свой призыв, который тоже сродни пушкинскому в «Евгении Онегине» – выразившийся в строчках из старинного романса: «Приди, приди в чертог златой!» (2:XII).
В последней главе романа «Мастер и Маргарита» мы узнаем, что решение о последнем пристанище героев (и в этом также просвечивает «тайна искупления») исходит даже не от самого Воланда: «Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас, – еще лучше» (гл. 32). В этом явно ощущается единство противоположностей («глубинное единство») и таинственная связь между Иешуа (Христом) и Воландом (Антихристом). Действительно, судьба человека не может окончательно разрешиться, если не будет решен спор между силами Добра и Зла, Христом и Антихристом – сыновьями Бога и Дьявола. У Булгакова силы Добра и Света, то есть, сам Иешуа (в своей последней ипостаси – представленный как повелитель Света) вступается за Мастера и Маргариту. Воланд получает «распоряжение от Иешуа» относительно их судьбы (и этот мотив мы можем обнаружить у Булгакова уже в его самых ранних редакциях романа). «Разве вам могут велеть?» – удивленно спрашивал Воланда Мастер, по-иному представляя себе его могущество.
«Тайна искупления», содержащаяся в подтексте романа (в «ершалаимских главах» о казни) и создает в романе Булгакова впечатление, что Воланд и Иешуа – персоны единственные со знанием конечной истины в пределах романа. Мы словно присутствуем при конце всемирной истории и воплощении идеи о примирении Дьявола с Богом (которое есть также дуалистическое учение древнегреческого философа Оригена, выдвинувшего его, а также учения альбинойцев и манихеев, утверждавших, что неподвластно Богу то, что касается земли и давно находится в ведении Дьявола). Если у Достоевского Великий инквизитор, смирившийся с властью дьявола на земле и осуществляющий его наместничество, восклицает перед Христом: «Зачем же ты пришел…?» – и готов сжечь Христа на костре вместе с другими еретиками, то у Булгакова все то, что находится в ведение дьявола, имеет даже свою гармонию и порядок: «Все будет правильно, на этом построен мир» (гл. 32). Это одновременно также и отголосок пушкинской космологи в аду с изображением в ней некого «покоя» и «порядка»:
– Так вот детей земных изгнанье?
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд.,
А. С. Пушкин
«Наброски к замыслу о Фаусте» (1821)
…там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия…
А.C. Пушкин. «Таврида» (1822)
Такое понятие как «покой», которое так часто упоминается в романе Булгакова, быть может, и есть воплощенная им идея Пушкина о преисподней как месте изгнания «детей земных» c еe «покоем» и справедливым «порядком» («Какой порядок и молчанье!»), которые, в свою очередь, есть и масонская эсхатология, и древняя идея (еретическая идея Оригена) о конечном примирении Бога и Дьявола (Христа и Антихриста – их сыновей). Отсюда и у Булгакова такое единство заступничества его героев – Мастера и Маргариты – одновременно и владыкой Света Иешуа, и дьяволом Воландом.
Архетип «вечного дома» (Пушкин – Бодлер – Булгаков).(«Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду»). Благодаря сложившимся звездам и такому единству заступничества герои Булгакова пускаются в необычное трансцендентальное путешествие, где и обретают свой новый «дом». В этом мотиве у Булгакова отразился тот архетипический мотив, который так часто мелькает и в мировой поэзии, например, у Шарля Бодлера (1821—1867) в его стихотворении «Приглашение к Путешествию». Это мотив путешествия души на свою прародину («уедем в те края, где мы с тобой не разлучаться сможем») рисует поиски родственной души (которую Бодлер называет «сестра моя»):
И мы войдем вдвоем в высокий древний дом,
Где временем уют отполирован…
………………………………………
Все говорит в тиши на языке души,
Единственном, достойном пониманья.
Ш. Бодлер. «Приглашение к Путешествию»
(Перевод И. Озеровой)
Следуя какому-то таинственному закону архетипа, Ш. Бодлер, описывая таинственный «вечный дом» в своем стихотворении «Приглашение к Путешествию» (1857), почти цитирует Пушкина, который в «Набросках к замыслу о Фаусте» (1821) представляет свой концепт преисподней: «Какой порядок и молчанье!». И у Ш. Бодлера мы находим подобное описание:
Там все лишь – порядок и красота,
Роскошь, спокойствие и наслажденье.
«Приглашение к Путешествию» (1857)
(Перевод наш – А.-А. A.)
L?, tout n’est qu’ordre et beautе,
Luxe, calme et voluptе.
C. Baudelaire. «Invitation au Voyage» (1857)
Там, в вечной небесной обители как мире истинном, всякая неполнота восполняется, всякая разорванность восстанавливает свою целостность, а трагедия обращается в красоту («чистый пламень пожирает //Несовершенство бытия»; «Таврида», 1822). И у Булгакова, как и у Пушкина и Бодлера, возникает также мотив загробной встречи героев – как победы над смертью и обыденностью и ограниченностью мира дольнего.
Очевидно, что и у Пушкина и Бодлера и Булгакова был какой-то общий единый источник (это мог быть, скорее всего, какой-нибудь масонский орденский гимн с его культом души-психеи и традицией изображения путешествия души как «запредельного». Для Пушкина источником могла быть также поэзия Жуковского, которая вся дышала надеждой на стяжание Царства Божия и которая во многом испытала влияние поэзии Гёте и Шиллера. Мотив «приглашения к путешествию» венчает многие стихи и баллады Жуковского о разлученных возлюбленных и друзьях:
Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Туда моя душа уж все перенесла;
Туда всечасное влечет меня желанье;
Там свидимся опять; там наше воздаянье.
В. Жуковский «Песня» (1811)
Этот же мотив мы найдем и у Пушкина в «Руслане и Людмиле» (1821):
«…Дай руку… там, за дверью гроба —
Не прежде – свидимся с тобой!»
«Руслан и Людмила» (1821)
«Тайна искупления» и прощение («…прощенный в ночь на воскресенье, сын короля-звездочета»). Первоначально источником мотива о «запредельном» путешествии души, ставшем поистине мировым мотивом, мог быть, безусловно, и Данте с его «Божественной комедией», провозгласившей необычную гармонию «царства тьмы», в котором тоже царит порядок и справедливость, поскольку каждый грешник получает там именно то, что заслужил. Более того, именно у Данте Ад, как воплощение справедливости, сочетается одновременно и с возможностью искупления. У Булгакова его грешники в аду тоже, как мы видели, получают прощение: и Фрида, и всадник Понтий Пилат, и Темно-фиолетовый рыцарь, испив отмеренную им меру наказания («Каждому по вере его»).
Поэтика Булгакова объединила в «Мастере и Маргарите» и космологию Данте и космологию человеческой души Пушкина, Гёте и Достоевского, в творчестве каждого из которых одинаково присутствует еще один общий образ – образ некого рыцаря, получившего заступничество Высших сил:
Душу рыцаря сбирался
Бес тащить уж в свой предел:
…………………………….
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.
А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный»
Сатана Воланд тоже определил до поры до времени «в свой предел» неприкаянную душу бывшего «всадника Понтия Пилата»: «Около двух тысяч лет сидит он <„на тяжелом каменном кресле“> и спит, но когда приходит полная луна, <…> его терзает бессонница» (гл. 32). Он … «отирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны» (гл. 32). И как вечное напоминание о содеянном грехе (как для Фриды платок, которым она удушила своего младенца), у ног Пилата вечно оставались лежать «черепки разбитого кувшина» и простиралась «невысыхающая черно-красная лужа» (гл. 32).
Но когда как окончательный приговор прозвучали слова: «Свободен! Свободен!», «горы превратили голос Мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали <…> …протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога <…>. Человек в белом плаще с кровавым подбоем <Пилат> поднялся с кресла <…> по лунной дороге стремительно побежал… он» (гл. 32). Эта одна из последних сцен романа знаменует собой акт прощения и восхождение по некой лунной дороге. И эта булгаковская сцена в совершенном единстве с последней сценой трагедии Гёте «Фауст», где Хор ангелов, поднимаясь в небо, уносит туда с собой бессмертную душу Фауста:
К небу скорей:
Воздух свободней,
Духу вольней!
Мефистофель(оглядываясь):
Что? Как? Куда умчались? Неужели
Меня вы, дети, обманули? Ввысь,
На небеса, с добычей улетели!
……………………………………..
Кто склонит слух свой к жалобе законной,
Отдаст мне право, купленное мной?
И. Гёте. «Фауст»
У Гёте, в конечном итоге, Фауст получает спасение, как получили эту возможность спасения у Булгакова Мастер и Маргарита. Отправляясь туда, «где даже смерть легка» (Бодлер), булгаковская Маргарита тоже предвкушает новую жизнь души: «Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься, и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». – Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя <Понтия Пилата>. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» (гл. 32).
В ведомстве Воланда «тайна искупления» находилась до поры до времени за семью печатями (о раскрытии её вопиет гётевский Мефистофель, проигравший свой спор с Богом: «Кто склонит слух свой к жалобе законной, Отдаст мне право, купленное мной?»).
Искупление – это то, зачем приходил Мессия. Роман Мастера о казни Иешуа как искупительной казни – снова сорвал эти печати («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Милосердие – это то, что связует два мира – Добра и Зла, Света и Тьмы.
Так закончилась эта история Мастера – русского Фуста, – который живя в советской Москве 20-х годов, задумал переосмыслить евангельский сюжет о Христе и Понтии Пилате. А как начиналась эта история, – об этом предстоит еще долгий рассказ. Те, кто уже прочитал первую и вторую часть «Духовных путешествий героев А. С. Пушкина», – могут смело сказать, что они подготовленные для такого путешествия читатели. Для тех, кому любое путешествие – это желанное приключение, может смело пускаться в этот путь вместе с героями, созданными по особым законам художественного творчества русскими классиками – Пушкиным, Толстым, Булгаковым и Достоевским. Попытка проникнуть в эти законы – есть также необыкновенное путешествие в особый мир мифопоэтики.
Путешествие Анны и Вронского по Италии
Христос и Понтий Пилат на страницах романа Толстого Л. Н. «Анна Каренина»
Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой – духовной жизни.
Толстой Л. Н. «Анна Каренина»
(Часть 5; XI)
Христос и Понтий Пилат («Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?»; «Анна Каренина», 5:XI). Высказывание Л. Н. Толстого о Христе и Понтии Пилате в его романе «Анна Каренина» стало, на наш взгляд, ключевым для Булгакова в осмыслении им библейского эпизода суда и казни Иисуса и, одновременно, в художественном осмыслении самого эпизода казни Иешуа в «Мастере и Маргарите» (ставшего основным, как в замысле всего романа Булгакова, так и в замысле вставного романа о Понтии Пилате, написанного Мастером). Удивительно, что когда любимые герои Толстого Анна и Вронский путешествуют по Италии, они в своем путешествии не обходят стороной и эту самую главную тему всемирной истории – предательство Христа Понтием Пилатом. Эта тема («величайшая тема, которая представляется искусству», по словам писателя Толстого) входит и в историю отношений его героев – Анны и Вронского, тема, имевшая особое отношение к Анне, судьба которой зависела от решения чиновников, особенно самого главного чиновника в романе – ее мужа Каренина («это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится»).
В истории Анны не было ни Коровьева, ни Азазелло, которые бы помогли ей свободно вылететь из окна чиновничьего дома ее мужа, как это происходит с Маргаритой, героиней романа Булгакова, которая «покидает навек» своего мужа – государственного чиновника. Но в романе Толстого, также как и в романе Булгакова, существует одна общая художественно-композиционная деталь – существование текста в тексте – это история Понтия Пилата, которая у Толстого рассказана, хотя и не языковыми средствами, а на картине русского художника, с которым Анна и Вронский знакомятся, путешествуя по Италии.
Художник Михайлов, живя в это время, также как Анна и Вронский, в Италии, писал картину, о которой среди русских путешественников шел слух, что тот создает необыкновенную картину на библейский сюжет. Показывая свою таинственную картину Анне и Вронскому, мастер Михайлов так представил ее: «Это увещание Пилатом. Матфея глава XXVII, – сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения» (Часть 5; XI).
Толстой пишет, что на картине можно было видеть «на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо Иоанна» (5:XI). Собственно, эта же сцена – суд Пилата – стала сюжетом Второй главы «Мастера и Маргариты», которая, как об этом мы узнаем у Булгакова позже, была главой из романа о Понтии Пилате булгаковского Мастера (и которая одновременно относит читателя к главе XXVII Евангелия от Матфея, где тот воспроизводит сцену суда Пилатом, а сам евангелист Матфей под именем Левия Матвея становится затем героем булгаковского романа в романе).
И мастер Михайлов у Толстого, и Мастер Булгакова берут своим сюжетом, таким образом, один и тот же библейский эпизод – сцену суда над Христом. В отличие от Толстого, в сцене Булгакова мы не найдем Иоанна – евангелиста и любимого ученика Христа, которого художник Михайлов делает очевидцем сценысуда (ставшей также главой Евангелия от Матфея). Булгаков использует евангельский сюжет о допросе Христа Пилатом, опираясь не только на евангелие от Матфея, но также и на Евангелие от Иоанна 18,33—40 (мотив разговора об Истине), но, в отличие от Толстого, делает свидетелем «ершалаимских» (иерусалимских) событий Левия Матвея, последователя Иешуа (прототипического евангелиста Матфея, ученика Иисуса), записывавшего на пергаменте за своим учителем его проповеди.
Левий Матвей у Булгакова – единственный ученик бродячего философа Иешуа, и не сразу пошел за ним (как повествуется также и в Евангелии), а долго сначала ругал его. Об этом повествует как сам Матфей (Призвание Матфея: 9:9—17); так и другие два Евангелиста – Марк и Лука (Марк. 2:13—22; Лук. 5:27—39), причем только Матфей называет себя этим именем, а другие евангелисты называют его Левием, совсем как в романе Булгакова. Булгаковский Левий Матвей сочетает в себе черты евангелиста Матфея, но где-то также и черты апостола Петра. В сцене суда Пилата Булгаков использует и другие евангельские мотивы: мотив трусости (Иоанн, 19, 1—16), попытки Пилата снять с себя ответственность за приговор (Матфей, 27, 19—26), уверенность в невиновности Иешуа (Лука, 23, 13—24), попытки спасения Иешуа (Матфей, 27, 11—26; Иоанн,19, 1—16).
Христос и Пилат – это сюжет, повторённый не только четырьмя каноническими евангелиями (кроме Иоанна и Матфея, еще также Лукой и Марком), а тысячу раз повторенный во множестве картин художников и по этой причине рисковавший быть опошленным тысячным повторением, снова возникает, однако, в романе Толстого (1877) и в романе Булгакова (1928), как появляется он в свое время в стихотворении Пушкина «Мирская власть» (1828).
Предвидя упреки критики за обращение к сюжету, тысячу раз истолкованному, Толстой в своей сцене из «Анны Карениной» делает акцент на двойственном восприятии картины о Христе и Пилате, – с одной стороны, такой дорогой для художника Михайлова, а с другой стороны, противопоставляющей особое восприятие картины Анной и Вронским обывательскому видению ее случайными посетителями. Оба видения сталкиваются в сознании мастера Михайлова: «Всякое лицо, с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшее в нем со своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им, – все это вместе теперь, глядя их <посетителей> глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенною… Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо, – он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо и даже дурно написано – пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно-учтивые фразы в присутствии художника и жалея его и смеясь над ним, когда останутся одни. <…> Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их <посетителей> глазами» (Часть 5; XI).
Однако Анна и Вронский (думается, прежде всего, Анна, судьба которой все время «висела на волоске», бесконечно решаясь и завися от воли враждебных ей людей) очень близко восприняла картину: «Как удивительно выражение Христа! – сказала Анна. – Видно, что ему жалко Пилата»… …Из всего, что она видела, это выражение ей больше всего понравилось, и она чувствовала, что это центр картины, и потому похвала этого будет приятна художнику. Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата» (5:XI).
Эта же сцена суданадХристом, названная художником Михайловым «увещание Пилатом», стала и сюжетом Второй главы романа Булгакова «Мастер и Маргарита» – обе с центральной фигурой мессии (Иешуа, по версии Булгакова). И у Булгакова также – бродячему философу Иешуа было «жалко Пилата» (и это в точности, как у Толстого, каким увидела Христа Анна Каренина на картине Михайлова – в его сцене с Пилатом).
Толстой дважды повторяет эту фразу, которая становится ключевой в его сцене, происходившей в мастерской художника, как и в самой библейской сцене суда: «ему <Христу> жалко Пилата», и, это, собственно, ключевая фраза, определяющая замысел художника Михайлова. Такое же видение образа мессии становится ключевым и в сцене Булгакова («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Современная критика до сих пор ставит Булгакову в упрек именно это видение Булгаковым образа мессии Иешуа. Так критик Блажеев Е. полагает, что Спаситель превращается у Булгакова в нечто весьма и весьма далекое от оригинала (то есть, от Христа). Сохранив лишь половину имени (Иешуа-Иисус), Булгаков, по мнению Блажеева, «лишает героя божественной природы и предназначения» (с. 109). Позже мы вернемся еще к этому суждению критика, которое, собственно, не является ни оригинальным, ни новым, поскольку передает видение картины одним из героев Толстого в «Анне Карениной» – в высказываниях Голенищева, друга и сослуживца Вронского, который тоже посещал мастерскую художника Михайлова в указанной сцене Толстого вместе с Анной и Вронским.
Как считает Блажеев, подмена имени Булгаковым (Иисус – Иешуа) продиктовала «с роковой неизбежностью» и «ход дальнейших метаморфоз» вставного романа Булгакова. Критик считает, что обвиняя во лжи Левия Матвея в его записках на пергаменте, Иешуа у Булгакова якобы тем самым лишает достоверности все другие свидетельства евангелистов, а история начинает зиять множеством черных дыр и пустот, «заполняемых малоубедительной житейской психологией». В качестве примера критик Блажеев приводит булгаковские сцены с Иудой, который отнюдь не терзается у Булгакова угрызениями совести, предав Иешуа, и соответственно не кончает свою жизнь самоубийством. Булгаков противопоставляет библейской сцене самоубийства другую сцену – заговора и убийства Иуды в Гефсиманском саду. В версии Булгакова, Иуду заманивают по наущению Пилата в ловушку и там убивают. Таким образом, суд совести в романе Булгакова якобы подменен даже не судом земным, а тайной расправой – считает Блажеев.
Толстой в «Анне Карениной» приветствует видение фигуры Христа художником Михайловым, совпадающее также и с оценкой Анны. Он вкладывает в уста художника следующие суждения: «В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой – духовной жизни. Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом» (5:XI).
Мастер Михайлов у Толстого с едва скрываемым волнением и трепетом ждал суждения о своей картине и изображенном им Понтии Пилате. Голенищев, друг Вронского, присутствовавший также вместе с Анной и Вронским в этой сцене, осмелился тоже высказать свое суждение: «…меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит…» (5:XI). Такое проникновение в замысел Михайлова простыми посетителями, не являющимися профессионалами в искусстве, очень тронуло мастера: «Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения… <…> …как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата; но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить» (5:XI).
Мастер Булгакова и мастер Толстого. Читая эту сцену Толстого, возникает понимание того, как происходило, возможно, осознание Булгаковым проблематики его собственного романа «Мастер и Маргарита». Те переживания, которые художник Михайлов испытывает у Толстого при оценке своего полотна (Анной, Вронским и Голенищевым), очень сходны с волнением и переживаниями булгаковского Мастера, который подобным же образом трепетал за судьбу своего романа, бесконечно подвергавшемуся у него изменениям (впрочем, как и картина художника Михайлова у Толстого) и даже сожжению, которое означало почти отречение от написанного из-за его видения истории как метаистории, совершенно не приемлемого для советской литературной критики. Вспомним также, что сам Булгаков писал свой гениальный роман в атмосфере непонимания, открытой враждебной настроенности и даже травли со стороны советского режима.
В Евангелии от Матфея на вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?» – Иисус ответил в утвердительной форме (XXVII; стих 11). Однако, как записано у Иоанна, царство Христа не носило в то время политического характера; Риму Он соперником не был, и угрозы ему не представлял (Иоанн, 18:33—37). Царствие Христа распространялось лишь на духовную область жизни человека, которая жаждала свободы совести.
И у Булгакова Иешуа также не претендует ни на какую власть политическую: он скорее попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти («мирской власти», по Пушкину). Понимая эту ситуацию, Пилат у Булгакова и пытается освободить Иешуа. Подобные мысли и мучения Пилата подтверждает даже булгаковский Воланд, рассказывая Мастеру и Маргарите о мучениях Пилата в аду (в «пятом измерении»), куда Мастер и Маргарита также совершают свое путешествие после смерти: «Он <Пилат> говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри <Иешуа>, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем» (гл. 32). Вспомним, однако, что при жизни Пилат руководствовался в своих действиях другими помыслами, не желая «меняться местами» с бродягой философом Иешуа.
Иешуа и Пилат, однако, в их диалогах («сократических диалогах» о поисках истины) все время меняются местами друг с другом (словно, по принципу карнавальной поэтики). Отправляя философа своим приговором на смерть, Пилат доходит до того, что сам «малодушно помышляет о смерти», думая о чаше с ядом: «И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора» (гл. 2). И этот образ – чаши с ядом – совершенно не случайно возникает в поэтике Булгакова. Реалии истории и ее поэтическое толкование (как метаистории) все время перемешиваются в изображении событий у Булгакова (как и в романе булгаковского Мастера). Через эту аллюзивную деталь – чаша с ядом – снова просвечивает у Булгакова образ осужденного на смерть Сократа, как прообраз Иешуа, – Сократа, который, как мы знаем это из истории, малодушно выпивает чашу с ядом вместо грозившего ему распятия. Образ чаши с ядом соединяется здесь у Булгакова еще и с образом «кровавой чаши»: «И опять померещилась ему <Пилату> чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!» (гл. 2) – образ, который содержит символ тайн бытия, нашедший свое дальнейшее развитие в романе Булгакова в сценах Бала.
Мастер мучается у Булгакова тем, что не может закончить роман прощением Понтию Пилату – он не может простить ему его малодушие и трусость в принятии решения о судьбе Иешуа (как и у евангелиста Матфея, булгаковский Понтий Пилат отправляет Иешуа на казнь). Тогда булгаковский Воланд вынужден спуститься с Мастером и Маргаритой в глубины преисподней, чтобы показать им все мучения совести Пилата. Воланд устраивает так, что Иешуа (божество Света и справедливости, которого в конце романа мы видим во всем его сиянии), прочел роман Мастера. «Ваш роман прочитали, – заговорил Воланд, поворачиваясь к Мастеру, – и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница» (гл. 32).
Благая весть о прощении и прекращении греховных мук Понтия Пилата («Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать») решила и участь булгаковского Мастера: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!”… Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя! Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. …Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес… вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он» (гл. 32).
Булгаковский Воланд совершает свою миссию – объявляет о воле Иешуа и прощении им своего антагониста Пилата, ибо Иешуа своей смертью искупил грехи всех людей на земле, и малодушие Пилата, в том числе. «И, может быть, до чего-нибудь они договорятся», – тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас» (гл. 32).
Булгаковский Мастер получил мощную поддержку Всех Верховных сил, чтобы решительно найти верный конец для своего романа. У Толстого Мастер Михайлов в этом плане оказался счастливее – ему не пришлось спускаться в бездну – он получил поддержку публики не после смерти, а при жизни; и поддержку той публики, для которой он писал свою картину о Понтии Пилате. Толстой так описывает при этом прилив вдохновения художника: «Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины Пилата и Христа и в уме своем повторял то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключающего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой посетители и не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе» («Анна Каренина»; 5:XII)
Глава 2. Евангелие и «антиевангелие»
– Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.
М. А. Булгаков
«Мастер и Маргарита» (Глава 3)
С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего…
А. С. Пушкин. «Гавриилиада» (1821)
Слово и Дело (Логос и Деяние). «Евангелие» Толстого и «антиевангелие» Булгакова. Общеизвестно, что трагедия И. Гёте «Фауст» (1808) начинается с эпизода, в котором ее герой, ученый и чернокнижник Фауст, решил переписать Евангелие. Он открывает книгу Ветхого Завета и то, что изначально было записано в подлиннике как: «В начале было Слово», после некоторого колебания переводит как: «В начале было Дело». И в этот самый момент неизвестно откуда взявшийся и увязавшийся за ним черный пудель превращается в Беса Мефистофеля, который, впрочем, в одной из гётевских сцен сам себя называет графом Воландом. Более чем через сто с лишним лет писатель Михаил Булгаков вспоминает это имя, являющееся одним из имен князя Тьмы, и делает Воланда героем своего романа.
Не видя еще в черном пуделе беса, который смущает его дух и внушает сомнение в истинности божественного слова, заставляя переосмысливать Божественный Завет (Евангелие), гётевский Фауст создает «евангелие от Фауста» (а на самом деле, «евангелие от Мефистофеля»):
Фауст (открывает книгу и собирается переводить):
Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
………………………………………….
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул – и выход вижу смело,
Могу писать: «В начале было Дело»!
Пудель, не смей же визжать и метаться,
Если желаешь со мною остаться!
И. Гёте «Фауст»
(Пер.с нем. Н. Холодковского)
Фауст Гёте не подозревает, что написав: «В начале было Дело», он создает антижанр, собственно, новый жанр – дьяволиады.