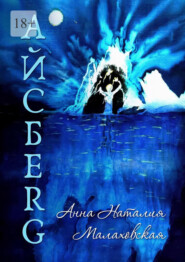скачать книгу бесплатно
Айсберг. Исторический роман
Анна-Наталия Малаховская
Ткань этого романа сплетена из сообщений предков героини. Причём каждому и каждой из них позволяется высказываться от души и защищать свою точку зрения на происходившие в их жизни события. От 1842 года роман выстраивает свои «этажи» до 1970 года, когда начинает просвечивать основная нить повествования: в событиях, происходящих с потомками, отзываются моменты из жизни их предков. Книга содержит нецензурную брань.
Айсберг
Исторический роман
Анна-Наталия Малаховская
Корректор Сергей Ким
Дизайнер обложки Клавдия Шильденко
Иллюстратор Анна-Наталия Малаховская
© Анна-Наталия Малаховская, 2023
© Клавдия Шильденко, дизайн обложки, 2023
© Анна-Наталия Малаховская, иллюстрации, 2023
ISBN 978-5-0060-2486-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
У меня появилось новое хобби. Хотите верьте, хотите нет – вчера вечером я обнаружила себя на кухне разбирающей залежи на столике в углу, причём с превеликим удовольствием, так что не могла остановиться и прервать это занятие далеко за полночь. Такая неспособность прекратить начатое дело случается со мной регулярно где-то к концу декабря, но!.. До сих пор я год за годом в декабре не могла оторваться от желания вязать, что бы то ни было, жилет так жилет, шапку – так шапку. И, зная за собой такую особенность, в этом году я уже в ноябре купила подходящие мотки шерсти и спокойно ожидала, когда на меня нападёт это непреодолимое и такое знакомое, как регулярный запой у алкоголиков, желание.
Но тут началось… В связи с юбилеем Бетховена по радио зазвучали приторные голоса, обвиняющие великого человека в… Как бы вы думали, в чём? Нет, он не состоял ни в какой профашисткой партии, как некоторые другие выдающиеся личности в этой стране, которым все такие «побрякушки» с рук сходят и их не перестают ни по радио, ни по телевизору превозносить – как, например, Хайдеггера – ну подумаешь, писал в своих «Чёрных тетрадях» с неподдельным восторгом о Гитлере – ну и что? Его не размажут мордой об стол – великий философ остаётся великим философом! А вот Бетховена мордой об стол и чуть не каждый день – а за что? Да просто за то, что у него дома творился невообразимый беспорядок и рукописи в обнимку с предметами одежды и с колбасой… И с каким удовольствием превеликим размазывают все эти подробности дикторы государственного радиовещания, мол, я, конечно, никакой «Оды к радости» не написал и даже до «Лунной сонаты» не дорос, а вот зато дома у меня такая чистота, хоть языком вылижи!
Бедный Бетховен! Человеку двести пятьдесят лет стукнуло, а изумлённые потомки всё ещё коченеют от восторга при воспоминании о его неубранной квартире! Но вот, как говорится, что капля камень точит, и все эти высокомерные передачи, в которых наглые снобы позорили великого композитора, сделали своё дело. Так я это понимаю, что на каком-то взгляду неподвластном уровне все эти сообщения вгрызались в мою подкорку, так что к концу года мне по-настоящему захотелось заняться уборкой, хотя до сих пор я не могла разглядеть в этом занятии ничего не только увлекательного, но и хоть сколько-нибудь терпимого. Но зато какой комплекс вины, которого я до сих пор не замечала, с треском лопнул – и его осколки были торжественно вынесены из дому и удостоились чести увидеть с изнанки внутренности мусорного бачка! И какое удовлетворение видеть этот угол кухни расчищенным и даже красивым! Не то чтобы это была радость – нет, не радость, но какое-то успокоение и освобождение: я почувствовала себя как река, которой удалось войти наконец в своё собственное русло.
И понравилось мне вот так играть в эти незнакомые мне игрушки – в игры освобождения от лишнего. И захотелось ещё – того же самого ощущения. И руки потянулись уже было разобрать всё то, что таилось в коробке под столом – и выбросить, выбросить, выбросить!
Но не тут-то было! В этой подстольной коробке я увидела тетрадочки, аккуратно уложенные и исписанные почти детским почерком – таким аккуратным, словно бы автор не знал, что с помощью компьютера или, как в древние времена, с помощью пишущей машинки можно добиться идеальной формы преподнесения текстов. Откуда это всё? Эта коробка, как вспомнилось теперь, была мне подарена – всучена – вместе с неким огромным платком… и происходило это лет десять назад в одной районной благотворительной организации при церкви, где работали уж очень рьяные деятельницы, ведущие общественную работу с беженцами, безработными и другими несчастными, не имеющими постоянного пристанища, места, где они могли бы собраться и поговорить о своих проблемах. Эти деятельницы устраивали совместные завтраки, курсы немецкого языка, совместные садовые работы и – выставки картин. И однажды после одной такой выставки ко мне подошла женщина лет сорока и вручила мне эту вот коробку с рукописями и в придачу настолько роскошный платок два на два метра, что я даже растерялась – как можно принять от незнакомого человека такoй дорогой подарок?
Фото из архива Анны-Наталии Малаховской
У этой женщины, как мне показалось тогда, дрожали губы и голос прерывался, когда она рассказывала мне о том, что этот платок принадлежал какой-то уж очень хорошей женщине, до того хорошей, что отдать его ей захотелось хорошему человеку – а именно мне. Ну и рукописи – в придачу. А что такого хорошего она смогла во мне разглядеть? Понять это было абсолютно невозможно: она увидела меня тогда впервые и с тех пор не прилагала никаких усилий, чтобы увидеть меня снова.
Но, как видно, смерть владелицы роскошного платка так повлияла на эту ещё довольно молодую женщину, что ей было просто необходимо отдать – и, как ей померещилось, в добрые руки – этот платок, чтобы сказать кому-то пару слов о том, какой уж совсем необыкновенной, ну до невозможности прекрасной была эта покойница – а как эту умершую звали, не сказала, и как её саму звали, тоже не сказала и так – испарилась в воздухе, и больше я её не видела. Никогда.
А до рукописей, таившихся в белой коробке под столом, руки у меня дошли только теперь – в связи с тем, что дикторы радиовещания протаранили мне все уши, расписывая беспорядок, царивший в доме у Бетховена. А всё-таки они добились своего – и я вытащила эту коробку из-под стола и открыла тетрадку размером А5 в зеленоватой обложке… И тут до меня дошло, что уж такого особенно хорошего эта женщина нашла во мне и почему решила сделать такой роскошный подарок именно мне! Из всего, что обо мне как об авторице картин, выставленных в стенах того благотворительного учреждения, было написано в аннотации на стене, она вынесла лишь одно известие – что я родилась в России и, следовательно, должна понимать по-русски!
Я начала читать, надеясь обнаружить где-нибудь вставленные известия о том, кем была эта «прекрасная» женщина, написавшая все эти тексты, и как её звали. Но дальше надежды дело не пошло, и мне пришлось смириться с тем, что я никогда не узнаю её имени, потому что та, что чуть не плакала, передавая мне её вещи, скрылась из виду – и навсегда.
И под конец мне понравилось – и не только читать эти листки, но и перепечатывать их на компьютере: померещилось, что таким образом удастся распознать в них некоторый общий смысл. Я решилась даже вставить в них иллюстрации, которые показались мне подходящими из бродящих по интернету. Кое-где захотелось мне вставить в это повествование какие-то мои собственные заметки – отсебятину, как принято говорить в таких случаях, или «лирические отступления», как в школе говорили, что Пушкин не побоялся вставить в роман «Евгений Онегин» некие отрывки о самом себе и не постеснялся вот так уж совсем напрямую сравнивать себя, вполне реального, со своим героем, вполне изобретённым!
У этого повествования обнаружилось несколько вступлений, написанных, как видно, в разное время: тут и «Увертюра», и «Собачья мать», и ещё некоторые заметки, но мне показалось всего сподручнее начать это повествование вот с этого вступления, хотя оно и названо неоконченной фразой: «Посылая нам привет…». Интересно же узнать, кто это «нам» привет посылает, и почему эта фраза такая оборванная, как заплатка какая-то, и что эта заплатка скрывает: на какую дыру она поставлена и пришита белыми нитками, чтобы скрыть от всех нас и саму эту непонятную прореху!
«Посылая нам привет…»
Этот Айсберг начинается со сверкающей вершины, поблескивающей там, вдали, там, в том времени, когда мои родители пели… Но и теперь они поют те же самые песни, и шагая по лесу, и в домашних, не совсем счастливых условиях, и пусть комната всего двенадцать с чем-то квадратных метров на четверых, но они поют эти песни и вдвоём, и с гостями, и наедине, и стены сначала раздвигаются, а потом совсем пропадают, – нет никаких стен, и я вижу что-то, чего я не вижу наяву, но я это вижу по их глазам – то же самое, что видела когда-то, восседая, как царица всего праздничного убранства и разноцветья, у папы на плечах, и вот мы идём, идём по этой широченной улице – по Невскому проспекту – и мамина голова слева у меня под левой ногой – ножкой – да, у меня ещё маленький, такой красненький ботиночек на этой крошечной, по сути, ноге, и она побалтывает – болтается возле маминого лица, а шапки у неё, у моей мамочки, на голове не вижу, вижу только шапку волос, заправленных в настоящую корону – ну в принципе это ведь и понятно, разве не так? Если я – такая могучая царица, и мне подвластно всё это многоликое, многошумное сборище до самого горизонта, и все эти поздравления звучат, и шарики многоцветные в небо вздымаются, и кричат поздравления со всех сторон, ну тогда ясно, что и моя мама тоже царица самая настоящая, с её изумительной красоты лицом, а какая ещё могла бы быть моя собственная мать, если я вот сейчас возвышаюсь над всем этим восторгом и пением – да, какая ещё могла бы быть моя собственная мать?
– Нам нет преград! – вот что они поют, это поёт мой папа, на плечах которого я восседаю сейчас, как на троне, и мне это очень нравится, что преград нет никаких вообще, «ни в море, ни на суше», и что «не страшны ни льды, ни облака», а про «знамя страны своей» – это ещё не совсем понимаю, ещё слово «знамя» не совсем понятным кажется, хотя вот они, знамёна, такие солнечные и почти прозрачные от лучей солнца, как румяные яблоки со всех сторон, но я что – не доросла, что ли? Вот слово «флажок» понимаю, он у меня в руке (или в ручке?), и мне кто-то ведь сказал однажды: «Вот тебе флажок», – и мне понятно это стало, что флажок получить – это подарок, это что-то хорошее, хоть он не сладкий и его нельзя облизать, как того петушка на палочке, которого дадут потом, но всё равно он хороший, и им сладко помахивать в воздухе над головой, наблюдая за всеми этими шарами, что поднимаются слева и справа от меня, и звучит мелодия, и все поют такими разношёрстными голосами, и я даже не знаю, пою ли и я сама вместе с ними, но что-то подпеваю, что «нам не страшны», это точно подпеваю, а про «знамя страны своей», наверное, нет, потому что это ещё очень трудное для меня слово, и я в этом грохоте и шуме не все слова понимаю. Что шнурок на левой ноге не очень хорошо завязан и может ударить мамочку мою любимую по щеке – это я точно понимаю, если я и дальше буду вот так размахивать этой левой ножкой… вот это отсюда видно, и кажется мне почему-то, что шнурки завязывать правильно и вдевать их все в определённые дырочки – что этому я ещё почему-то не научилась, это трудно, это, как слово «знамя», пока непонятно, и хотя я – царица и мне подвластно вроде бы всё, а вот это неподвластно, и когда слева улица Гоголя оказалась, и мы подходим, уже вливаемся в огромную площадь, и громче становятся все крики, и уже забываешь о незавязанном шнурке, и руки подымаешь вверх, и вместе с флажком, и отчаянно машешь от этого восторга, перекрывающего всё вокруг, орёшь и машешь вместе со всеми, и они все во мне…
…Лицо у сидящей на плечах отца великой королевы ещё не различимо, но она хорошо понимает, что такой повелительницей пространства она может быть лишь в том случае, если ей удастся сохранить вот это месторасположение – на плечах у кого-то, из которого она вырастает, как ветка из ствола дерева. А что у этого ствола были когда-то ещё и корни, это она узнает скоро, когда познакомится со своей бабушкой – с матерью того ствола, но дальше знание не пойдёт, в глубину земли не проникнет, хотя был ведь такой миг, когда и всего-то через год удалось проникнуть взглядом в глубину земли и рассмотреть там просвеченные солнечными лучами корни великой ели, шумевшей над головой в ту пору – корни, подвластные в тот миг пытливому взгляду трёхлетнего ребёнка.
И это – всё, и больше ничего не было понятно ни о каких корнях, потому что взгляд ушёл в сторону, и бабушка полюбилась не потому, что в ней сидел когда-то папа, как в матрёшке. Бабушка и была, быть может, та самая мать сыра земля, потому что если броситься к ней в объятия и прижаться крепко-крепко, вся горечь любой детской беды начинала отпускать и растворяться, как соль, брошенная в воду. Надо было просто почувствовать её мягкость и доброту, даже и не помышляя о том, что она и есть твой корень, непобедимый, и на какое-то ещё оставшееся время этот корень пока не в земле – слава богу, ещё удалось пообниматься и поцеловаться с этим утешительным корнем, а что ещё и дедушка был когда-то… дедушка всплыл с другой стороны, со стороны матери, когда он поправился и смог гулять с нею – за какие-то полгода до своей смерти – самый светлый человек на земле. А дед со стороны отца – ну да, он был когда-то, вот его портрет: высоко-высоко на книжной полке – не особенно привлекательный портрет. Похожий на родного папочку до остолбенения, но без папиной доброты и тепла в глазах, без той улыбки, с которой папочка её на руки поднимал и на плечи к себе водружал, чтобы она смогла стать царицей, побеждающей весь мир у себя под ногами, в красных ботиночках со шнурками, которые не так прочно были завязаны, как хотелось бы, не так крепко, чтобы не стегать любимую мамочку по её такой красивой, особенно если смотреть сверху, щеке.
И теперь, по прошествии сотен и миллионов не таких счастливых дней, не таких сияющих на солнце, а потонувших вон там, под ногами, в сером вязком мареве повседневности… Там некрасивые секунды, там дни с перекошенными лицами, все они болтаются там, и туда заглядывать не хочется, и совсем, а оставаться только в том самом лучшем дне, и если он был в 1949 году, то, к сожалению, наверняка в том порыве восторга на площади пели и те непроизносимые слова, которые в её более сознательном возрасте просто вычеркнули из этой счастливой песни про то, что «холодок бежит за ворот». Но тогда ещё никто не знал, что эти слова придётся вычёркивать и эти усатые портреты по ночам снимать, и если шнурок на ботинке ещё было никак невозможно завязать своими руками, то точно, что год был разве что 1949-й, и не позже.
А теперь начинаются совсем другие времена, разворачиваются такие странные времена, в которых маленькие дети не понимают, какое это безмерное счастье – если «нам нет преград», – ну просто не вмещают в себя всего этого восторга, и им надо об этом рассказать, ну просто поделиться, чтоб и они узнали, что к чему и из чего был построен этот Айсберг, такой сверкающий на верхушке и такой непроходимый там, внутри, в незаметном подводном мире.
Айсберг, от которого мы уловили только его яркую, более чем привлекательную вершину – верхушку – и, не вспоминая сказку про вершки и про корешки, побоялись заглянуть поглубже… или не решились – хотя нам ведь «не страшны ни льды, ни облака», это-то нам не страшно. А вот то, что под поверхностью воды, туда – как? Не страшно?
И если эту строчку про то, что и само солнце должно светить «сильнее» для того, «чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет», удалось замять для ясности, то как с теми другими личностями, которые тоже, может быть, хотят поднять руку, чтобы послать «нам» привет из того, подводного, за семью замками семи поколений таящегося мира?
Хотят ли они нам оттуда послать привет? Кто-нибудь из них? Или погасло и само это их желание с этим невозвратимым временем в придачу – и вмёрзло в склизкие толщи подводного льда? Или, может быть, вовсе и не привет они хотят нам оттуда послать, а что-то совсем другое?
Ответ на этот вопрос пришёл неожиданно: подкрался и оглушил как обухом по голове.
Седьмой этаж: 1842—1850
Подводная часть айсберга.
Кон фуоко
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Леокадия, жена графа: седьмое поколение
Никанор, крепостной соседского помещика:
седьмое поколение
Барчук, сын Леокадии: шестое поколение
Аксинья, дочь Никанора: шестое поколение
?
1 глава.
Такая странная погода
Барчук
Что у всех самая первая любовь бывает такой, бывает блестящей и сияющей – не мне судить. У меня другой первой не было. Первее не придумаешь – ну что ты скажешь – в тринадцать лет?
И если бы это случилось при других обстоятельствах, то… от несчастной любви ведь детей не бывает – так? Если бы это блестящее и сияющее, как шаровая молния, например, ударило бы – ну, например, в тебя – и не где-нибудь, а в старинном замке, как теперь говорят, что эти замки – все, нормальное место проживания для меня и моих родственников, для наших друзей и товарищей, что они якобы старинные и что там завелись какие-то духи… Ну вот, может быть, такой именно дух и подскочил ко мне сзади и нанёс мне удар в самое темечко, а когда я очнулся и раскрыл глаза, то увидел…
Ну что ты скажешь, в этот миг гроза ещё не подкрадывалась к нам на мягких лапах, так – погромыхивал где-то гром, но это на таком далёком расстоянии, что его будто бы и не было, а была тишина, прервавшаяся только ударом кнута и визгом какого-то животного, проскочившего под окном. Эти длинные, до самого пола, и высокие окна, и узкие и с закруглением наверху, и я к такому окну подошёл и смотрел, что там происходит внизу…
Представь себе тишину – такую, как бывает темнота, и говорят, что так темно, хоть глаз выколи, вот так было тихо… Вот такая была тишина – абсолютная – как чистая, до дна, вода, вот такая – НИЧТО. И, может быть, моя мать выговаривала и тогда какие-то слова, потому что она молчать не умела, это как пить дать, но в этот миг – ну может быть такое мгновение на свете, когда все слова куда-то ушли? Попрятались по своим норам и выглядывали только… из-под кресла, например, одним мохнатым серым ухом выглядывало какое-то слово – необязательное, так, болтовня какая-то, подобающая какой-нибудь горничной или поварихе, а не моей матери, снабжённой как-никак всеми аксессуарами богатства и власти и с огромными, как мне тогда казалось, алмазами на груди и в ушах; а зачем всё это тяжёлое таскать?
Фото из архива Анны-Наталии Малаховской
А вот надо таскать, надо соседям показывать, что она, мол, ну, в общем, – не знаю, каким это словом обозвать, ну, может быть, престиж – подойдёт тебе такое слово? Чтоб тебе как следует уразуметь этот момент внезапной и полной ТИШИНЫ – Ничто – уничтожения всего, который опрокинулся на меня и обрушился, как мне казалось, на всех… Но моя мать не переставала вышивать свои розоватые какие-то цветочки на пяльцах, потому что прекратить это занятие не могла – это было не в её власти, и она с умильным выражением лица сновала иголкой туда и сюда и, казалось, не слышала этой рухнувшей на нас тишины.
А я подошёл к окну и посмотрел вниз. На двор. И если бы не подошёл в тот момент – всё могло бы окончиться хорошо. Потому что ни раньше, ни позже, ни до ни после, такого сверкания всеми красками не было, потому что только в этот и именно в этот миг солнце пробилось сквозь чёрную мохнатую накипь на небе и просияло – на один только ослепительный миг, на секунду, и в этой секунде, внутри неё, я увидел какое-то скопление лучей, как… да, вроде как корону увидел над головой – на фоне чёрной, иссиня-чёрной и мохнатой и страшной, как медвежья шкура, которой меня в детстве пугали – вот на фоне этой, так сказать, тучи, но она была или казалась мне в сто раз страшнее любой тучи – на её фоне ярко горели на солнце, выскочившем всего лишь на секунду, может быть…
Картина Анны-Наталии Малаховской «Видение в поезде»
Я подошёл ближе и чуть не вывалился наружу, когда увидел. Что это была какая-то девчушка босоногая и в неновом, не в таком расписном, как у меня, платьишке каком-то захудалом и без всяких украшений, она там стояла и смотрела на меня снизу вверх. Но это я потом всё разобрал и понял, что так всё и было – и ноги без каблуков, и платье никудышное, и даже личико… ну если приглядишься, то ничего… особенного, так сказать. Но в тот момент, когда брызнуло солнце, она стояла осиянная его лучами, как в золотой, как в самой настоящей золотой сияющей короне, вот как святых рисуют в церкви – с нимбами над головой. Но у неё нимб был не придуманный, не пририсованный красками в искусственной попытке изобразить нечто поистине священное, а это была святость самая настоящая и никем не внушённая, это было живое доказательство того, что Бог есть, существует на самом деле – что он посылает мне теперь – значит, теперь это досталось мне – доказательство своего настоящего, а не придуманного кем-то в назидание потомкам существования.
2 глава.
Девчушка была в лапоточках
Никанор
Девчушка была в лапоточках. Я сам сделал ей эту обувку, это было моё искусство, моё хобби, и не только для моей собственной дочки я делал и, честно говоря, гордился своей работой, что лапти подходили на ноги… никогда не думал, что кто-то сможет высмеивать мою дочь, упрекать её за то, что она носила такую обувь. А ты вот попробуй-ка создать что-то такое! Ты носишь туфли из кожи и бархата, но разве ты сама создала такие произведения искусства и их к тому же вышила жемчугом? Не думай, что это было моё единственное желание – плести такую обувку! Нет, мне больше всего хотелось создавать настоящие шедевры из кожи, но где я мог достать такие дорогие материалы для своей работы? Так что, как ты понимаешь, я не мог воплотить в жизнь моё мастерство, мой талант, у меня были связаны руки. И если я кому и передал свой талант по наследству, это меня уж никак не утешает. Но моя дочь, моя милая-милая доченька, была и вправду удивлена, когда увидела этого молодого барчука в такой одежде, которая вся состояла из произведений искусства, из бархата с кружевами и с жемчужными вышивками. Не то чтоб он сам был уродлив, этот сын графа; правда, в свои тринадцать лет он ещё не был таким красавцем, каким стал потом, но его башмаки и его одежда – скажу тебе – это были истинные шедевры, и поэтому моя дочь, да, МОЯ, с моим вкусом, с моим пониманием искусства, она смогла оценить всё это по достоинству. Поэтому она, глядя снизу наверх, любовалась этим юным барчуком… а что и он сам неплохо выглядел, и фигурой, и с лица – вот если ты за всю жизнь ни разу не выполняла тяжёлую работу и ни один из твоих предков никогда тяжёлой работы не знал, и у тебя будет такая статная фигура! Ну а что касается его личика, всегда чисто вымытого, ну что сказать, ну да, оно было ничего себе, симпатичным, но до лица его собственной дочери, которая появилась у него позже, ему было как от неба до земли – кто был поистине красотой одарён, которая и во сне никому не приснится, так это была его дочь, а не он сам!
Ну а я гордился своей дочерью. Она была просто милая: такая милая, как глянешь, и сердце обрадуется! И совсем не дурочка. Но то что она так сильно любила своего младшего брата, который слишком рано ушёл из жизни – вот это сослужило ей плохую службу! Если бы не эта её любовь к братцу, то не случилось бы всего того, что произошло через пару месяцев после того, как эта гроза разрушила нашу жизнь – навсегда!
3 глава.
Как яблоня в цвету
Леокадия
Старухой я не была, хотя и чувствовала себя совсем не такой молодой и свежей розочкой, как та, что я вышивала сейчас, на этот раз по памяти, а не с натуры. Эта красота, которую можно теперь создать самой, а не увидеть в зеркале – перестать чувствовать себя красавицей – это так, словно бы снежные лепестки с тебя опадают: и слева, и справа от тебя они летят, покачиваясь на ветру, а ты стоишь между ними, как яблоня в цвету, и понимаешь, что в цвету тебе стоять уже недолго осталось, и что скоро уже всё это щекочущее и головокружительно душистое, аромат и блеск, всё это уйдёт, и навсегда, и невольно закрадывается чувство вины за то, что ты стареешь.
И блеск в глазах этого юного, совсем ещё юного вызывал во мне лёгкое замешательство: кольнуло снова, с привкусом раскаяния, это восхищение блеском юности: женщине не полагается любить молодого человека, если она старше его и намного, такая любовь навсегда должна остаться тайной и невзаимной, даже если этот молодой мужчина – твой сын и почти ещё ребёнок. Но всё же.
Картина Анны-Наталии Малаховской «Яблоня в цвету»
То, что его тёмные глаза вдруг оказались такими светлыми – как будто бы свет ударил – снизу вверх, от глаз – ко лбу – и эти его слова, с вопросительной интонацией произнесённые – исполнишь ли мою просьбу? Мамочка. Мамулечка. Долго ли ещё такие ласковые слова вкушать, наслаждаясь… как будто бы любовью, но какая там могла быть любовь, там была пропасть под ногами, и сын взрослел на глазах, из милого, такого нежного и ласкового превращаясь в того самого, в кого они все превращаются – в такого пустого и чужого, в жестокого без причины, каким стал через пару лет после нашей первой встречи уже и его отец.
(Вот если бы Бог послал мне девочку… девчоночку – подумалось вдруг – но так, без особого смысла подумалось, и не учла душа, что иные случайно вспыхнувшие желания исполняются порой, а другие, о которых годами молишь Бога, не исполняются – и никогда!)
4 глава.
Купи да купи!
Старуха-ключница
В лапоточках такая девчушка была, по двору ходила и с белыми – почти белыми, лучащимися на солнце волосами; и озорной, такой задорный взгляд бросила тогда на барчука, заезжего, в гости к барам к соседским. А барчук тот в кружевах на манжетах – ах, тебе и не снился такой костюмчик богатый, а и сам ничего собой с лица, не красавец, конечно, но симпатяга – в самый раз, и вот он к матери к своей раззолоченной бросился: купи да купи! Ну вот именно эту, ну вот ту, что по двору тут шастает!
А мать ему на ушко, – пахнуло от неё одеколонами какими-то:
– Тише-тише ты! А то он цену поднимет! – и подмигнула, мол, знай наших, куплю, но ты поумнее будь, дурачок мой маленький!
И смекнул тут барчонок, и выскочил на крыльцо. И глаз с девчонки не сводит, а подойти не решается, чтоб цену не набили баре соседские.
А девочка заметила его взгляд и остановилась. Ксюшкой её звали, Аксиньей, по двору бегала неспроста, а за козой быстроногой гонялась и её в хлев загнать пыталась палкой, а теперь остановилась и из-под волос своих нависших на барчука поглядела. А было ей и всего-то одиннадцать лет, не больше, и красивых таких мальчуганов она и во сне не видывала. А банты-то на рукавах, а кружева на воротнике и на манжетах! А сам – ребёнок почти что! Ан нет, каким-то недетским взглядом на неё посмотрел и сказал – не ей, конечно, а про себя сказал, что будет называть её Амалией, если мамаша, конечно, соизволит купить ему эту игрушку.
А взгляд был недетским потому, что приценивался и размышлял про себя, какую цену запросит сосед за девчонку дворовую и каким образом получится всё это дело обтяпать… все подробности обдумывал про себя, хотя и сам был немногим старше, пожалуй, на полтора только года постарше, и тринадцать ему ещё не исполнилось, и о том, чтобы вступать в брак, и речи быть ещё не могло, и не для брака законного покупала сейчас его мамаша крепостную девчонку, а так, для забавы младенческого возраста, потому что баловала своего любимца – безмерно.
5 глава.
Мать кричит
Аксинья
В полупотёмках там горят какие-то огни в окнах высоких моего господина.
– АКСИНЬЯ!!!!!!!!!!!
Этот голос как ножом прорезал, перерезал насквозь… перед парадным входом какая-то карета, всё роскошное и чужое, и мать кричит, обливаясь слезами, и не то воровское как будто имя, что мне присобачили теперь, а настоящее моё имя выговаривает, выкрикивает его в это небо:
– Ак-синья!..
– этот голос разлетается так далеко и как будто бы колеблет тучи над головой, нависшие чёрные тучи на багровом подбое – что это со мной и куда меня увозят на этой повозке? Нет, это – карета, и пышная, и нарядная, но не зря она мне показалась похоронной повозкой, и вот: отрывают от родимой моей матушки, и ей загораживают путь – не смей подходить! – и это она кричит:
– Аксинья! – во весь голос, как могла, как может вот сейчас…
– Раскричалась! – с насмешкой повторяет барин, мой старый барин, господин, как его приказано было величать, и змейкой такой некрасивой эта насмешка на его губах противных, от которых тошнит меня, а она кричит и впервые выговаривает моё полное имя, и выкрикивает его так, что даже небо заколебалось, но барин не колеблется, и чьи-то руки в кружевных манжетах из повозки высунулись и меня внутрь затаскивают, а я не шевельнусь, я будто онемела, как та парализованная старуха, что жила у нас за двором, у меня и губы застыли, и ноги не передвигаются, и они меня вносят внутрь, и внутри темно, и чьи-то губы прикасаются к щеке, а я не могу вздохнуть, я забыла, как надо дышать, и только «Аксинья!» – этот звук врезается в небо, и поэтому что-то снаружи загрохотало, небо волнуется, небо не соглашается с тем, что меня, видите ли, купили, что меня оторвали от родимой моей матушки и везут на чужую сторону – и как грохнет под ноги лошадям! И как они попятились… да, для того и грохнуло небо, чтоб споткнуться им, чтоб выбежать мне из этой кареты проклятой и бегом через двор и под всплеском дождя, и где тут мама, и горячие её руки, и прижаться к груди…
Но лошади не споткнулись. И увозят меня – далеко, и чьи-то губы шепчут в ухо слова, непонятные, но застрявшие, и их оттуда не вынешь, не выцарапаешь, они пролезают в самую суть, и что-то как будто про «коханье», такого слова не бывает, это не слово, это грязь какая-то, что он мне в ухо засовывает, и своими лапами в манжетиках этих прижимает, не знаю, куда он меня прижимает, и хоть духами какими-то от него воняет, но чую я, что не барыня эта меня так тискает, не дамочка в кудрях и брильянтах, а какой-то «он», даром что и волосы его напомажены, которыми он лицо мне щекочет…
– Наиграешься! – произносит кто-то, и это чужой голос на чужом языке, но похожий и на наш, на мой язык. И голос произносит это слово, которое похожим кажется мне – «наиграешься» – и жаркая рука обхватывает меня покрепче, а поцелуй вонзается вот теперь, как острая сабля, прямо в меня, и я не знаю, как бежать, как к мамке вернуться, и понимаю, что меня увозят навсегда и что это – как похоронная повозка. Эта раззолоченная карета во тьме – она кажется как похоронная, как будто везут хоронить…
– И у тебя будет такое красивое платье! – говорит мне чей-то женский голос – как бы с усмешкой, снисхождения такого, ломая слова моего языка, но смысл понятен – и карета тронулась. И голос мамочки моей ещё завывает – там, вдали, – а жаркие объятия всё крепче, и губы теперь. Я чувствую его губы на моих и не могу вздохнуть – не могу понять, как мне теперь дышать – и лошадь не споткнётся – мы летим во весь опор, куда-то и с кем-то, кто даже и говорить на моём языке не умеет и будет теперь меня ласкать – как он говорит, а может быть, это слово что-то другое обозначает на его языке, и я не знаю, что это такое происходит со мной сейчас, и знать не хочу, потому что поделать с этим со всем – не в моей власти, и если тебя продали, так уж продали, и денег никаких не хватит, чтоб откупиться – вовек.
6 глава.
Застряло копытце козы
Никанор
Этот двор перед зданием роскошным – не дворцом, но почти дворцом – был посыпан желтоватыми камушками, очень мелкими, и между этими камушками застряло копытце козы в тот миг, когда она выскочила из-за загородки и помчалась как ошалелая, а девочка с хворостиной пыталась её загнать назад, загнать в угол между забором и стеной каменного дома, и попалась. Девочка попалась потому, что там, этажом выше, перед окном стоял молодой человек, подросток и сам ещё почти ребёнок, и яркие, блеснувшие на солнце волосы бросились ему в глаза, а было это как раз в день его именин, и поэтому отказать ему в просьбе покупки показалось Леокадии невозможно, и в этот раз не отказала, а купила.
Рисунок Леона Маринова «Аксинья с козой перед замком»
7 глава.