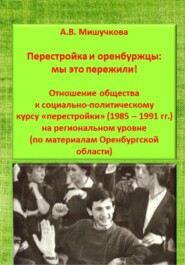скачать книгу бесплатно
В 1990 г. актуализируется вопрос о численном сокращении руководящих органов КПСС, о структурных изменениях в парторганизациях области, передачи власти Советам.[255 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 731. Л. 4 – 6.]
Вопрос о структурных изменениях в Оренбургской городской партийной организации был поднят в рамках VII пленума ГК от 22 февраля 1990 г. и VIII пленума от 28 марта 1990 г.: из 302 коммунистов 274 высказались за упразднение райкомов партии, что составляет 90,7%. Дискуссии были активными [Приложение 11], но постановление пленума содержало противоречивые формулировки для голосования, которые не позволили принять окончательное решение. За «нецелесообразность упразднения районных комитетов КПСС» проголосовало 118 членов ГК, «против» – 30. За «сохранение в структуре городской партийной организации городского комитета партии» проголосовало 127 членов ГК, «против» – 6, «воздержалось» – 15.[256 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 50. Л. 78.] Следовательно, в ГК поддержали и сохранение и райкомов, и горкома КПСС. На наш взгляд, определяющим в решении данного вопроса был личный момент: представители партии закономерно не могли лишить сами себя привычного образа жизни и рабочего места, откладывая логический итог.
Партийная реформа в ухудшающейся обстановке проходит весьма болезненно. «В это трудное переломное время под флагом разделения обязанностей, передачи власти Советам упускаются из виду бесхозяйственность, неприкрытое, порой даже циничное, игнорирование действующих законов, постановлений съездов народных депутатов, Верховного Совета СССР, решений партии и правительства», – подчеркивал глава Оренбургского обкома А. Ф. Колиниченко, – а виновные в этом руководители-коммунисты не несут никакой ответственности; бездействуют и первичные организации, занимая выжидательную позицию».[257 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 731. Л. 24 – 29.] Аналогично по своей сути и резкое заявление на XXXV Оренбургской городской партконференции от 18–19 апреля 1990 г. кандидата в члены ГК КПСС, председателя колхоза им. Чапаева (с. Краснохолм) И. В. Солодовникова:
– «Товарищи коммунисты, мы пятый год ведём только одни разговоры с высоких трибун. Когда же мы начнём работать? Мы ждали XXVII съезд партии, мы ждали XIX партконференцию, мы ждали перестройку в целом всей нашей партийной системы, и сегодня мы продолжаем вести такие разговоры. С каждым партийным форумом у нас падает авторитет нашей партии, и всё дело в том, что нет спроса с каждого коммуниста за порученное дело, потому что принимаемые решения мы не контролируем».[258 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 64 – 65.]
Члены КПСС многократно отмечают невозможность контролировать исполнение решений в нижестоящих парторганизациях, что явилось негативным следствием проводимой реформы.
На региональном уровне серьёзно проявляется отсутствие чётких инициатив ЦК КПСС в плане идеологической работы, и местные партийные организации вынуждены действовать самостоятельно. В апреле 1990 г. А. Ф. Колиниченко констатирует неготовность работать в условиях многопартийности.[259 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 61.] 10–12 мая 1990 г. прошёл трёхдневный семинар идеологического актива обкома КПСС по проблемам идейно-политической работы в современных условиях, включающий «имитационную игру» под названием «Участие парторганизаций в предвыборной кампании»,[260 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 883. Л. 44 – 47.] в которой создавались ситуации по созданию имиджа кандидата, апробировались методы предвыборной борьбы и подготовки наглядной агитации, взаимодействия с прессой. Это было актуально и необходимо.
В рамках XXXV Оренбургской городской партконференции от 18–19 апреля 1990 г. решением бюро ГК КПСС был организован Центр по изучению общественного мнения. Первый секретарь Ю. Д. Гаранькин справедливо отметил, что «этой работе ещё не достаёт основательности, комплексности, системности, научности».[261 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 8, 13] Один из первых социологических опросов, проведённых весной 1990 г. среди коммунистов, репрезентативно доказывал многократно отмечаемые тенденции: 69 % респондентов подчеркнули, что «авторитет первичных парторганизаций снизился», 48 % – что «горком КПСС не влияет на ход перестройки», а 51,5 % тот же вывод сделали и о райкомах КПСС. На конференции также было подчёркнуто, что численность городской партийной организации впервые за многие годы снизилась на 1588 человек, 1059 из которых – члены и кандидаты в члены КПСС, добровольно сдавшие свои партбилеты, и эта тенденция продолжает нарастать, что свойственно для областной и общероссийской ситуации.[262 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 8, 13, 16. Общероссийская ситуация в приложении 4.] Ю. Д. Гаранькин критически высказался о проекте Платформы КПСС, в котором «нет чёткой оценки сегодняшней ситуации в партии и стране, замалчивается, что сложившаяся ситуация может привести к развалу государства».[263 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 20.] Таким образом, в регионе присутствовало понимание критичности ситуации, но проводимые реформы ограничивали действенность партийных механизмов.
27 апреля – 25 мая прошла XXVII Оренбургская областная партийная конференция, на которой А. Ф. Колиниченко снова признал наличие многопланового кризиса в стране и области, отметил негативный настрой населения, факт складывания оппозиции, «не обременённой грузом ответственности и ошибок», которой «легче завоевать популярность».[264 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 11.] Были озвучены статистические данные по выходу из КПСС: в 1988 г. добровольно сдали партбилеты 164 человека, в 1989 г. – 1474 человека (в 9 раз больше), а за 6 мес. 1990 г. численность областной парторганизации снизилась на 4308 человек. Более того, за 6 месяцев 1991 г. из областной партийной организации выбыло и было исключено ещё 11 918 чел. – уже иные масштабы.[265 - Данные о выходе из КПСС по ключевым моментам весьма схожи с общероссийской ситуацией, где пик добровольной сдачи партбилетов приходится на 1990 – 1991 гг. (См. Приложение 3)] В итоге за период с 1988 г. по первое полугодие 1991 г. из рядов КПСС в Оренбургской области вышло 23% её членов.[266 - КПСС и власть: департизация органов государственной власти и управления на Южном Урале / В.Н. Иванов. Челябинск, 1999. С. 88.] Одновременно с массовым выходом из партии, по сведениям обкома, резко сократился и приём в её ряды (за счёт рабочих и колхозников): в 1990 г. по области было принято 427 чел., за 6 месяцев 1991 г. – 112 человек. [267 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 160. Д. 724. Л. 10 – 12.] Главой обкома А. Ф. Колиниченко были сделаны предположения о социальных характеристиках «выходцев»: «пенсионеры, карьеристы; люди, не понявшие новые направления политики и люди, потерявшие веру в неё из-за злоупотребления служебным положением отдельных лиц». «Те, кто в столь тяжёлый период для партии вступили в неё», – это «люди активной жизненной позиции, сторонники социалистического выбора», – отметил он.[268 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 12 – 17.] Во избежание дальнейшего развития критической ситуации, А. Колиниченко подчеркнул необходимость «политического просвещения и патриотического воспитания», «изучения с новых позиций марксизма-ленинизма», «создания в комитетах партии дискуссионных клубов». Однако реальные мотивы выхода из КПСС были иными, имевшими более глубокую социально-психологическую сущность – партийцы были разочарованы деструктивными для страны действиями КПСС в целом.
Докладчики XXVII конференции оппонировали главе обкома: член обкома КПСС, ткачиха А. П. Плотникова указала на необходимость улучшения благосостояния людей для большей эффективности идеологической работы; редактор Беляевской районной газеты «Вестник труда» Б. А. Тесля отметил неэффективность повторения слов «перестройка», «гласность», «плюрализм» и отсутствия действий: «Сколько бы мы не твердили «сахар, сахар» – слаще от этого во рту не станет!». Председатель облисполкома А. Г. Костенюк констатировал осложнение ситуации в области ввиду «нечётко выработанной полной стратегии и тактики действий». «Из практики пока получается так, что мы все за перестройку, а мыслим и действуем по-разному, – отметил он. – Одни выступают за возвращение частной собственности, роспуск колхозов и совхозов, другие призывают отказаться от идеологии. Так какие же ценности людям необходимо отстаивать, за что бороться, каковы средства этой борьбы?». Что примечательно, при принятии постановления конференции, констатирующего отсутствие «кардинальных изменений в стиле, формах и методах работы партийных комитетов», «перестройки деятельности пропагандистов и агитаторов», «медленное осваивание обкомом современных методов работы» и «наличие идейной разобщённости среди коммунистов», её делегаты традиционно дали «удовлетворительную» оценку работе обкома партии за отчётный период: 594 голоса «за», 4 – «против» и 2 «воздержавшихся».[269 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 95.] При этом в обкоме было понимание реальной проблемной ситуации: в «Постановлении» было обозначено о «незавершённости переориентации экономики на решение социальных вопросов», о настроении во многих партийных организациях под предлогом разделения хозяйственных и партийных функций «уйти от влияния на вопросы повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции, укрепления дисциплины».[270 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 96 – 105.] В резолюции выдвигались требования «выразить идейно-теоретические основы КПСС, определить её стратегические и ближайшие тактические цели, теоретически обосновать концепцию гуманного, демократического социализма», а также «высказаться в защиту В. И. Ленина и Октябрьской Революции, подвергнутых нападкам и дискредитации»; «заменить формулировку «планово-рыночной экономики» на «регулируемую экономику».[271 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 725. Л. 11 – 17, 41, 69, 71, 187.] Очевидно объективное отсутствие понимания общей стратегии действий, что вызывало дистанцирование от решения актуальных вопросов ввиду невозможности кардинально изменить ситуацию посредством лишь партийных рычагов в отдельно взятом регионе.
Схожи по характеру действия заведующего Идеологическим отделом обкома КПСС В. Мешкова, который 11 ноября 1990 г. направил ГК и РК КПСС рекомендации общественно-политического центра (ОПЦ) обкома КПСС «Защищать Ленина, продолжать дело Октября» – в критический для политики партии период представители региональной партийной элиты считали указанный аспект весьма важным для стабилизации. Критика КПСС и классиков марксизма-ленинизма обществом трактовались обкомом как «стремление многих новых политических формирований буржуазного толка посеять недоверие к социалистической идее, во что бы то ни стало убрать с политической арены КПСС, повернуть вспять историю, реставрировать капиталистические порядки»,[272 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 794. Л. 79 – 80.] что, в принципе, было объяснимо.
Активная поддержка обкома в плане восстановления «честного имени» В. И. Ленина наблюдалась и в райкомах. По заявлению 2-го секретаря Соль-Илецкого РК КПСС И. Секретевой «связывать все невзгоды с его именем» неправомерно, а сегодня «как никогда актуально» изучать его труды, взять на вооружение ленинскую методологию анализа общественного развития, обратив внимание на его гуманистические и общечеловеческие ценности».[273 - См., например: Илецкая защита. 1991. №. 44. 9 апр.; Под знаменем Ленина. 1991. № 62. 24 апр. 1991.] И всё же, по данным ЦИОМ обкома КПСС, развернувшаяся в областной партийной периодике контрпропаганда КПСС не являлась действенной.[274 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 883. Л. 29; Д. 725.Л .10 – 17; Д. 886.]
Одним из проявлений кризиса КПСС стало и появление дезинформации в региональных СМИ о её якобы «сказочных богатствах»: представителями оппозиции общественности активно внушалась мысль о «награбленном» у населения имуществе, которое следовало «национализировать, реквизировать, приватизировать».[275 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 1046. Л. 4 – 7.] В действительности на 1 января 1990 г. в оперативном управлении местных партийных органов имелись основные фонды стоимостью 2,3 млрд. руб., а всего в собственности было 4,9 млрд. руб., что, по данным обкома, составляло «0,001 % от всего национального богатства», причём, сюда входили здания, издательства, санатории и т.д.
В условиях усиления дискредитации КПСС и социалистического выбора на волне противостояния центральному руководству КПСС, возникла идея о создании отдельной Коммунистической партии РСФСР по аналогии с партиями союзных республик. 21–22 апреля 1990 г. в Ленинграде состоялся Инициативный съезд российских коммунистов, на котором обсуждался вопрос о воссоздании Российской компартии (РКП) на платформе КПСС.[276 - Жарков В., Колесников А. Дни надежды // The new times. 07.06.10. №19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //nardep-rsfsr.90-95.ru/newtimes-07062010.] По заверению А. Колиниченко весной 1990 г., «ни одна первичная районная или городская партийная организация Оренбургской области не принимала решения делегировать на данный съезд своих представителей». [277 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 89. Всего на съезде было 615 представителей от 37 областей и 7 автономных республик, но Мандатная комиссия съезда признала полномочия 15 человек, избранных партийными организациями по округам, а остальные 600 участвовали как «представители партийных организаций».] Хотя, глава обкома не исключал возможность присутствия на съезде оренбургских коммунистов «по своей инициативе».
19–23 июня 1990 г. была созвана Российская партийная конференция, которая позиционировала себя как Учредительный съезд Компартии РСФСР (в составе КПСС). В конференции-съезде приняли участие 2 768 делегатов, избранных на XXVIII съезде КПСС от партийных организаций РСФСР.[278 - Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики // Википедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/] От делегации Оренбургской области в состав Совета представителей делегаций Российской партийной конференции были избраны 4 человека: А. Ф. Колиниченко, В. Я. Горьков, В. Д. Колесников, Н. П. Кочемаев.[279 - РГАНИ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 39. Л. 16.] При рассмотрении информационно-аналитических данных о просьбах и обращениях, предложениях и замечаниях, поступивших в Секретариат конференции, было выявлено, что за период работы съезда от наших делегатов поступили две просьбы о предоставлении слова, одна из которых была удовлетворена.[280 - РГАНИ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 56. Л. 5 – 57.] Отмечаем участие и активность представителей КПСС от Оренбуржья во всероссийских процессах начавшейся реорганизации КПСС.
В Ленинском райкоме КПСС г. Оренбурга был проведён соцопрос по поводу создания КП РСФСР. Из 1350 коммунистов 74 % одобрили её создание; 20,2 % – не одобрили. Ответы на вопрос о членстве в КПСС распределились так: 29 % – однозначно не выйдут из неё, 39,1 % – останутся, если после XXVIII съезда начнётся «настоящее обновление партии»; 12 % – выйдут из КПСС безусловно, а 2,3 % – войдут в другие партии.[281 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 886. Л. 119.] Отмечаем, что данные весьма разноречивы, и авторитет партии подвергается сомнению.
В 1991 г. в Оренбургской области происходит активизация социал-демократических партий, которые вступают в резкую конфронтацию с КПСС: все политические акции, проводимые ими, носили ярко выраженный антикоммунистический характер. Основные идеологические дискуссии происходили в Оренбургском городском и областном советах Народных депутатов.[282 - Рагузин В.Н., Прусс А.П. Формирование гражданского общества в Оренбуржье. Оренбург, 1998. С. 9 – 11.] Возмущения обоснованы ухудшающейся социальной ситуацией.
На заседании бюро ГК КПСС областного центра 1 марта 1991 г. оценило ситуацию по обеспечению города молоком и мясом, и, сделав вывод, что «она становится кризисной, приобретает политическую окраску и требует от коммунистов практических действий по снабжению города продукцией сельскохозяйственного производства», потребовало «сформировать группы из коммунистов для выезда в сельские районы для решения проблемы (создания ресурсного банка и организации дополнительной заготовки сельхозпродукции)».[283 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 74. Л. 29.] На IV пленуме ГК КПСС от 13 апреля 1991 г. первый секретарь Ю. Д. Гаранькин подчеркнул «глубину политического и экономического кризиса, в котором оказалась страна на нынешнем этапе развития нашего общества». Он определил главной целью работы ГК «стабилизацию экономической и политической обстановки в интересах людей», что зависело, на его взгляд, «от активности и партийной дисциплины на местах», подчеркнув необходимость «чётких, слаженных действий всех коммунистов» и высокой степени их готовности «к нелёгкой каждодневной политической работе». Стоит отметить, что в связи с «нарастанием тревоги за положение дел в городской партийной организации» стали постепенно снижаться экономические показатели (промышленность города недопоставила продукцию по договорам на сумму 10,2 млн. руб., выработано товарной продукции на 99, 1 % к соответствующему уровню прошлого года; 27,9 % коллективов снизили объемы производства, а строители ввели жилья к уровню прошлого года 48,6 %, объём подрядных работ составил 85,6 %).[284 - Протокол VI пленума ГК см.: ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.2 – 6.]
Деятельность депутатов от КПСС в городском Совете также становилась неэффективной: явка на заседания и сессии депутатской группы составляла не более 35–45 человек (из 75, что негативно отражалось на результатах голосования), слабо использовалось право законодательной инициативы, не всегда убедительно защищались внесённые предложения. В условиях противодействия со стороны приверженцев «Демократической России», объединённых в инициативную депутатскую группу, по словам аналитиков ГК, это являлось «недопустимой роскошью».[285 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.9 – 13.] Весной 1991 г., ввиду отмечаемых «наличия надвигающейся проблемы голода», «потока негатива в СМИ», неэффективности идеологической работы и противостояния с «демократами», в ГК было принято заявление бюро Оренбургского обкома партии «О социально-политической ситуации в области и неотложных задачах по преодолению кризиса» [примеры высказываний членов ГК 1991 г. см. в Приложении 10]. Сам факт руководства партийными организациями зачастую расценивался как «проявление мужества и ответственности» (по высказыванию М. П. Обещенко, «многие хозяйственные руководители, их заместители уже давно поняли, что «от партии для них лично уже мало что можно приобрести», и потому относятся к членству в горкоме КПСС «формально»).[286 - Фразы из весенних протоколов заседаний ГК (1991 г.) ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.6 – 10.]