 Полная версия
Полная версияНенастоящий поэт
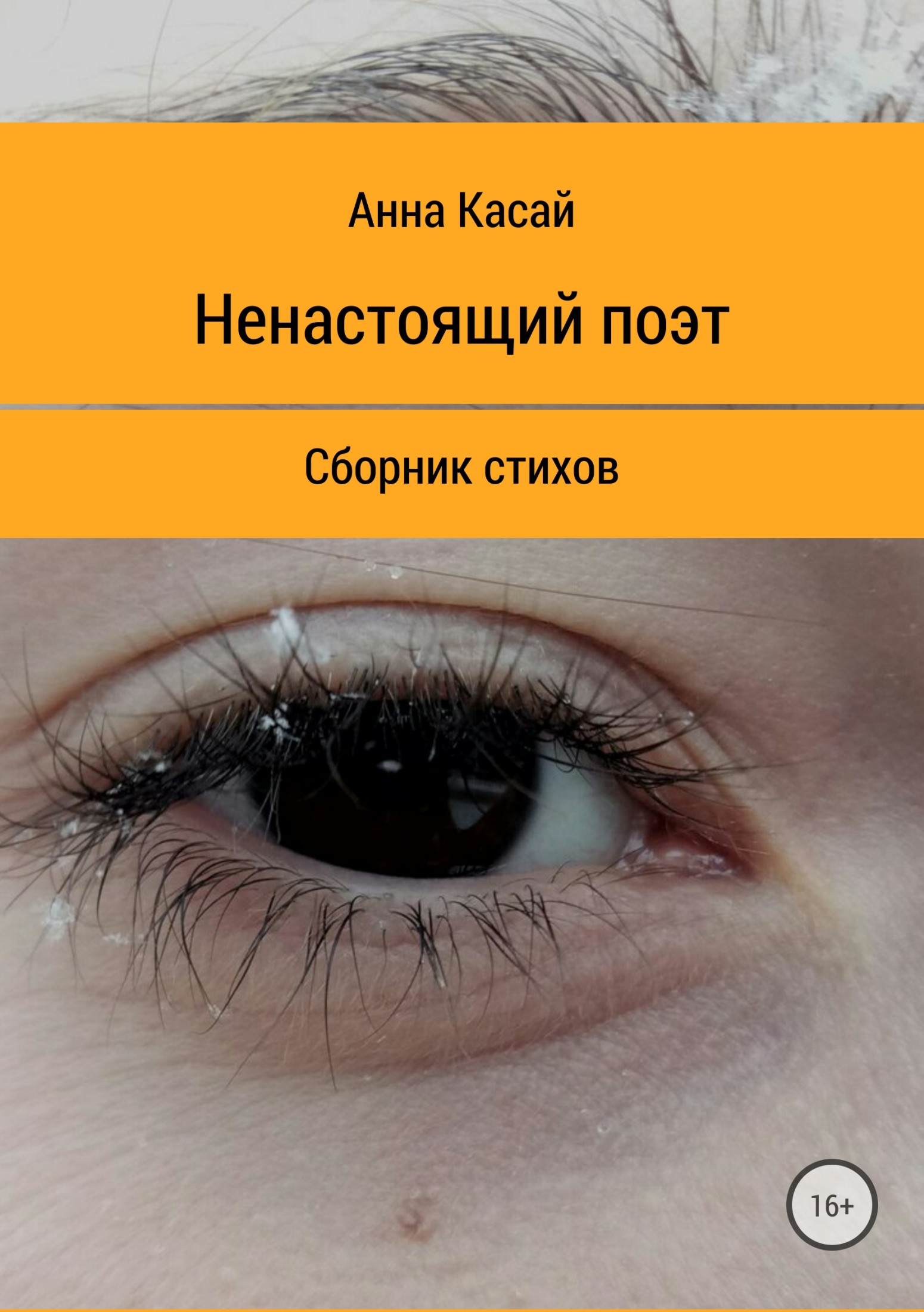
«Посети мои мысли, кочевник…»
Посети мои мысли, кочевник,
с остановкой длиною в ночь,
погляди лишь, насколько плачевно
ты заставил меня занемочь.
«Иди скорей. Змеёй скорей пригрейся…»
Иди скорей. Змеёй скорей пригрейся
На доброй пашне розовой груди.
Кори и властвуй, только не осмелься,
В ней отзвуком любовным не гуди.
Знамёна книзу. Жалкой головой же
Мне не склониться. Воля не моя,
Когда покорной грудью я положен
На наготу убойного копья.
Признаться мне, я рад. Тобой сражён.
Не пресных слёз я перелив видал,
Когда со мной идущий на рожон
Мой добрый стяг в сражении упал.
Но сколько бы твой образ не навейся -
Я буду всё равно ему твердить:
«Иди скорей. Змеёй скорей пригрейся
На доброй пашне розовой груди».
«Я естествовед до безобразия бессознательный…»
Я естествовед до безобразия бессознательный:
На запястьях – шпаргалки по недружности,
Но я четко знаю, что моя касательная
Стремится касаться твоей окружности.
В тетрадке координатная плоскость видима,
А на ней векторы парные:
Видимо, я от тебя линейно зависима,
Раз векторы наши коллинеарные.
Если же мы векторами парными
Легли в наш двухмерный координатный оазис,
Но попарно неколлинеарными, –
Мы образуем векторный базис.
Сухим текстом, без слов нежных.
Два угла при пересечении прямых. По неосторожности.
Мы, как синусы этих углов смежных,
Отличились поразительной схожестью.
Ну а если из единицы нас с тобой как суммы слагаемых
Вычесть тебя как квадрат косинуса,
Я попаду в список функций, бесцельно скитаемых,
Как одинокий квадрат синуса.
Я естествовед дурной закалки. Руки трясутся.
Но я знаю: мы друг другу взаимодополнение,
И если наши прямые больше не пересекутся,
Система не будет иметь решений.
«Она питала страх, скорей…»
Она питала страх, скорей
От омертвевших птичьих груд,
А я из рук кормил чертей,
Что в её омуте живут.
И когда груды птичьих сил
От зноя устремились ввысь,
Я тихий омут иссушил,
Где её черти извелись.
«Смотри на меня, даже если не глаза в глаза…»
Смотри на меня, даже если не глаза в глаза.
Смотри на меня, как на церковные образа.
Смотри на меня с влечением и желанием
Переместить в моё тело своё сознание.
Слушай мой голос – я кричу в тишину, я озверела.
Слушай, словно твой собственный голос достиг предела.
Слушай мой голос, словно на повторе симфонию или прелюдию,
Используй воспоминания обо мне, как музыкальную студию.
Касайся меня в самом недоступном месте – под кожей.
Будь смелей – я не боюсь быть уничтоженной.
Касаясь пальцами музыканта, сыграй, напиши
Свое имя на створках моей безрассудной души.
Играй со мной в прятки, прячься от ответственности,
Ты лишил меня тантрической девственности.
Я досчитаю до пяти, закрою глаза, но ты в поле моего зрения.
Я хочу от тебя эстетизации наслаждения.
Если бы я писала заключительное стихотворение, я бы написала тому, кого оно не в силах коснуться. Это было бы лирическое преступление против эпического безумца. Я бы писала 72-ым шрифтом на вратах его цитадели, а все романтические метафоры преобразовала в привычные для него термины. Я бы снова и снова вслух с памяти стих считывала. (Только если), есть малейшая надежда, что один бродячий слушатель донесёт до него мои мысли. Я бы научилась понимать прозу, не рифмовала бы (только втайне), если б за этим стояло лишь только одно свиданье. Я бы отказалась от метафор, гипербол, совсем от слов, даже если (по Рождественскому) никто не любит рабов. Я (по Цветаевой) отвоевала бы его у всех земель и небес, кажется, даже если (по Есенину) в картёжников нельзя влюбляться. Моё заключительное стихотворение стало бы признанием сердечным, но я столь малодушна, что, пожалуй, буду писать вечно.
«Человек человеку рать…»
Человек человеку рать,
Человек человеку ад,
Человек человека рад
Убивать.
Все умрут, а я буду жить.
И тогда, отвращенье тая,
Ты поймешь, наконец, что я
Не умею любить.
«Моей грусти в груди не спится…»
Моей грусти в груди не спится:
Раз взмахнула – и взмыла птицей,
Прочь летя из душных покоев,
Где пыталась её упокоить я.
Накормилась сполна отчаяньем,
К чаю подали страх быть непонятой;
Птицу-грусть я взрастила нечаянно,
И вот – клетку грудную ломит мне.
«Чтобы к твоему сердцу поймать попутку…»
Чтобы к твоему сердцу поймать попутку,
Я пережил решительно сорок пять пересадок:
Двадцать семь из них с авиалайнера на маршрутку,
Восемнадцать хирургических (смертельных схваток).
Я менял своё агрегатное состояние под твоё настроение:
Жидкий плыл по течению твоих капризов,
Как газ, оказывал минимальное сопротивление,
Как кристалл, принимал любой безумный вызов.
Я безрассудствовал: поверил в слова, перестал – в Бога,
Опорожнял голову от мыслей в публичных местах,
Молил тебя о любви, отчаянно и много,
Но ты молчаливо уводила меня с ума.
Я пытался тебя забыть: отвлекался, считал до ста,
До двух сотен, до трёх, продолжал числовой ряд.
Запирался снаружи, чтоб не уйти в себя,
Исполнял ритуал, в раздумьях шагая вперёд-назад.
Я понял: ты – не земное, не небесное, а глубоководное.
Камнем подводным легла на душу
И тянешь меня на дно, скалистое и холодное,
А я задыхаюсь, но уже не хочу на сушу.
«Город, в котором нет только меня одной…»
Город, в котором нет только меня одной -
Тесный город, очерченный линией кольцевой.
Фонари здесь не спят: им глаза ночью слепит свет
Из зажжённых окон в том городе, где меня нет.
Здесь есть все поголовно, поимённо от "А" до "Я":
И рождённые здесь и прибывшие в эти края.
Потревожьте архивы, отыщите на "А" и меня!
В немом городе меня нет – моё имя ношу не я.
Серый город живёт – меня в нём по-прежнему нет:
а я здесь, среди них, только рядом приглушен свет…
И вдруг хочется бросить себя и сбежать
из узкого города, где мне никогда не бывать…
«В декабрьскую стужу вторглась…»
В декабрьскую стужу вторглась
апрельским сном.
То рассеянным, то изрезанным силуэтом
возникала и исчезала
в неоновых вспышках июльских гроз.
Эхом майского грома неслась
сломя голову
босиком по февральским лужам
с букетом июньских роз в рюкзаке.
Бросилась, сбила с ног, как ангина в августе.
Как вирус воздушно-капельный –
подхватил и банально простужен.
Внесезонно простужен.
Март кусается декабрём.
Лихорадка давно отступила.
Минус двадцать морозит на улице,
минус двадцать восемь в квартире.
У больничной моей кровати
осыпаются лепестки тех самых июньских роз.
Все февральские лужи давно расползлись слякотью,
чтобы запечатлеть следы твоего исчезания
из моей поры года.
Я снова различаю месяца по погоде
с тех пор,
как стих майский гром.
Ты ушла, как нагрянула, босиком,
сломя голову, –
стихийным бедствием.
Все июльские грозы сложила себе в рюкзак,
развеяла сон апрельский.
Сколько здесь ещё декабрю кружиться?
Если б знал,
как холодно будет тебя терять,
я б теплее оделся.
«В моих жилах не кровь…»
В моих жилах не кровь -
Души крик.
Если резать вдоль, -
Струёй стих
В потолок упрётся.
Душу крик,
А ему неймётся!
Вдруг!
Лезвие
У самых рук.
На руках порезы.
Однако, верьте,
Я не ищу смерти!
Из порезов хлещет крик
Вместо крови
В стихотворной форме.
Пусть!
Поэт не будет мёртв,
Пока стих жив
В сплетениях жил.

