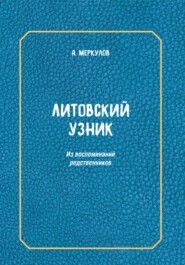скачать книгу бесплатно
Он взял ее за руку, усадил.
– Сиди, не суетись. Сыт я. Вон там торба целая, – он кивнул на небольшой мешок, оставленный им под лавкой, взглянул на стучавшие ходики, – да и поезд скоро. Поговорим лучше. Ведь я здесь с утра. Ходил, гулял, – он усмехнулся; вдруг стал серьезным, печальным. – Знаешь, Маня, всего я в жизни повидал, всего натерпелся. А ходил по кладбищу, плотине, сидел на доте немецком, как раз на моем огороде, все глядел. Камни свалены, «быки» разбиты, колесо ржавое; хрип, помню, надрывал, когда ставили. Орешник старый, мальчонком в нем прятался. Так знаешь, Маня, затрясло меня всего, будто кто душу вынимал, сердце зашлось. Поплакал я там. Тяжело видеть… жить здесь не под силу мне, хоть родимая земля и сердце мое здесь.
Он замолчал, повернулся лицом к темному окну. За ним, в вечерних сумерках сентябрьский ветер качал вершины тополей, с них летели первые желтые листья. За рекой, над гребнем оврага, сквозь деревья темнел силуэт обвалившейся колокольни.
– Ты вот сказал, Егор Тимофеевич, с сыном живешь, – нарушила молчание Марья, – а как же… – она не докончила, запнулась.
– Нет ее больше, Клавушки моей. Два года только и выдержала. – Он вздохнул тяжело, длинно. – Там и похоронили, в чужом краю. Желудком-то она давно мучилась. Там язва открылась. А сына старшего в сорок пятом… Три месяца не дожил…
– Царство им небесное, страдальцам, – Марья перекрестилась, склонила голову. – Упокой, Господи, их души. – Она притихла, спросила: – Как же вы там… десять-то лет?
Егор Лукьянов долго молчал, постукивая пальцами в стол, неотрывно глядя на угасавший в печи огонь, словно не слышал он Марьиного вопроса.
– Дров подбрось, – сказал он наконец, – погаснет.
Марья наклонилась, открыла дверцу, подложила.
– Так и жили, – сказал он, словно отпечатал. – Так и жили, – повторил еще раз с расстановкой. – Строго, пристально посмотрел на Марью: – Врагу своему не пожелал бы жизни такой. Мы там были не люди – скот, хуже скота. Нас можно было унижать, истязать, убивать. Да, убивать. Знала бы ты, Манюша, сколько гниет там костей, сколько сгинуло людей, и каких! А погонщики наши… Я на войне был, фашистов, дела их видал. Дак те не лучше. Злоба и зависть на месте сердца, а в душе пусто. Страшно, Маня, рядом с ними, трудно выстоять. – Он склонил голову, обхватил ее ладонями. – И такие решают жизни наши. До чего дожили.
Он ударил по столу кулаком, Марья вздрогнула.
– Фашистов выгнали, а уж с этой нечистью как-нибудь справимся, – сказал он твердо, с яростью, – посмотрим еще, кто кого. Я им докажу. Второй раз не посадят. Хрип надорву, а жить буду лучше всех. Сын со мной, и невестка не белоручка. Пусть поглядят, лодыри сиволапые. Этим и жить буду. Не успокоюсь, пока не увижу зависть в их злобных глазах.
«Сколько лиха прошел, горя хватил, а веры своей не потерял, – думала Марья, с удивлением глядя на него, на его горящие глаза, плотно сжатые губы. – А где мне взять опору? У него сын, а я одна».
– Горе горькое, сколько его теперь, куда ни глянь. В каждой семье, считай, – сказала она, вздохнув. – Эх, Клава, Клава, чуяла, видно, что не увидимся. Была она у меня тогда, в тот вечер, последний.
Она задумалась, вспоминая.
– Все по избам сидели, боялись выйти, мало кто видел. Мне-то снизу слышно было. Телеги подъехали, грузить стали. Грузили долго. Поняла я тогда, какие это гости. Уж темно сделалось. Слышу, будто кто под кряж слезает. Слез, пошел через реку, тихо так, вода еле плескает, мелко было совсем, плотина, видно, закрыта была. Потом в дверь стукнули. Боюсь открывать. Опять стукнули. Отворила. Смотрю – Господи Исусе – Клавдия. Лица нет, дрожит вся. «Манюша, – говорит, губы трясутся, – забирают нас, пропали мы теперь. Уж не свидимся больше, чует мое сердце. За что наказывает Господь?» Потом заторопилась: «Обратно мне надо скорей, хватятся, искать будут». И сует мне маленькую коробочку. «Маня, – говорит, – последний раз прошу, возьми, спрячь. Останемся живые, Бог даст, вернемся». А я не беру, боюсь. «Клава, – говорю, – как взять, увидят тебя, сюда придут. И нас заодно. Не могу я, Клава, пойми ты, семья у меня». А она плачет: «Не будут это искать, Манечка, поверь мне. Выручи, подруги ведь мы. Кто мне теперь поможет. Может, сыновья живые останутся. Помоги нам, Марья Петровна, помоги, ради Христа». Так и назвала по отчеству. Ну, взяла, одним словом. Простились мы тогда.
Марья встала, прошла в комнату, чем-то там постучала, пошуршала, вернулась со шкатулкой в руках, поставила ее на стол перед Егором Лукьяновым. Пожала плечами:
– Вот, сохранилась. Как зарыла тогда в подполе, так и лежала. Ведь и немцы были. яму-то мою сразу нашли, все выгребли, а это, видно, Бог сохранил, Клавушкина память!
Егор молча глядел на Марью, переводил глаза на шкатулку из темного дерева, на Марью.
– Не ждал, Маня, – сказал он наконец, – не надеялся. Клава-то говорила, да ведь сколько лет прошло. Спасибо. Спасибо за все. За доброту, за сердце твое.
Когда подошло время поезда, он дал ей свой адрес, сказал:
– В чем будет нужда, напиши. И вот еще что. Я постарше тебя. Столько прошел и такое вынес, другим бы на много жизней хватило. Послушай меня. Горе твое большое. Руки опускаются, душа застывает. Но ведь их нет. Кто сохранит память о них, если нас не будет? И ради этого надо жить. Найди себе дело, не сиди вот так одна. Среди людей больше, они помогут, доброе к доброму тянется. Ну а уж невмоготу будет, приезжай к нам, примем в семью, как родную.
Он обнял ее на прощание.
– Спасибо, Егор, на добром слове. Правду говорят – горе роднит. Ну, Христос с тобой, да поможет тебе Господь в твоем деле. Помолюсь за тебя.
Она проводила его до дороги и долго слушала удалявшиеся шаги; вернулась обратно, у крыльца остановилась.
Ночь наступала осенняя, ветреная. Над черным оврагом, у темного неба раскачивались деревья. Сырой ветер срывал с деревьев листья, и они летели вниз, в набухшую от осенней воды реку. У Марьи защемило в груди. «Вот и я, как этот листок, – подумала она, – швыряло по сторонам, а теперь куда несет? Что делать, как жить?» Она вдруг ощутила себя такой одинокой, всеми покинутой, никому не нужной, что у нее замерло сердце от страха и безысходной тоски. «Эх, Егор, Егор, – подумала она. – Если бы я могла как ты. Да не могу. Силы такой во мне нету. Для чего жить. Сказал: ради их памяти. Что ж, видно, только это и осталось».
Глава 9
Послевоенное Староселье не составляло и трети старого. Людей было мало; они еле справлялись с колхозными работами. Председатель, Михаил Бычков, молодой, но дельный, веселый мужик, вернувшийся с войны без руки, встретил Марью радушно:
– Хотел зайти к тебе, да потом думаю – сама придешь, без дела не усидишь. – Он полоснул по шее ладонью: – Задыхаемся, Петровна. Середина сентября, а только половину смолотили. Видала, рожь какая?! До войны такой не было. Отдохнула земля, – протянул он, грустно качнув головой. – А еще картошка на Кружалах, турнепс на Муйских полях. Голова кругом. Помоги, Петровна, помоги. Тебе до пенсии-то сколько?
– Два года, – она махнула рукой, – да какая там пенсия.
– Видно будет, работай. На трудодень-то теперь, правда, не густо, да ведь понимаешь, какое время. На ноги еще не встали. Но встанем, – добавил он уверенно, – должны встать. Надо будет чего по дому, обращайся, поможем, – и он посмотрел на нее ободряющим взглядом.
Отработала Марья два года и ушла из колхоза. На уговоры председателя поработать еще хотя бы год ответила:
– Не привыкла я так, Михаил. Работы не боюсь, ты знаешь. Да обидно. Сколько гнемся, а проку нет. Как сквозь землю. Не привыкла я как-то. Душа не лежит к такой работе. Ты уж не обижайся.
– Ну, как знаешь, твое право, заставить не могу, – сказал он недовольно, – о себе бы подумала, как жить-то будешь?
– Как-нибудь проживу, мне теперь немного надо.
Пенсия полагалась ей, что называется, «слезы одни», зато хлопот по оформлению набиралось много, и Марья не стала ее добиваться.
Летом она ходила в лес за ягодами, грибами, возила в город, продавала. Собирала она быстро, помногу, и на жизнь ей хватало.
Ее тянуло к лесу, вольным полям, лугам. Ее глаза словно заново открывались, обнаруживая вокруг новый мир красоты, смысла, но который, оказывается, всегда окружал ее и только теперь начинал раскрывать ей свои великие тайны. Радостно и благодарно принимала она этот мир в свою душу.
Останавливаясь возле муравейника у старой сосны, оттаявшего, парящего теплом, наблюдала кипучую жизнь его обитателей. Как неосторожно забежал муравьишка в нерастаявший снег, свернулся, как другие муравьи стащили его оттуда на теплую землю.
«Где соображению быть, – думала Марья, – а поди ж ты, какие дружные. Вот бы так у нас, у людей».
Она притрагивалась к застывшей на стебельке бабочке-лимоннице. Солнечный луч нагревал ее, начинали дрожать, шевелиться крылышки. «Так и мы, – думала Марья, – теплом да радостью живем, а в холоде, горе коченеем».
Она смотрела на молодую березку, залитую весенним солнцем, на готовые лопнуть шоколадные почки с зелеными хвостиками, гладила белоснежную кору теплого ствола. «Ожила, родимая», – говорила она радостно и словно чувствовала течение соков в живом ее теле по крохотным, как паутинки, канальцам.
Так она смотрела теперь вокруг, и, хотя все это видела много раз, старое, привычное открывалось ей новыми, неизвестными сторонами. Краски природы приобретали другой оттенок – несли в себе свое назначение; за ними Марья узнавала само движение – прекрасное, совершенное: жизнь земли, воды, лесов, и ей казалось, что жизнь эта лишь немногим, незначительным отличается от ее – Марьиной, человеческой жизни. Это новое ощущение, понимание окружающего стало потребностью души и поддерживало жизнь Марьи, придавая ей какой-то смысл. Без леса она уже не могла, и если не была там день, на другой ее тянуло туда, словно магнитом. Это вошло в привычку. Глянув рано утром в окно и увидев неторопливо бредущую к лесу знакомую фигуру, какая-нибудь хозяйка обращалась к домашним: «Вон, Антиповна уж отправилась, а ты все валяешься, вставай, довольно дрыхнуть». Или к вечеру работавшие в поле колхозники, заметив выходившую из леса Марью, говорили: «Ну, вот и нам скоро домой, шабаш».
Довольно скоро и незаметно, будто бы сам собою, установился для Марьи некий распорядок жизни. С середины весны до поздней осени она пропадала в лесу, зимними вечерами садилась за ткацкий станок, прялку или вязание. Часто ходила на посиделки, где собирались коротать время деревенские бабы.
Год пролетал за годом, и ничто не изменялось в этом установившемся ритме.
Чаше всего она ходила к Катерине Шапковой – ее дочь с семьей жили в городе, и на зиму она оставалась одна. Марья появлялась раньше всех, садилась на свое постоянное место – в старое резное кресло у швейной машины и что-нибудь вязала. Подходили другие женщины. Одни пряли, другие вязали, некоторые приходили просто так, убить время, поделиться редкими новостями.
– Дарья, опять твой стог у станции разворотили, – сообщила Катерина, узнающая деревенские новости одной из первых, – Васька за дровами ездил, видал.
– Знаю, – отозвалась из угла Дарья, – заезжал вчера. Проклятые, накаравши на мою голову, – начала она ругать городских охотников, – дома им не сидится, и мороз их, чертей, не держит. Не жалко, пусть бы спали, дак что творят – вытащут сено из середки, нет чтоб обратно потом впихать – так все и бросят. Тилигенты окаянные. И мой тоже хорош! – перекидывалась она на мужа. – Бестолочь. Каждый год долблю – вези на усадьбу, места сколько хошь. Ставь под навес. Дак разве вдолбишь? Лодырь. Все быстро да кое-как. По реке болтаться с мальчишками – товарищей себе нашел – это по ему. Мань, – обратилась она вдруг к Марье, – половички ты обещала соткать.
– Дак неси тряпки, – не отрываясь от вязания, ответила Марья, – Алешка твой станок справил, как новый выбивает. Неси хоть завтра, сделаю.
– Сделает, куда денется, – засмеялась Катерина, хлопотавшая на кухне у плиты. – Вся деревня по ейным половикам ходит. Вишь, за кофты взялась, одевать теперь нас будет.
– Что ж, Катя, делать мне, – отозвалась Марья, – время-то куда девать? Глаза пока видят, слава Богу. Всё при деле.
– Новость слыхали? – спросила Катерина, заходя в комнату, отирая передником руки. – Говорят, покосы отберут, Михаил вчерась был, тоже намекал.
– Да как же? А скотину чем кормить? – Дарья растерянно оглядела всех. – Не может такого быть.
– Чего ж не может, – вздохнула Катерина, – у нас все может.
Они помолчали: трещали в печи дрова, шипел фитиль в горящей лампаде перед иконой.
– Помнишь, Маня, как коровушек в колхоз вели, – прервала молчание Катерина, – сколько годов прошло, а не забыть.
– Как не помнить, – Марья отложила кофту, стала разматывать запутавшийся клубок. – Крышу еще на скотном кроют, а мы уже ведем. Ночью сон не идет, все сердце изболится. Как они там. Дома-то в тепле, уходе, чистые. Ваня тоже лежит, ворочается. «За Барона не беспокоюсь, – говорит, – трудяга старик, обвыкнет, вот Милка – двухлетка, – норовистая, как приживется?» А я все о Шурке своей. Утром встаем, он на конюшню, я на скотный. Отмоем их, отчистим, соломы подложим. И другие так – чуть утро, смотришь, идут. Каждый к своей животине. Жалко ведь. Двух лошадей свели, корову отдали, телеги, инвентарь весь, станок токарный. В амбаре колхозном все стоял, потом оржавел, выбросили.
– А что было делать, боялись, – вставила Дарья, – кузнец год тужился, все одно, пришлось. Налогов-то брали три раза против колхозной земли. Чего наработаешь, то отдай, кто ж выдюжит.
– Ты толком скажи, Катерина, чего он тебе говорил, – сердито продолжила Дарья, – ведь если правда, чем коров кормить будем, в самом деле?
– Да толком и не сказал. Говорил, будто бумага в район прислана, завтра их там собирают. Может, и не об этом. Ну, кончайте рукоделие, – Катерина направилась в кухню, – самовар готов.
Все уселись за столом. На нем начищенный до серебряного сияния стоял большой пузатый самовар. Он светился блестящими боками с несколькими рядами отпечатанных монет, шумел кипящей водой.
Они долго еще сидели у самовара и под стук чашек говорили о разном: о событиях очень далеких и самых последних, о всяких хозяйственных делах и заботах – обо всем, что было связано с их жизнью и жизнью их деревни.
Бежали, летели годы, но мало что нарушало установившееся течение ее жизни. Случалось, больше по осени, появлялись охотники. Марья не отказывала им, пускала на ночевку, хлопотала, всех устраивала. Ей нравились эти люди – веселые, увлеченные, привлекала в них любовь к лесу, природе.
Два или три года сдавала она комнату одному ученому-биологу – веселому, добродушному человеку, ходившему, бывало, по деревне всегда в одном и том же наряде: коротких кирзовых сапогах, старых шароварах, длинном суконном пиджаке и соломенной шляпе. Все дни он пропадал на реке или озерах – ловил рыбу, по вечерам сидел, писал. «Шибко ученый человек, – говорила Марья бабам, – все пишет, пишет. Все-то про наш лес знает, что ни спроси, все знает!» На ее вопрос, почему он приезжает всегда один, есть ли у него семья, он засмеялся, ответил: «Есть, Мария Петровна, всё есть, и семья есть, и дача есть. Вот они там и отдыхают. Им там лучше». Он посмотрел на Марью, в ее добрые, обеспокоенные глаза, добавил: «Да все, Мария Петровна, у нас хорошо. Просто для меня здесь спокойней. Поработать можно, порыбалить, люблю это дело. Деревенька ваша, как медвежий угол, вся в лесу. Город рядом, а будто в другом мире, тихо, спокойно – благодать».
Когда уезжал последний раз, обещал приехать еще, но так больше и не появился.
Навешал Марью и Павел Шишов. Женился он на третий год после войны, растил двоих сыновей, однако память о своей молодости, о Насте осталась в нем, и его тянуло в старый Антипов дом. Он снабжал Марью дровами, весной и осенью помогал с картошкой, но чаще заходил просто так, узнать, не надо ли чего, а то принять стаканчик-другой крепкой горьковатой браги, большая бутыль которой всегда стояла у Марьи под кроватью.
Здоровье ее понемногу слабело, убывали силы, их уже не хватало содержать прежнее хозяйство. Ее двор пустел, лишь несколько кур с драчливым краснохвостым петухом копошились и расхаживали по обширной усадьбе. Она сократила посадки до небольшой полоски картофеля, нескольких грядок овощей, остальное постепенно зарастало травой, дерном. Но свой небольшой палисад она содержала в образцовом порядке; следила за яблонями, кустами смородины (хотя большую часть сбора отдавала соседям), выращивала великолепные сортовые цветы – любила и умела это делать.
Глава 10
Потом появился Петька Грушин.
Он видел, как Марья часто пыталась задержать его у себя подольше, иной раз эти попытки своей открытой наивностью вызывали у него смущение. «Вот уйду, – думал он, – чего она будет делать, об чем думать?» – и он представлял себе черную осеннюю ночь, ветер за стенами безмолвного дома, одиноко присевшую на скамью старушку наедине со своими мыслями.
«Мам, я сбегаю к бабке, чего-то она просила», – говорил он матери. «Иди, иди, сынок, – отвечала она, – снеси ей заодно…» – и давала ему когда баночку меда, когда осьмушку чаю. Потом заглядывала в окно, смотрела на его уверенную, быструю походку, и радостная, теплая волна прокатывалась в ее сердце.
Сначала Петька стеснялся принимать эти Марьины приглашения, но потом, когда увидел, что она огорчается, даже сердится, ему стало неудобно отказываться. Да и как отказаться, если на столе чугунок исходящей паром рассыпчатой картошки и тарелка груздей, солить которые бабка была мастерица. Скользкие, белые, как свинина, хрустящие, с запахом чеснока, смородинного листа, они горкой возвышались в тарелке, маня к столу.
Петька садился на табурет под небольшую картину в бронзовой раме – это была хорошая копия с пейзажа Левитана «Март» – ее подарил Марье один охотник, живший у нее прошлой осенью.
А Марья садилась у окна. В запотевших темных окнах расплывались огни деревенских изб. От горевшей печи веяло теплом, где-то пел сверчок, на низком протертом диване сидел кот и намывал гостей. И Петька ощущал приятное чувство уюта, душевного покоя.
Марья всегда что-нибудь рассказывала. Хотя Петьке не все было интересно, слушать он старался внимательно. Он заметил одну странность в Марьиной памяти; это удивило его сначала. Годы детства, молодости она помнила живо, отчетливо, точно было это вчера. Мирную довоенную жизнь она тоже любила вспоминать, но годы последних десятилетий помнила смутно. Несколько раз Петька просил ее рассказать о том, чему сам был свидетелем, и обнаружил, что события, разделенные годами, представлялись Марье рядом, а действительно происшедшее одно за другим – разлетались на годы. «Не спрашивай ее о войне», – однажды сказала ему мать, и хотя как раз эта тема интересовала Петьку сильнее других, он никогда ее не касался.
– Баба Маня, а как раньше в деревне жили? – спрашивал Петька, наливая чай в широкое, облитое синей глазурью блюдце, поглядывая на спокойное лицо Марьи, на ее сухие жилистые руки, как они, чуть дрожа, маленькими щипцами кололи сахар на мелкие квадратные кусочки.
– Как сказать, Петя. Хорошо жили, грех жалиться, – Марья положила в рот сахарный кубик и, отхлебнув из блюдца горячий заваристый чай, продолжала: – семья наша по тому времени обыкновенная была: три брата, две сестры, родители. Жили хорошо, – повторила она еще раз, – все у нас было. Хлебушко свой, мясо тоже свое, молока сколько хошь. Хозяйство было: две коровы, лошадь, мирского быка держали, овцы, поросята, само собой. В чем нехватка была – в лавке брали. У Харитоновых. Всякие там были товары: баранки, селедки, керосин, соль, ситец разноцветный. В город ездили больше по весне. Нагрузит отец воз стульев и везет продавать. Брат Федя на станке умел, а Ваня мой резчиком. Такие фигуры вырезывал, – загляденье одно, богатые делали стулья. Из города едет, всем подарки везет, никого не забудет. Кому на сарафан, кому сережки иль колечко, кому сапоги. Хороший был отец у нас, добрый. Но строгий, правда. Бывало, как глянет: «Девки, всё о женихах? За дело, за дело», – все гулянки из головы вылетают. Недосуг гулять было, работа ждала, – Марья вздохнула, задумалась.
– Выходит, баба Маня, вы кулаки были? – спросил Петька. – Не все же в деревне жили хорошо?
– Не знаю, Петя, кулаки аль не кулаки. Как по-теперешнему-то, вам, молодым, сподручней сообразить. Тогда мы об этом не думали. Теперь пошел да купил хлеба сколько надо, а, бывало, за этот хлебушек, Петенька, о-ой сколько потов прольешь. Землю обделать надо, засеять, вырастить, сжать, обмолотить, смолоть на мельнице. Так со всяким другим делом. Вспомнишь, как работали, и не верится – откуда силы брались. Хозяйство по дому на матери да на мне, сестра младше была. Еще до солнца далеко, а мама уже зовет: «Манюша, вставай». И начинается верчение. Одной воды принести двенадцать ведер надо, скотину напоить.
Всё бегом, во всех углах дела, отдыхать недосуг. Накрутишься за день, ноги гудят. Сунешься где-нибудь, подремлешь минутку, опять на ногах. А к вечеру, другой раз, на покос бежишь мужикам помогать, четыре версты туда – по Алешину ручью наш покос был.
Марья налила себе и Петьке еще по чашке, долила заварной чайник, дрожащей рукой подняла и поставила его на самовар. Лицо ее осветила задумчивая улыбка.
– А хорошо было, хорошо! Работают, бывало, ребяты в мастерской. Как запоют! Голоса у всех хорошие, особенно у Кости, запевал всегда. Мы идем, слушаем. За столом как соберутся все – свои, родные – полная комната. Мама сидит веселая, глядит на нас, скажет другой раз: «Какие вы все хорошие, красивые, сердце радуется на вас глядеть. Всегда бы так было». А отец смеется: «Куда ж, мать, они от нас денутся. Так всю жизнь и будут рядом тебя крутиться».
– Зимой, ясное дело, работы меньше было, – продолжала Марья, ребяты ремеслом занимались, а мы шили, пряли, ткали. На девишник сходились больше у Захаркиной Алены, царство ей небесное. Девок много, прялки гудят. Ребяты приходили, сидят, нас веселят, а то песню запоем. Хорошо получалось.
После картошки с груздями и двух больших чашек чая Петька сидел неподвижно, подперев рукой щеку, и слушал. От своего деда Панкрата он знал о жизни старосельцев в те далекие времена, вспоминал, как светлело дедово лицо, когда он говорил о своей молодости. Петька смотрел на Марью и думал: «Чего они радуются той жизни? Как лошади работали. Об чем жалеть? А жалеют, видно. Дай ей теперь ту силу, старое хозяйство, опять стала бы так работать. Чудные старики наши».
А Марья продолжала:
– Конечно, были бедные. По-разному жили. Были такие, что из нужды не вылезали. У одного жизнь не складывалась, другой вино любил. Были такие, что работать не хотели. Откуль тогда возьмется? Ясное дело, ничего не будет тогда. Если семья дружная, крепкая, все работают – нехваток не было, в достатке жили. Мельник Егор Тимофеич, два сына у него с невестками. Плотину сладили, мельницу, все как надо: вешняки, заплоты, ручей выкопали, камнем обделали. Все своими руками. Дом большо-ой, на горе стоял, сад, деревья всякие. Пожалуй, что жили они – справней всех. Электричество у них было, а у Марьи Балдошихи, Еремы Кривого лучину в святцах жгли – на керосин не хватало. Харитоновы – лавочники, тоже не бедней были. Кузнец Аким Степанович. Ремеслом занимались – прибытком разным. Зимой кто в город на извоз подряжался, кто в артель поступал – ходили по деревням; кто лес валил, а по весне со сплавом ходили. Что говорить, крепко работали, мужикам нашим доставалось.
– Баба Маня, чего ж хорошего, что вы много работали? – не выдержал Петька. – Теперь всякие машины придуманы. Батька мой отбарабанит восемь часов в совхозе и свободен. Хочешь хозяйством занимайся, хочешь отдыхай. Разве плохо? А ты вроде как об той работе мечтаешь.