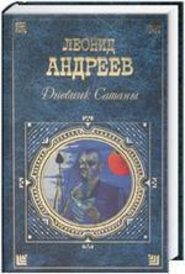скачать книгу бесплатно
– Да, бывал. Он часто бывал у папы.
– И вы были ему рады?
– Генерал любил его. Хочешь еще чаю?
– Спасибо, – говорит Саша и еще раз повторяет: – Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала… – Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку. – Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал… Как ты думаешь, мама?
Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом – о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:
– Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.
И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, – скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки:
«Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, – как насмерть испуганная ночная птица.
– Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! – взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, – запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.
Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность – о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:
– Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал… Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.
– Хорошо. Саша, Сашенька… Ну, а как же отец?
– Генерал? Генерал умер.
– Не называй его так.
– Это правда. Отец? Отец, да… Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?
Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.
– Я люблю его.
– А простить – нет?
Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаться, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, защекотало – и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.
Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце – того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:
– Можно поцеловать тебя, Сашенька?
И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?
То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, – о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!
– Говори, говори, Сашечка!
– Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты…
– Говори, говори, Сашечка!
Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!
Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.
Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее – и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.
Да, это он, отец – этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, – в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его – громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю. Это отец, да.
А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков – почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы – то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издалека послышатся гулкие приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.
И она сказала, что любит его – не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, – любовь? – ненависть и гнев? – запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним… не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!
Однажды на смотру, на каком-то маленьком, не особенно важном смотру был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услыхал хриплое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна – ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:
– Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!
А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!
«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! – думал Саша, стискивая зубы. – Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете… Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»
Потом Саша думал, уже засыпая:
«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! – ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно… что свойственно русским? Ах, Боже мой – да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»
И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «…Не лобзания Ти дам, яко Iуда, но яко разбойник исповедую Тя…» Хор запел: – Аминь!
И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.
8. Бесталанные
Это было в марте, в воскресенье.
Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» – думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окаянная. «Ну и дом!» – подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит – как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».
– Что же вы стоите? – крикнула барышня. – Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!
Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.
– Погодин, гимназист, здесь живет?
– Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.
– Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.
– Знакомый? Очень рада. Пожалуйте!
Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, – покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, – я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожься». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, – только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»
– Мама! – сказала Линочка, знавшая мысли матери и не одобрявшая их. – Надо же показать, куда идти. Сюда идите… Саша, к тебе знакомый.
Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.
– У вас тут, того-этого, совсем Венеция, – сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, – только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!
Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! – и ответила:
– Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотах.
– Пойдемте ко мне, – сказал Саша, вставая.
Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недоеденный хлеб и сурово промолвила:
– Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.
– Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.
После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:
– Весна!
Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.
– Ваша мама меня боится, а сестра нет, – сказал Колесников и снова со вздохом повторил, – весна!
– Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.
– Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заприметили. А я заприметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.
Саша слегка покраснел:
– Где же это было? Я не помню.
– Там! – ответил Колесников, придвигая стакан чаю. – Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это врали, они просто струсили.
Лицо Саши потемнело:
– Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.
– Меня зовут Василий Васильевич, – сказал Колесников, – я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.
– У меня тоже нет талантов, – сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.
И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:
– Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?
– Нет, сестры.
– Сестры? Молодец сестра!
Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:
– Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.
– Никакого. Я и говорить не умею.
– Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!
Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.
– Боже ты мой! – гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. – Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, – вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!
Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:
– Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.
– Давайте стакан, я принесу горячего.
– Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.
– У меня свой есть, – сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.
У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.
– Да! – сказал он со вздохом, – времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.
– Повешена?
– Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.
Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.
– Славные у вас сапоги! – сказал он Саше и сам себя спросил: – Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.
Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и налепил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.
– Не всякий может, – сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша, – думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».
Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:
– Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?
– Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.
Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал – две пули, одна возле другой.
– И это не талант? – воодушевился Колесников, – подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.