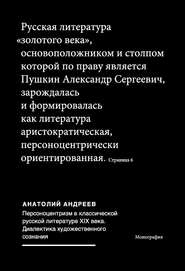скачать книгу бесплатно
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты. И т. д.
Это как раз те самые «различные вериги» (идеологические, конечно, вериги), та самая идеализация человека, когда желаемое искренне выдаётся за действительное; возможна она только при условии дремлющего, незрелого ума.
Вместе с тем вериги (надежды и мечты), сильно греша против истины, всё же не могут не пленять своей наивной чистотой, являя нам, возможно, лучшие стороны человека. Лучшие – но «минутные», преходящие. Евгений, согласно тонкому комментарию автора, уложившего, разумеется, свои наблюдения в изысканные по простоте формулы, – наш Евгений блестяще разобрался во всей этой человеческой, насквозь противоречивой стихии:
Он слушал Ленского с улыбкой.
………………………………
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придёт;
Пускай покамест он живёт
Да верит мира совершенству.
Анализ начальной фазы отношений двух пустынников – одно из самых ярких свидетельств человеческой состоятельности Евгения Онегина, значимости его личности, глубины натуры. При желании этот анализ, если бы он не был настолько демонстративно анализом, можно было бы рассматривать как сдержанное признание в дружбе и любви третьего пустынника – автора. (В данном контексте вполне ясным становится смысл снисходительно-иронического авторского эпиграфа к первой главе, относившийся к Онегину, который во времена своей легкомысленной юности во многом напоминал теперешнего «страстного» Ленского:
И жить торопится, и чувствовать спешит.)
Но сам автор сочтёт более подходящим для откровенного признания другой момент. Сразу после трагической кончины Ленского (к которому ещё совсем недавно с высшей степенью человечности отнёсся Онегин) автор проронил: «Хоть я сердечно Люблю героя моего..»..
Странно, не правда ли?
Как видим, Пушкин (конечная мировоззренческая инстанция) не просто обнаружил и противопоставил «ум» – «сердцу»; это и до него делалось многократно. Он показал, как одно вытекает из другого, он разъяснил, что одно без другого – не существует; он художественно доказал, что всё познаётся в сравнении и существует только в движении, в процессе развития. Всё рождается движением, есть момент движения и растворяется в движении. В человеке, особенно богато одарённом, нет «беспримесных» и неизменных качеств, поэтому противоречивое их отображение является одновременно адекватным отражением. Непротиворечивый же, идеальный взгляд на человека становится источником вериг независимо от чистоты намерений. Такова пушкинская модель человека, в которой благие намерения превращаются в вериги, проза – в стихи, пламень – в лёд, автор – в героя, дружба – во вражду, равнодушие – в любовь и т. д.
Дав множество намёков, скрытых «противоречивых» ходов, Пушкин чем дальше, тем яснее обнажал оборотную сторону любого душевного жеста. Пусть бегло, вскользь, в скобках, но непременно будет указано (это делают герои-философы: автор и Евгений) на диалектическую изнанку состояния, намерения. Вот примеры из середины романа, из четвёртой главы:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей;
…………………
Где скучный муж, ей (жене – А.А.) цену зная,
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
…………………
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
В пятой главе автор, аналитически внедряясь в загадочную душу человека (в т. ч. в женскую душу), «роняет» коренную формулу, к которой восходят все иные формулы, применяемые к частным случаям. Пушкин обобщает:
Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она (Татьяна – А.А.):
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Что же объединяет все названные (и, естественно, не названные, но присутствующие в романе) противоречия разных порядков и уровней? Вопрос может звучать иначе: что составляет суть недуга главного героя ключевого романа русской литературы?
Все духовные противоречия являются модификациями, разными ликами одного кардинального противоречия – между психикой и сознанием (сердцем (душой) и умом в поэтической терминологии), делающим человека одновременно великим, комическим и трагическим. «Взаимная разнота» (творящая, добавим, целостную модель, держащуюся именно на противоречиях) психики и сознания в личности, личности и «толпы», личности и личности – вот истинный предмет Пушкина. Не Онегин его интересует, а сущность или природа человека, ярко и отчётливо проявившаяся в Онегине.
«Взаимная разнота» – двигатель всего, поэтому у романа есть и космический план, вселенский подтекст, намёк на связь всего со всем (ритм времён года, высокая городская культура (от Гомера – до современного романа) и вечная природа, мужчина и женщина, мыслитель и поэт и т. п.).
С этих позиций мы и будем оценивать все человеческие контакты Евгения, ставшие фактором его эволюции.
«Склонность к противуречию» – это не просто «холодное наблюдение», но полнокровно переживаемое трагическое мироощущение, которое явилось следствием акта познания себя. Подобные открытия делаются в состоянии, которое Печорин, откровенно ведущий свою родословную от странного героя Пушкина, впоследствии удачно определил как «высшее состояние самопознания» («Княжна Мери»).
Стихотворный роман, конечно, реалистичен, но реализм его видится прежде всего не в том, что ему удалось отразить «социальное разочарование» и всё углубляющийся «скептицизм» [18 - Поспелов Г.Н. «Евгений Онегин» как реалистический роман // Вопросы методологии и поэтики: Сб. Статей. – М.: МГУ, 1983. – С.284.], что он верно отразил «социальную коллизию… эпохи» [19 - Там же, с.282.], а в том, что духовно-идеологическое измерение человека показано в зависимости от витального и социального. Причём комплексное воздействие на человека показано всесторонне и в принципе не сводимо к социальной, да ещё понимаемой как классово-социальная, доминанте. Делать Онегина символом реакционного и прогрессивного противостояния конкретных социальных сил конкретной эпохи – значит безнадёжно обеднить реальное содержание романа, да к тому же существенно исказить суть великого конкретно-исторического принципа познания. Конкретно-исторический – значит не только «классово-социально конкретно-исторический» (подобная абсолютизация одной коллизии – ортодоксально идеологична), но и духовно-исторический, Вечно-духовное тоже всегда имеет конкретно-исторический облик. И гениальность художника заключается в том, сумеет ли он разглядеть за коллизиями конкретно-историческими (социально-политическими, моральными, экономическими, религиозными и т. д.) вечную коллизию человека, сквозь преходящее – вечное. Что главное, какая система ценностей является определяющей? – вот в чём вопрос. Социальная коллизия в «Онегине» – второстепенна, хотя и вполне отчётливо ощутима.
Глубина реализма заключается в степени приближения к действительной глубине и сложности природы человека, в степени овладения логикой генезиса, механизмами формирования и развития личности. С этой точки зрения и классицизм, и романтизм, и модернизм и т. д. – в известной (всегда разной) степени реализм, но реализм, сильно искажённый моноидеологией, отражающей только лишь одну из сторон многогранного человека. Всё это можно было бы назвать «идеологическим реализмом», учитывая то, что элементы реализма всегда присутствуют.
Реализм как таковой тяготеет к внеидеологическому подходу или по крайней мере стремится выработать некую универсальную сверхидеологию, в рамках которой уживались бы и «снимали» противоречия идеологии, тенденциозно «сужающие» реального человека.
Из-за опасной по отношению к идеолгии (как правило, господствующей идеологии) аналитической установки классический реализм короновали невиданным для искусства определением: критический. Степень реализма, как это следует из его разбора, т. е. степень его идеологической ангажированности, – всегда разная. Универсальная система ценностей, выстраиваемая как принципиально внеидеологическая система, в искусстве чрезвычайно редка. Такой подход – предел искусства – можно охарактеризовать как оптимальную абсолютизацию критическо-аналитической установки, т. е. установки собственно научной.
Степень реализма пушкинского романа – беспрецедентна для мировой литературы.
Активно скучающий Онегин, если угодно, ищет ту систему ценностей, которая могла бы хоть как-то удовлетворить критериям величия, соответствующим мере его понимания. Один из пиков духовного развития Евгения Онегина приходится на то памятное «северное лето», когда наш герой жил «анахоретом» (глава четвёртая). Он неоднократно «явил души прямое благородство»: и в отношениях с Ленским, и в отношениях с Татьяной Лариной, от которой получил письмо-признание в любви. Это был момент относительной гармонии и внутреннего равновесия, когда Онегин предался «беспечной неге». «Вот жизнь Онегина святая», – резюмирует автор.
Однако «красные летние дни» мелькнули и сменились своей противоположностью: «И вот уже трещат морозы» (таково противоречивое единство мира). Онегин «вдался в задумчивую лень». Но задумчивость эта не была ещё разрушительной ни для него, ни для людей его окружающих. Напротив: именно в эту зиму он был согрет дружбой Ленского.
Евгений терпимо (до мудрости ему было ещё далеко) относился к людям, которые считали себя счастливыми, прекрасно осознавая подоплёку такого их душевного состояния. В заключительной строфе четвёртой главы Пушкин в своём неподражаемом художественно-аналитическом стиле даёт сначала формулу-образ счастливца, а затем его антипода, терзающегося от комплекса «горе от ума»:
Он (Ленский – А.А.) был любим… по крайней мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылёк,
В весенний впившийся цветок…
Счастливое состояние Татьяны складывается из тех же извечных психологических (иррациональных) компонентов: – веры, надежды, любви:
Ты в ослепительной надежде,
Блаженство тёмное зовёшь,
Ты негу жизни узнаёшь,
Ты пьёшь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты…
(В заключительной сцене романа Татьяна скажет: «А счастье было так возможно, Так близко!.».)
Онегин понимает, что счастье «преданных вере» и «ослепительной надежде» (реальность, как мы знаем, не соответствует из желаниями) – удел человека комического, слепо идущего на поводу у потребностей и видящих только то, что хочется видеть. Однако и человек мыслящий платит также по-своему роковую цену за «благо» прозрения:
Но жалок то, кто всё предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чьё сердце опыт остудил
И забываться запретил!
Что значит «движенья» и «слова» в их «переводе»? И почему их надо «ненавидеть»?
Перевод движений и слов души может быть только на язык мысли, которая безжалостно обнажает перед сознанием (решающим завоеванием культуры) «жалкий» механизм веры. Человек всякий раз вынужден признаваться себе, что он игрушка страстей, что он раб природы, которая вуалирует жесткий диктат под «благородными порывами». Поэтому мыслящий человек обречён ненавидеть себя комического – и в этом он велик. «Ненависть» делает его в чём-то свободным от природы, ибо он «предвидит» порядок её действий; но он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. В этом – источник его трагизма.
Счастье возможно только в обмен на величие; великая, мыслящая, разумная личность – обречена на трагизм («жалок тот»). Если принять во внимание амбивалентную интонацию, совмещающую полярную семантику, то «жалок» – взгляд «стократ блаженных»; лукавый же авторский гимн «пьяным путникам на ночлеге» – на деле является убийственной характеристикой безмозглым, но безобидным, «мотылькам», порхающим по поверхности жизни.
Пока ещё Онегин находился в стадии «мягкого» просветлённого, пусть и не оптимистического трагизма. Но это была зыбкая, неустойчивая доминанта его жизни. Далее начинается принципиальное расхождение с автором, избравшим, как мы убедимся, иной вариант развития той же ситуации горе от ума. Впрочем, нам неизвестно, удалось ли автору в возрасте и ситуации Онегина избежать его зигзагов, и не были ли именно эти зигзаги ценой очередного прозрения автора.
В конце шестой главы автор, не осуждая впрямую своего любимого героя (тут мы вполне оценим реплики вроде следующей: «Сноснее многих был Евгений»), даёт, тем не менее (истина – дороже), свой, характерно пушкинский вариант прощания с юностью, которая кончилась, как и у Онегина, тогда, когда «сладкие мечты» сменились «хладными мечтами»:
Мечты! Мечты! Где ваша сладость?
Где, вечная к ним рифма, младость?
Обратим внимание: нет ехидной вражды к комизму, похожей на самобичевание; есть естественное сожаление:
Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
И, наконец, отношение к неизбежному, примирение с непоправимым:
Но, так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился… и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
«Новый путь», «новая печаль», «иные желания» – вот перспектива, исполненная разумно-оптимистического трагизма. Простившись с юностью, автор, понимая, что жизнь и глупость, младость и страсть – едины и неделимы, настойчиво заклинает «младое вдохновенье»:
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И, наконец, окаменеть.
Автор как бы вскользь (все серьезное в трагикомическом романе говорится бегло или в шутку) демонстрирует нам удивительное отношение, крайне редкое, хотя, в сущности, нормальное: с достоинством принимать естественный ход вещей и при этом называть вещи своими именами. Именно такое отношение позволяет ему не ронять нравственный свой авторитет, не боясь при этом признаваться в слабостях. Между прочим, впервые мотив должного отношение к «легкой юности» и понимания ценности комизма прозвучал еще в конце второй главы:
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда…
Между прочим, тогда же, уйдя от «мятежной власти страстей», Онегин говорил о них «с невольным вздохом сожаленья».
Однако всё меняется роковым образом в пятой главе. Многослойный смысловой контекст для последующего сюжетного хода выписан настолько тщательно и продуманно, что содержательность его гораздо более значительна, чем вмещает сюжетный ход как таковой. Ленский вызывает Онегина на дуэль из-за дерзкого и, как показалось влюблённому поэту, оскорбительного поведения Евгения на балу в честь именин Татьяны. Онегин принимает вызов и убивает друга. Внешне всё выглядит случайным и маломотивированным. И тем не менее «суммы смыслов» и в этом моменте целостного романа поражают целенаправленной сконцентрированностью.
Прежде всего самим именинам и последующим событиям предшествует пророческий сон Татьяны. Сон, несомненно, художественно неоднозначен и многопланов, однако главное в нём лежит едва ли не на поверхности: он подчёркивает иррациональность, необъяснимость событий, их хаотическую импульсивность, неподвластную уму. Не мистическая предсказанность впечатляет более всего, а именно реализация нелепого, «чудного», «страшного» сна (вспомним, что означает жизнь есть сон). Что произошло? Что послужило первопричиной столь неожиданных событий?
Причина будет уяснена тогда, когда мы оценим момент судьбы Онегина в контексте его жизни как завершённого целого. Итак:
Чудак, попав на пир огромный, (т. е. за стол – А.А.)
Уж был сердит.
«Траги-нервическая» реакция Татьяны ещё более раздосадовала «чудака»:
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Онегина, казалось бы, раз и навсегда избавившегося от «мятежной власти» страстей, вновь захлёстывает волна эмоций. Причём он попал под чары самых низменных, капризно-эгоистических (все страсти по природе своей эгоистичны) страстей. На смену хандре и скуке – взрыв агрессивных чувств.
Где логика: за что надо «порядком» мстить несчастному Ленскому? За то, что тот за дружеским бокалом вина передал ему приглашение Лариных?
Это, конечно, повод, нелепый, как сон, и только на первый взгляд имеющий логическую форму. Сам характер и, так сказать, стиль мести многое говорит об истинных причинах, вызвавших её. Сначала двусмысленный, «чудно нежный» взор очей в сторону Татьяны; потом, согласно «науке страсти нежной», по всем правилам флирт с Ольгой.
Ленский мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждёт.
Цепная реакция гибельных эмоций мгновенно докатилась до естественной своей высшей точки: «нетерпеливая вражда» неминуемо кончается взаимоистреблением.
Пистолетов пара,
Две пули – больше ничего —
Вдруг разрешать судьбу его.
Рецидивы страсти вновь превратили Онегина в человека комического, легко опрокинув уже сформировавшиеся представления о том, что значит быть «мужем с честью и умом». Причём в Онегине взыграло самое тёмное, животное начало (он «ощетинился как зверь»).
Вдруг, внезапно, без видимой причины его взманило «смертельное».
Невидимая же, подспудная причина (если мы правильно подобрали ключ к зоне, где формируются мотивы поступков) заключается в следующем. Очевидно, Онегин в тот период, в отличие от умудрённого автора, так и не смог найти формулу сосуществования и взаимообогащения «сердца» и «ума». «комизма» и «величия». Ум лишь выставлял Евгению человека в «идиотском» свете, компрометировал неразумную жизнь, только лишь «ненавидя» унижающие мыслящего «мужа» уловки (мечты, надежду, веру, любовь, счастье), но не разглядел в глупой жизни союзника умному человеку.
Онегин, иначе говоря, развёл психику и сознание (уже эта духовная вершина даётся очень и очень немногим: «Немногих добровольный крест»; понимая это, автор сполна воздаёт должное своему герою), но далее констатации «взаимной разноты» не пошёл. Он поставил психику и сознание к барьеру, видя в них непримиримые начала, не понимая того, что они могут ужиться в человеке и стать источником «новой печали». Величественная трагедия как норма (умножая мудрость – умножаешь печаль) – до этого наш герой, увы, ещё не дошёл.
Глубинная ошибка Евгения, если уж нам, следуя авторской традиции, называть вещи своими именами, состоит в том, что он сделал ставку на интеллект, разочаровавшись в человеке комическом. Прозрение его приняло форму недуга именно потому, что он, обретя в разуме достоинство, поставил вопрос: или – или. Постигнув идею «порядка», он стал настойчиво искать разумную систему ценностей, которая могла бы привести его к счастью. Однако жизнь и судьба (а если уж быть точным – вся человеческая культура) предлагала ему, умному человеку, представление о счастье только в одной форме: в форме идеологии. Хочешь быть счастливым – верь в свои иллюзии, в «призраки».