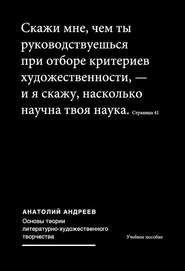скачать книгу бесплатно
Основы теории литературно-художественного творчества
Анатолий Николаевич Андреев
«Учебный курс «Основы литературно-художественного творчества» можно понимать двояко. С одной стороны, подобную формулировку можно трактовать как практическое руководство художественным творчеством, как некое подспорье для начинающих писателей или своего рода «мастерскую», где обсуждаются способы и приемы литературного творчества. «Основы творчества» приравниваются к мастерклассам, которые уместны, скажем, в Литературном институте…»
Андреев А.Н
Основы теории литературно-художественного творчества
От автора
Учебный курс «Основы литературно-художественного творчества» можно понимать двояко. С одной стороны, подобную формулировку можно трактовать как практическое руководство художественным творчеством, как некое подспорье для начинающих писателей или своего рода «мастерскую», где обсуждаются способы и приемы литературного творчества. «Основы творчества» приравниваются к мастерклассам, которые уместны, скажем, в Литературном институте.
С другой стороны, название курса можно понимать как введение в теорию творчества, как попытку научно разобраться в природе функционирования художественного сознания, так сказать, нехудожественно отнестись к художественному.
Очевидно, наличие этого курса в университетских программах (по крайней мере – как спецкурса), и не только университетских (гуманитарные факультеты филологической, журналистской и искусствоведческой направленности всех вузов так или иначе имеют дело с «Основами литературно-художественного творчества»), предполагаемое учебными планами, одобренными Министерством образования Республики Беларусь, уже свидетельствует о том, что курс этот следует рассматривать в контексте научно-гуманитарного, а не художественного, образования.
Именно с этих позиций и написано предлагаемое учебное пособие. В живой и свободной форме (что ни говори, а литературно-художественное творчество сложно регламентировать даже как предмет изучения) в книге изложен самый разнообразный материал по заявленной проблематике. Акцент сделан на выявлении закономерностей художественного сознания, которые затем специфически сказываются на практике поэтического (стихотворного) и прозаического (речь идет о художественной прозе) творчества. Закономерности эти сложны и противоречивы – диалектичны, говоря научным языком. И эту живую диалектику и пытался зафиксировать автор в меру возможностей.
Уже только перечень аспектов, отраженный в содержании, говорит о многомерности подхода к феномену литературной художественности. Здесь и связь литературы с архетипами, и критерии художественности, и научный дискурс метафоры «глубина художественного содержания», и психологизм в литературе, и литература как тип управления информацией, и психоделия в ее отношении к художественности, и возможности романа, и алгебра гармонии (целостный анализ художественных текстов – в частности, Пушкина, Булгакова, Шолохова, Набокова, Маяковского, Бродского, Пелевина), и многое другое.
Поскольку объять необъятное невозможно, но можно выделить в необъятном главное (и тем самым отчасти «объять»), – в этом и видел свою задачу автор. Подход к художественному сознанию как частному моменту универсальной культурологической проблемы, которую можно сформулировать как «психика и сознание: два языка культуры»; или «художественное как способ управления гуманистической информацией»; или «взаимодействие научного и художественного типов освоения мира» – такова наша научная стратегия. Это позволяет, с одной стороны, избежать поверхностной описательности (эссеистической, малонаучной по своему характеру), а с другой – обойтись минимумом философско-культурологических выкладок концептуального характера. Необязательная описательность и неоправданная фундаментальность запутывают студентов и резко снижают интерес к научной дисциплине. Впрочем, относительный недостаток «фундаментальности» (если кому-то так покажется) легко исправить, обратившись к литературоведческим и философским работам автора пособия, в которых системно изложены его взгляды на исследуемые проблемы. Список обязательной и рекомендуемой литературы прилагается.
Таким образом, предлагаемое учебное пособие является авторским в том отношении, что в нем оригинально реализуется научный подход, и в то же время неавторским, потому как магистральные противоречия в науке не могут быть приватизированной авторской территорией, они никому не принадлежат. Второе в известном смысле гарантирует объективность, а первое предполагает необходимую оригинальность (служащую всего лишь мерой субъективности). Важно быть научным, тогда неизбежно будешь оригинальным; оригинальность же без науки – эссеистика.
Что получилось из теоретически выверенной задумки – судить читателю.
Вместо введения. Законы гуманитарных наук
Все знают, что в гуманитарных науках нет законов, если не считать законом то, что в них почему-то нет законов. Однако законы диалектики – закон единства и борьбы противоположностей, переход количества в качество и закон отрицания отрицания – функционируют в качестве таковых и в гуманитарных науках, в сфере, где как будто нет законов.
Уже одно это обстоятельство должно заставить исследователей попытаться отыскать частные проявления общих законов диалектики. Общее всегда проявляется через частное, универсальное – через уникальное, закономерное – через случайное, сущность – через явление: это закон целостности (модус или частное проявление закона единства и борьбы противоположностей). Как фантомная абсолютная истина задаёт реальное содержание истинам весьма и весьма относительным, так и общие законы диалектики «программируют» наполнение законов частных, гуманитарных.
С появлением «воли к методу», и, вследствие этого, с возникновением перспективной целостной методологии появляются основания и для того, чтобы всерьёз ставить вопрос о гуманитарных законах (или законах, позволяющих гуманитарным дисциплинам претендовать на статус наук). Очевидно – такова «нестрогая» специфика гуманитарного знания – гуманитарные законы могут существовать только как циклы или своды законов, что отражает необходимость постижения тотальности через ключевые её моменты.
Философский подход к художественной литературе, выдвинутый еще Аристотелем (но «отложенный» на 18 столетий в связи с тем, что культура развивалась преимущественно как художественная культура, как культура моделирующего, поэтического сознания), в свете целостного подхода выявляет свою непреходящую актуальность. Основные понятия, введённые Аристотелем, – «мимесис» (подражание) и «катарсис» (очищение) – ориентированы на человека, на личность. Как их ни интерпретируй – они являются параметрами личности, которая возможна как феномен только на основе информации духовного (не телесного и не психологического) порядка. Личность характеризуется тем, что регулирует свое поведение «от сознания», в соответствии с максимально постигнутым данным индивидуумом «уровнем законности», с «порядком вещей», – то есть в соответствии с объективно царящими в мире законами. Мыслить законами – это и есть способ жизнедеятельности личности. Человек-«неличность» «мыслит» (то есть неэффективно мыслит) явлениями, образами, необобщенными единичными «категориями», прецедентами – информационными единицами, так сказать, доличностного уровня. Если мыслить таким способом – до сути вещей не добраться, можно лишь почувствовать наличие сути. Такого рода мышлением личность не создашь.
С появлением концепций личности, философского сознания, теории художественного творчества и теории познания круг расширился, чтобы вновь диалектически сомкнуться, не теряя и впредь предрасположенности к содержательному «расползанию». Казавшиеся наивными и малоперспективными «мимесис» и «катарсис» сегодня в полной мере выявляют свой методологический потенциал, и у нас есть основания ставить вопрос о кристаллизации первого – и основного – закона гуманитарных наук. Смысл его сводится к тому, что гуманитарная парадигма культуры, отражённая в соответствующих формах общественного сознания, – эстетической, нравственной, религиозной, правовой, политической, научной, философской – есть не что иное, как форма проявления духовного мира личности.
Коротко назовем первый закон – законом личности, который, в свою очередь, можно трактовать как проявление вездесущего закона целостности. Личность порождает культуру, а культура – личность. При всей своей простоте и «очевидности» фундаментальность посылки, имеющей далеко идущие последствия, не вызывает сомнений (с позиций мышления рефлектирующего, абстрактно-логического, которое и должно заниматься законами, этим хлебом науки).
Следующий научно-гуманитарный закон гласит: существуют два типа культуры, каждая из которых ориентирована на разные (противоположные) системы ценностей и, соответственно, функционирует на разных языках: культура психоидеологическая и научно-рациональная, «литература» и «философия» (в широком, символическом значении). Эти культуры соотносятся по принципу дополнительности, порождая эффект своеобразной гуманитарной «мультипликации», взаимоусиления своих потенциалов.
Назовем второй закон – законом двух языков культур, который непосредственно связан с законом личности и также является частным моментом проявления закона единства и борьбы противоположностей.
В принципе указанные законы можно трактовать и как частное проявление всеобщего (не специфически гуманитарного) закона сохранения информации (частное его проявление – закон личности и закон двух языков культур), согласно которому (в данном случае) информация психического (образного) порядка рано или поздно порождает информацию иной, умозрительной (сознательной) природы, существующей на ином, понятийном языке, с иными познавательными возможностями (с иным уровнем или порогом объективности). С точки зрения закона сохранения информации, личность представляет собой сложнейшую, иерархически упорядоченную информационную систему, где эффективное управление (самопознание, если угодно) возможно только сверху вниз, от разума к душе, от науки к искусству. Путь снизу вверх, «от психики к сознанию» – всегда и только приспособление, которое выдается за познание. Закон сочетания или сопряжения информации – закон, регулирующий меру объективности отражения, – можно считать третьим гуманитарным законом. Для краткости этот закон можно назвать законом объективности познания (своеобразным законом гарантии объективности).
Опираясь на эти три закона, которые «адаптируют» универсальные диалектические законы к гуманитарному космосу, можно научно интерпретировать любой (подчеркнём: любой) феномен гуманитарной культуры, не прибегая при этом к привычному насилию над реальностью, иначе говоря, принимая к сведению «сопротивляемость» образных моделей формам и методам научного познания, несводимость одного к другому и в то же время держа в уме вечное стремление психики к образно-модельному гегемонизму, к подмене одного языка культуры – другим. При таком подходе – и это неописуемо важно – отпадает необходимость подмены научного познания – «диалогом», то есть слегка завуалированным под наукообразие художественно-психологическим освоением мира. С научными предложенные законы роднит то обстоятельство, что они носят объективный характер (их нельзя произвольно отменить); определение же «гуманитарные» означает, что эти объективные законы под силу далеко не всякому субъекту. Непременное условие усвоения законов: овладение тем качеством или уровнем диалектического мышления, которое мы определяем как тотальная диалектика. Именно этот уровень научного мышления способен «порождать» (отражать) и усваивать законы гуманитарного космоса.
Итак, сам факт отсутствия законов говорит о том, что законы пытаются обнаружить с помощью моделирующего сознания. Но как только точка отсчета меняется, как только мы начинаем выстраивать отношения с «гуманитарным знанием» с позиций научного сознания, сразу же появляются если не законы, то потребность в них. Само появление законов не ставится под сомнение и становится делом времени. Иначе говоря, сам факт отсутствия законов сегодня базируется на законе двух языков культур и представляет собой проявление этого закона.
Таковы те логические границы и пределы, к которым ведёт последовательная и научно состоятельная «воля к методу».
Понятно, что в каждой отдельно взятой гуманитарной дисциплине сформулированные выше законы будут обнаруживать себя через сеть еще более частных законов – литературоведческих, искусствоведческих, эстетических и других. Так, в литературоведении с помощью указанных гуманитарных законов можно уже в научном ключе структурировать «план содержания» (главную идею, авторскую концепцию, авторскую модель мира, идеологическую направленность, идейное содержание и так далее – названий у семантического полюса произведения хоть отбавляй), – не комментировать «идейное содержание» в удобном для «критика» контексте, а именно структурировать систему ценностей, которая присутствует в художественном тексте независимо от воли творца (см. закон двух языков культур). Диалектический подход к «плану содержания», определяющему «план выражения» в целостно организованном художественном произведении (стиль, эстетическое качество, красоту – см. закон гарантии объективности), позволяет состыковать такие, казалось бы, нестыкуемые, разноприродные категории, как Истина, Добро, Красота (проекции форм общественного сознания: философской, нравственной, эстетической). При этом Истина (философское) и Добро (нравственное), будучи ядром плана содержания, могут существовать только в форме эстетически совершенной, в модусе Красоты: это закон художественности.
Критерий художественности, таким образом, меньше всего становится делом субъективным. Само наличие критерия определяется наличием всех трех гуманитарных законов. Важно суметь разглядеть в художественном произведении объективно существующую в культуре систему ценностей (проявление закона личности) и, далее, проследить за претворением нехудожественной (абстрактно-логической, понятийной) информации в образно-художественную. Научное и художественное предстают различными сторонами единого по информационной сути творческого акта.
Так «воля к методу» трансформируется в «интерес к методике» – и это тоже следствие умения видеть законы там, где их как будто нет.
I. Закономерности функционирования художественного сознания
1.1. Автор (писатель) как литературоведческая категория
1
В проблеме разграничения субъектов речи и субъектов сознания в художественном произведении существует немало путаницы, связанной, в конечном счете, с непроясненностью отношений автор – созданное им произведение.
Каково место автора (писателя) в системе повествователь (образ автора) – рассказчик – лирический герой (иначе говоря, в системе выявленных субъектов сознания)? Можно ли рассматривать писателя как полноправный и специфический субъект сознания, реально структурирующий художественное произведение и в этом смысле являющийся литературоведческой категорией? Если можно, то каковы отношения писателя со всеми иными инстанциями-носителями сознания?
Реальный автор, писатель, как правило, выносится за скобки сложнейшим образом устроенной системы, называемой художественное произведение. Если его и включают в анализ художественности, то как факультативное, извне приданное звено, как дополнительный источник информации (чаще всего информации иллюстративного характера), но не как элемент структуры произведения. В аналитическом акте всегда намечается и сохраняется (охраняется) оппозиция: писатель – созданный им художественный текст (произведение, пространство, мир и т. д.). Произведение объективируется и дистанцируется от писателя, живет собственной жизнью и не пускает писателя в свою плоть и ткань. Отторгает его как инородное тело.
В известном смысле так оно и есть: здравый смысл не позволяет отождествлять невыдуманного писателя и выдуманных им персонажей, воображаемых субъектов сознания.
Однако нереальные субъекты сознания в той или иной (всегда разной) степени являются проекцией реально существующего автора, проекцией духовного мира писателя. Можно ли хотя бы в первом приближении материализовать эти интуитивно ощущаемые связи и отношения?
Если согласиться с тем, что писатель, носитель определенной системы духовных ценностей, моделирует свои миры исходя из персональных представлений о «добре и зле», то вопрос выявления писательского присутствия в произведении становится делом техники. Начало и первоисточник произведения – сознание и подсознание (духовный симбиоз) писателя. (Разумеется, психика и сознание формируются особенностями той клеточки универсума, где «протекает жизнь» писателя. В этом смысле можно выстроить некую новую систему: реальность (универсум) – автор (писатель) – произведение – читатель – реальность… Но эта «цепочка» не решает обозначенных нами проблем, а выстраивает новый более общий контекст, который не отменяет контекста более локального.) В таком случае все присутствующие в произведении уровни, аспекты, точки зрения – все, что претендует на систему, складывающуюся вокруг главного, генерального субъекта сознания, – восходит к реальному автору, писателю. И в этом смысле писатель становится категорией содержания, которая выражается специфическими стилевыми средствами, – категорией литературоведения. Писатель, с одной стороны, строго оппозиционен сотворенной им модели реальности, а с другой – включен в эту модель (в качестве писателя) как та информационная система, из плоти которой и сотканы виртуальные миры.
Если это не так, если произведение можно и нужно рассматривать в отрыве от реального автора, значит необходимо указать на какой-либо иной источник информации, кладезь смыслов, некое семантическое хранилище, где зародилась и сформировалась содержательность произведения. Кроме того, кто-то ведь должен организовать разрозненные субъекты сознания, объединить их в рамках определенной системы ценностей. Кто, если не писатель?
Автор, отраженный в конкретном художественном произведении, становится писателем, высшей информационной точкой отсчета, вершиной информационной пирамиды. Он порождает нереальный мир, а мир отражает его, писателя, реальную суть; однако это не является основанием для превращения писателя в полномасштабный персонаж, фантом (все остальные субъекты сознания – персонажи в полном смысле этого слова). Тем не менее, писатель, будем последовательны, отчасти является персонажем, пусть и помимо воли автора. С этим ничего не поделаешь. Это объективный закон творчества.
Писатель вынужден становиться писателем, в известном смысле выполнять функции персонажа, представляя себя, – и в этом смысле, в этом отношении он становится литературоведческой категорией. Писатель – это высший субъект сознания, который реализуется, с одной стороны, через упорядоченную совокупность всех иных субъектов сознания (образа автора, повествователя, рассказчика, героя, персонажа, лирического героя), а с другой стороны – через повествование, в том числе и речь персонажей (и в этом смысле он не отличается от иных субъектов сознания). Субъект речи – форма проявления субъекта сознания. Следовательно, первого не бывает без второго, при этом следует учесть, что субъект речи может быть одновременно выражением нескольких субъектов сознания. Это и позволяет писателю быть тогда, когда его как бы нет. За писателем не закреплен определенный, материализующий его и только его стилевой прием. Писатель – это высшая, генеральная и генерирующая функция, которая воплощается «обычными» стилевыми средствами.
До сих пор мы говорили о писателе как о компоненте художественной структуры. Однако мы можем изучать личность автора как таковую, безотносительно к ее художественной функциональности. В этом случае мы меняем предмет познания: писатель помогает нам познавать писателя, а не наоборот. Личность творца отражается не только в совокупности созданных им произведений, но и в письмах, документах, биографии. До тех пор, пока мы имеем дело с художественным произведением, мы имеем дело с принципиально неполным писателем. Если же мы ставим целью всестороннее исследование личности писателя, мы изучаем уже не столько произведения, сколько «по кусочкам», из фрагментов воссоздаем мировоззрение пишущего человека. Произведение становится материалом изучения, а писатель – главным содержанием и предметом.
Следует иметь в виду подвижность границ исследуемого объекта, возможную (иногда невольную) переакцентировку, вызывающую подмену или размывание предмета изучения. В науках гуманитарных это происходит с такой частотой и регулярностью, что стало уже неотъемлемой характеристикой самих гуманитарных дисциплин.
2
О чем говорит все более явное усложнение произведения как некой информационной структуры, взятой в измерении вертикальном (иерархия субъектов сознания) и горизонтальном (совокупность, количество субъектов сознания)?
О том, что оно отражает процесс самопознания, идущий вглубь. Для того, чтобы выразить одно целое (все ту же многоуровневую личность, что же еще?), необходима уже система автономных точек зрения, иерархично устроенных и пересекающихся, что дает ощущение бесконечного космоса.
Подобное усложнение является выражением художественного прогресса. Дело в том, что содержательность произведения, для описания которой понадобилась категория писатель, раскладывается по спектру: коллективное бессознательное (архетипы) – индивидуальное бессознательное – общественное сознание – личностное сознание. (Каждый сегмент спектра, в свою очередь, легко превращается в спектр: коллективное бессознательное, например, можно дифференцировать по признакам этническим, социальным, половым, возрастным и т. д. Личностное сознание определяется наличием в культуре бесконечных, но разных по глубине, систем духовных ценностей.) Эти пласты и уровни пронизывают друг друга, живут в симбиозе, и по функции они бывают в разной степени структурообразующими, доминантными. Скажем, в фольклоре явно ощутим крен в сторону коллективного бессознательного, которое становится семантическим ядром; в поэзии, которая «должна быть глуповата», также преобладают бессознательные пласты. А вот в произведениях эпических наблюдается уже другая картина. Если сознательное начало структурирует бессознательное, как бы «контролирует» его, то мы имеем дело с художественностью порядка концептуального. Крупная форма, как правило, именно подобного рода.
Однако – и это также можно считать законом художественного творчества – смыслы, сознательно или бессознательно (и неважно, в какой степени осознает это сам творец) тяготеют к определенной системе ценностей, выстраиваются под нее. Бессознательное выстраивается под шкалу, заданную сознанием: вот парадокс или закон творчества. Поэтому художник, даже тогда, когда не отдает себе отчет, не ведает, что творит, импровизирует, – создает «нечто неожиданное» по жестким семантическим лекалам, по выверенному и принятому внутрь ценностному ориентиру, «образу и подобию». В этом смысле свобода творчества – не более, чем пустой звук.
Вот почему одним из критериев эстетической ценности является глубина и плотность смысла, тяготеющего по указанным параметрам (глубине и плотности) к истине, особому смысловому качеству, где любая новая информация обогащает и актуализирует старую, но не отменяет ее.
Конечно, в произведении одновременно «живут» и сосуществуют все указанные смысловые пласты, однако художественная ценность его тем выше, чем более гармонично они сбалансированы: вселенские, универсальные архетипы только обогащают личностно ориентированную философию. Художественный прогресс становится вопросом увязывания смыслов, вопросом информационной насыщенности; качество увязывания становится вопросом красоты; качество жизнестойкости смыслов, их совместимости с началом гуманистическим становится вопросом добра.
Вот почему выявление содержательного ядра требует ясного понимания, чего же мы ищем, что отражает и в принципе может отражать произведение. А оно отражает и может отражать ментальность личности, сознание во всей его информационной сложности и противоречивости. Произведение изоморфно личности, а личность, не исключено, космосу. Все в одном и одно во всем. Уже один этот научный принцип обрекает литературоведение на обращение к методологии.
Следовательно, анализ произведения требует наличия концепции сознания, концепции личности, которая отражается посредством писателя, повествователя, персонажа и т. д.
Поскольку сознание литературоведа в определенном отношении устроено аналогично писательскому, возможны удивительные сбои и искажения. Представим себе, что мы станем трактовать произведение с позиций того же коллективного или индивидуального бессознательного (при таком «анализе» сознание будет лишь обслуживать иррациональные интенции, будет рабом подсознания). Произойдет эффект варваризации культуры: бессознательное, отраженное в режиме бессознательном, хочется объявить познанием, тогда как в действительности мы имеем дело с продлением бессознательного, абсолютизацией одной из сторон творчества. Дважды бессознательное становится мерилом здравого смысла: так вместо познания рождаются мифы и чудеса. Поэтому литературовед начинается с умения отделять сознательное от бессознательного.
Но и тут есть свои «роковые» нюансы. Под анализом, в том числе анализом художественного «целого», всегда подразумевается расчленение, разрушение, акт, противоположный созиданию. И это, разумеется, верно, но верно только с одной стороны. Существует и другая сторона, которая не «замалчивается», конечно, но чаще всего опускается по соображениям, надо полагать, «самоочевидности». Однако не все так просто с «другой стороной», которая определяет специфику первой. Так вот с другой стороны – способность к анализу подразумевает одновременно способность к синтезу, к моделированию того, что расчленяется, к бессознательному творчеству.
Это не просто диалектическая посылка в академическом ключе, которая никого ни к чему не обязывает. Из нее следует: тот, кто не видит целого, не сможет его верно, грамотно, научно проанализировать. Некачественный анализ – это следствие; причина же – неумение или неспособность (эти две стороны также связаны диалектически) охватить все уровни целостной модели. Бедность анализа всегда свидетельствует либо о малой информативности, слабой содержательности модели, либо о неумении видеть богатство информационных пластов. Вот почему аналитические кондиции литературоведа напрямую зависят от его воображения, от дара образного мышления – то есть от наличия того, что мешает анализу, плохо с ним вяжется и стыкуется. Хороший писатель не обязательно должен быть хорошим литературоведом; однако хороший литературовед обязательно должен быть хорошим писателем.
1.2. «Золотой век» русской литературы в его отношении к «веку серебряному»
Что мы имеем в виду под «золотым» веком русской литературы?
Мы имеем в виду литературу не столько определенного периода, сколько определенного качества. «Золотая» литература – это в первую очередь не только лучшая, образцовая литература (хотя и это, несомненно, так), но литература, которая обозначила и раскрыла специфические возможности искусства в отражении человека. Плюсы и минусы искусства как особого языка культуры гармонически уравновешены в литературе «золотой».
Начиная с Карамзина (см. работы А.В. Михайлова, «Философию поступка» М.М. Бахтина) в пространстве русской культуры зародился новый тип творчества – жизнетворчество. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Островский, Толстой, Достоевский, Чехов – это не литература. Это жизнетворчество, отраженное в литературе. А вот «всё прочее – литература», как совершенно справедливо сформулировано Верленом. Великая литература несёт на себе духовные зарубки, отметины жизни духа, и изучение такого рода литературы превращается в определенном смысле в постижение человека. Назвать Пушкина, Толстого, Чехова профессиональными литераторами было бы верно, но нелепо, поскольку для них литература в первую очередь была не способом добывания средств к существованию, и даже не способом реализации, а способом и инструментом познания человека. Так рождалась «золотая» литература, которая всегда была больше, чем литература.
Однако само по себе наличие жизнетворчества (т. е. творчества духовного как предпосылки и условия творчества художественного) ещё невозможно считать решающим критерием «золотой» литературы и её имманентным отличительным признаком. Дело в том, что жизнетворчество всегда в той или иной степени, осознанно или бессознательно, присутствует в «большой» литературе, даже если талантливый писатель вызывающе «бессодержателен» в своих произведениях. Наряду с жизнетворчеством необходимы ещё два условия, которые создают для этого слишком общего понятия внятный смысловой контекст, позволяющий разграничивать два рода русской литературы, а именно:
1. Литература «золотая», как и «серебряная», как и всякая литература, моделирует жизнь, а не отражает её, однако материалом для моделей первой служит непосредственное отражение человека, тогда как вторая специализируется на моделировании копии копий, на отражении отражений.
2. Всё это прямым образом определяет поэтику. В данном случае отметим магистральную тенденцию: если «золотая» литература вследствие непосредственного постижения тяготеет к словесным формулам, содержащим в себе обобщения высокого интеллектуального уровня (или, шире, к продуманному «плану» и «порядку» всей художественной ткани), то литература «серебряного» века характеризуется «плетением словес», где важна не столько интеллектуальная составляющая, сколько приём, словесный фокус, форма в узком смысле, легко сочетающаяся с рыхлостью формы в аспекте композиционно-архитектоническом (особенно в крупных произведениях).
Вот далеко не полное извлечение формул только из первого монолога Сальери («Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина):
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше.(…)
Труден первый шаг
И скучен первый путь.(…)
Ремесло
Поставил я подножием искусству.(…)
Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.(…)
Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.(…)
О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
А вот образец «плетения словес», отражения отражений (фрагменты из стихотворения Б.Л. Пастернака под названием «Зеркало»):
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.(…)
Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизни и ломается в призме,
И радо играть в слезах.
Как же связаны между собой жизнетворчество, моделирующее постижение и словесные, интеллектуально насыщенные формулы (или иной, «серебряный» ряд: жизнетворчество, бессознательное моделирование и «плетение словес»)?
Думаю, связь очевидна и естественна.
Прежде чем продолжить разговор о сущностных чертах разведенных типов литературы, обозначим ряд знаковых, как сейчас принято говорить, символических фигур, представляющих блистательную «серебряную» классику: серебряный век русской поэзии немыслим без имён Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Гумилёва и др.; что касается прозы, то здесь бесспорными символами-фаворитами являются Набоков (главным образом ранний, доамериканский), Платонов (прежде всего поздний Платонов, автор «Котлована», «Ювенильного моря») и Булгаков с его «Мастером и Маргаритой». По существу вся литература «серебряного века» специализировалась на рассогласовании сотворённых моделей с реальностью, происходящем на поле сугубо психическом. Нездоровые крайности, свойственные, отчасти, всем здоровым людям, утончённые человековеды превратили в свою золотую жилу. Бесспорно, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинок и переживаний – россыпи, модели расцвечиваются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности очевидна. Содержание «модерновой» по отношению к литературе «золотого века» классики – не реальность, а её психически-виртуальное замещение. Плохо это или хорошо?
Тут надо определиться с возможностями и функциями искусства в деле «духовного производства личности». Реальность достаточно проста и груба, она не предрасполагает к изощрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, даже провоцирует здоровый поэтизм (вспомним в этой связи тех же Пушкина, Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – вторичной – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения.
Повышенная «психичность» влечёт за собой концептуальную бессодержательность: когда нечего выражать, содержанием выражения становится само выражение. Вот почему Л.Н. Толстой предостерегал: «Самая страшная опасность для художника – опуститься до приёма», в то время как литература серебряного века, по сути, культивировала именно приём, избирая «королей метафор» и т. п. рыцарей приёма, служителей чистого искусства.
Речь идёт, конечно, не о разном отношении к искусству, не о деле вкуса, а об ориентации на разные системы гуманитарных ценностей, которые, будучи ценностями, не могут быть делом личных пристрастий. На этом основании можно сказать, что реализм (т. е. искусство, моделирование реальности, опирающееся вместе с тем на отражение реальности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, учитывающего, отчасти, и противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле) представляет собой именно чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую саму из себя, а не из реальности.
Таким образом, образное постижение и полубессознательное метафоротворчество – это разные по содержанию духовные акты, первый из которых представляет собой то искусство, которое «начинается там, где начинается человек», второе (по своей определяющей тенденции) – «там, где человек кончается»; в одном случае мы имеем дело с литературой, ориентированной на воспроизведение личности, всерьёз озабоченной проблемой самопознания, в другом – на личность эстетствующую, избегающую жизнетворчества всерьёз.
Отсюда и принципиально разные стилевые парадигмы. Тот же Пастернак (раннее и лучшее творчество которого представляет собой одну из вершин так называемого серебряного века русской поэзии) «в рифму» толстовскому постулату красиво заявлял: неумение говорить правду не заменит никакое умение говорить неправду. Сама логика творческой эволюции Пастернака, кстати, – это путь к «золотому», пушкинскому началу в литературе. За мыслью Пастернака стоит следующая закономерность: интеллектуальная составляющая «золотой» и «серебряной» литературы – разная, и именно она в конечном счёте определяет степень художественности (стилевой эквивалент – тяготение к словесно-художественным формулам), а не оригинальность приёма, не многоэтажные образы или ажурные конструкции (метафорически выражаясь – плетение словес). Та же закономерность проявилась и в другой формуле Л.Н. Толстого: чем ближе к красоте, тем дальше от добра. У Пушкина с его уникальным тяготением к итоговым художественным формулам, слитым с ёмкими образами-символами, схожая мысль выражена следующим образом:
А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он
(«Евгений Онегин», глава 3, выделено мной – А.А.).
«Серебряная литература» (не по художественному качеству, которое невозможно измерить само по себе, а по линии жизнетворчества, которая легла в основу литературы «серебряной») была уже во времена Пушкина, правда, это была, в основном, не русская литература. Строго говоря, и «золотая», и «серебряная» литературы в том понимании, которое предложено в работе, были всегда. Сон, кстати, всегда наводила не только «мораль» с её нормативным табу, ограждающим здоровый духовный мир от свободных хотений «белокурой бестии» (проще говоря, от здоровых инстинктов), но и ангажированность поисками истины, духовная деятельность в принципе. «Серебряная литература» – это и есть литература «умов в тумане».
Согласно Пастернаку «Начальной поры» – «чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд». Если это и формула, то она направлена на дискредитацию формул. Она поддерживает миф, клеймящий рассудочность, вообще склонность размышлять как начало антитворческое, сальерианское, а, напротив, начало «случайное», взрывающееся «озарением головы безумца», «гуляки праздного», считается признаком моцартианства. «Случайно», «как бы резвяся и играя», «слагаются стихи навзрыд»…
Если руководствоваться подобной «случайной» логикой, то именно литература серебряного века воплощает в себе моцартианство, творчество «избранных, счастливцев праздных», «единого прекрасного жрецов». Миф красивый, но, увы, всего лишь миф, плод недостаточно искушенных в научном творчестве «умов в тумане». Пушкин под моцартианством имел в виду нечто совершенно иное. Вчитаемся (обращая внимание на изобилие и содержательность формул) в текст всё той же маленькой трагедии.
Моцарт: И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал.(…)
Сальери: Ты, Моцарт, недостоин сам себя. (…)
Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.(…)