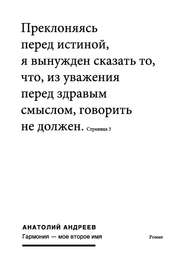скачать книгу бесплатно
Герман густо залился краской от неожиданности; кроме того, краснеть действительно было за что. Особенно неприятно было то, что Вита смотрела на него во все глаза, будто выискивая на лице его следы лжи. Надо было достойно выбираться из ситуации.
– Павел, не выдумывай ерунды. И не хами.
– А я не хамлю. Вас видели ночью сначала возле школы, а потом возле ее подъезда. Я в том же самом доме живу. Скажете, вас там не было? Да вы не бойтесь, я не собираюсь рассказывать, чем вы там занимались…
Очевидно, Гусь уже успел растрезвонить о пикантной сенсации в деталях и в лицах, не жалея красок, поэтому классный бомонд, группировавшийся вокруг смуглой Майки, с удовольствием реагировал на дуэль в меру неприличным смешком.
– А чем мы, собственно, занимались?
– Герман Львович, ведь я могу и повторить в подробностях, мне не трудно. Мы все живем так скучно, а у вас все было так ярко…
– Ты словно пугаешь меня. Я не собираюсь оправдываться в том, что поздним вечером проводил коллегу домой; скорее, мне было бы стыдно, если бы я этого не сделал. А на твоем месте я бы подумал о том, чем может обернуться ситуация для выпускника, распускающего грязные сплетни про учителей. За это придется отвечать.
Гусь повернулся лицом к классу – длинная шея, плоский нос – и тихо прогнусавил что-то такое, от чего все мальчики, считающие себя мужчинами, сочли нужным громко заржать. Майка улыбалась, с интересом наблюдая за схваткой, Вита опустила глаза.
Настала минута, требующая решительных действий. Сейчас неважно, прав ты был или нет; важно было, как ты себя поведешь.
– Павел Кузнечик, выйди из класса, – тихо, чтобы предать голосу уверенности, сказал Герман Львович.
– Не выйду, – выкрикнул Гусь.
– Выйдешь. Ты срываешь урок. У меня нет выбора, я вынужден отправить тебя на свидание к Маргарите Петровне.
– Пошли, подумаешь. Я под присягой все повторю.
Они вышли в пустой коридор. Во всех классах шли занятия, почти в каждом из них стояла школьная рабочая тишина – за исключением кабинета напротив, где Талгатик уныло, будто муэдзин, уговаривал детей, которым следовало сплотиться в хор, спеть что-нибудь про родину из Кабалевского. Дети веселились от души, стучали крышками парт, распевая про зелененького кузнечика, который сидел в траве; сложной полифонией в тему о кузнечике вплеталась баллада про Мурку.
Неожиданно для самого себя Германн развернулся и всадил плотно сжатым левым кулаком Гусю в область печени. Удар получился резким, коротким, Германн вложился в него всем корпусом. Гусь отлетел к стене, схватился за живот и сполз на пол, растопырив ноги, как подбитый кузнечик.
– Что ты там видел, урод? Что ты мог разглядеть в темном подъезде, мразь липкая?
Ножом блеснули глаза Германна, в которых горели собачьи ярость и ненависть. Теперь эффект неожиданности сработал против Пашки. Он насмерть перепугался: язык улицы, который сидел у него в печенках, заставил его съежиться и привычно искать аргументы слабости против не рассуждающей силы.
– Это не я видел, это мне Пенициллин рассказал.
– Запомни: брешет твой вшивый Пеня. А ты засунь буравчик себе в одно место и сиди смирно. Кто вчера напустил дыму в спортзал через шланг? Юрий Борисыч уже ищет того, кто это сделал. Может, подсказать ему, а, зелененький? Я ведь видел это собственными глазами. Пару «горячих» охладят твой пыл.
Герман, конечно, не видел никакого дыма; Гуся «сдал» Учителю (который и поделился информацией с Германом) все тот же Пенициллин, Пеня, получавший, кажется, особенное удовольствие от зрелища казни. Но эта новость поразительно отрезвила Кузнечика.
– Сейчас извинишься за клевету перед всем классом – или пойдешь на ковер к Маргарите. Элеонора…
– Георгиевна.
– Да, Георгиевна, я думаю, еще к родителям твоим зайдет. Выбирай.
– Я извинюсь.
– Громко, четко, передо мной и перед Элеонорой Георгиевной.
– Я извинюсь.
Герман потушил пламя в глазах, вошел в класс и, как ни в чем не бывало, сказал:
– Сонечка – проститутка только формально, надеюсь это всем понятно? На самом деле она принимает страдании за униженных и оскорбленных. Я хочу, чтобы мы разобрали с вами сегодня такой момент: отчего Раскольников признался в своем преступлении прежде всего ей? Это во-первых. И во-вторых: в чем, собственно состояло преступление Родиона Романовича? Уголовный аспект преступления ясен. Но только ли в нем дело? Не совершил ли Родион Романович еще и философского преступления?
На мгновение зависла тишина. Маша подняла руку, встала из-за парты и детским голосом, заставлявшим отчего-то обращать внимание на ее грудь, спросила:
– А Достоевский может научить нас тому, как стать счастливыми?
В ту же секунду в класс ввалился с действительно зеленоватым лицом Павел Кузнечик и громким голосом покаянно произнес:
– Это я виноват.
– В чем ты виноват, Павел?
Теперь Герман Львович без колебаний брал реванш. Грубо, цинично, сполна.
– В том, что оклеветал. Вас и Элеонору Георгиевну. Приношу свои извинения.
– И все же: расскажи, что ты видел. Народ изнывает от любопытства.
– Я ничего не видел. Это мне Пенициллин лапшу на уши навешал.
Класс, который еще несколько минут назад готов был насладиться унижением Германа Львовича, теперь дружно загудел против раздавленного Гуся.
Герману расхотелось вести урок дальше. И дело было вовсе не в Гусе. Что Гусь? Всего лишь деморализованное забитое существо, которое, кстати, и вины-то за собой никакой не чувствовало. Его застукали на месте преступления – он и лапки кверху; а не застукали – ходил бы гусем. Это тебе не Раскольников…
Перед Германом на задних лапах сидела молодая энергичная стая, которую укрощать надо было не рассуждениями, а волей, проистекавшей из абсолютной уверенности в своей правоте. Они верят только твоему чувству правоты. А вот с этим у Германа, кажется, намечались большие проблемы. Чему их учить? Тому, что вина, по Достоевскому, искупляется страданием? Тому, что счастья, не исключено, вовсе нет, а есть покой и, возможно, воля?
Тут же растеряешь весь свой авторитет, который три месяца зарабатывал по крупицам.
В этот момент Вита встала и выскочила из класса. Глаза ее красиво были унизаны бриллиантами слезинок.
– Что случилось? – растерянно спросил Герман Львович.
– Как будто вы не знаете, – пробубнил Пашка. – Она влюблена в вас, вот и переживает. Я правду говорю, не смотрите на меня так; спросите любого, это всем известно.
– Гусь, ты хоть что-нибудь, хоть раз в жизни слышал о человеческом достоинстве?
– А что Гусь? Я же извинился!
– Ты скотина, Гусь, и сильно подозреваю, что это от рождения и навечно. И о Достоевском я с тобой не буду говорить никогда. Даже если меня завтра уволят.
Было видно, что Пашка Кузнечик просто не понимает причин гнева учителя русского языка и литературы. Он сидел, опустив голову и поглаживая правую сторону живота.
Герману стало тошно.
На перемене он вошел в кабинет к Учителю и сказал:
– Я только что избил Пашку Кузнечика. По всем правилам неформальной педагогики.
– Свидетелей не было?
– Нет.
– Внешних следов не осталось?
– Нет. Я удачно тыкнул ему в живот.
– Мои поздравления, сэр. Кажется, я в тебе не ошибся.
– Но остались внутренние следы.
– Ты о своей так некстати потревоженной совести? Все вздор. Сила воли плюс характер. Муки душевные прекратятся ровно через три дня. Проверено. Это как невинность потерять. А этот дебил примет еще пару «тепленьких» на то место, которым он привык думать, и ему окончательно полегчает. Что ни говори, твое посвящение в педагоги надо бы отметить. Я выпишу Талгатику увольнительную, он слетает за «Рислингом». Гений организации застолья. Нет равных, потому и держим в школе. Одна нога здесь, другая там, где надо. Все принесет, закусочку организует оптимальную, посуду уберет, перемоет. Нет равных. Кстати, Элеонора попросила после «Рислинга» оставить тебя с ней наедине. Чего не сделаешь для любимой некогда женщины! Да, Герман, слышал новость? Говорят, Брежнев то ли умер, то ли при смерти.
Я пожал плечами.
Учитель, сутулясь, нависал над столом, чем-то неуловимо напоминая отца народов Джугашвили-Сталина. Усами?
За его спиной на стене располагались Почетная грамота то ли городского, то ли министерского уровня с формулировкой «за выдающиеся педагогические достижения», спортивная рапира и тот самый кед, невинно замаскированный под спортивную обувь.
– А рапира зачем? – рассеяно спросил я.
– Рапира – это холодное оружие. Укрепляет боевой дух. Длина клинка – девяносто восемь сантиметров. Крепкая сталь. На этом образце нет боевой заточки, но ее легко сделать. Именно на таком оружии тренировались дуэлянты. Хочешь подержать?
– Нет никакого желания.
– Держи, корнет! Ощути, что чувствовал поручик граф Ростов. Мужчина должен уметь фехтовать. Это тебе не членом размахивать.
Я взял рапиру в правую руку. Легко представилось, как увесистая холодная сталь пронзает теплое живое тело. Стало не по себе.
– Почувствовал? Верни оружие в надежные руки. Перед тобой мастер спорта по фехтованию. Вот смотри!
Учитель взял рапиру, встал в позицию (в глазах блеснул стальной огонек) – и, согнув ноги в коленях, сделал змеиный выпад, пронзив чучело, услужливо стоявшее в углу. Низкорослое чучело в шляпе с широкими полями чем-то напоминало Наполеона. Дался им этот коротышка корсиканец!
– Раз! Уноси готовенького! Теперь ты.
– Не хочу.
– К барьеру, корнет!
Он вложил мне в кисть рукоятку, обмотанную синей изолентой. Ребром ладони подогнул мне колени – и я, как краб, вцепился ими в пол. Стоило взять рапиру в руки, и воинственные токи разбежались по телу. Учитель поправил мне рапиру – слегка приподнял тонкий конец вверх – и скомандовал:
– Делай – раз! Целься в корпус. Сталь сама найдет робкое сердце. Ну!
Внутри меня щелкнул курок, пружина сорвалась – и я, чувствуя себя то ли началом, то ли продолжением рапиры, с криком «на!» выстрелил вперед.
Рапира пропорола ткань чучела. Я был несколько озадачен обнаруженным в себе запасом агрессии.
– Молодца! – сказал Учитель. – Вот теперь самое время хлебнуть шампанского, то бишь «Рислинга». За здоровье избиенного Пашки, а также за твое посвящение… в корнеты. Идешь к детям или к женщинам, педагог, – возьми в руки плеть. Так говорил Заратустра. Кликнуть мне денщика Талгатика!
…Странно. Столько лет прошло, а я с тех пор ненавижу вкус «Рислинга»; мне не нравятся также короткие прически у женщин и сладковатый одеколон мужчин. Еще что-то не нравится…
Фехтование. К нему у меня особое отношение.
Да, и еще… Достоевского с тех пор я практически не перечитываю для себя лично.
Только для дела.
4. Слезинка ребенка
Мама время от времени рассказывала мне забавную историю из моего детства, которую я и сам помнил, правда, смутно, но вместе с тем ярко, и всегда дополнял ее какими-то новыми подробностями; наверно, просто выдумывал.
Я ходил тогда в детский садик № 17, располагавшийся, кажется, по улице имени славной дочери то ли болгарского, то ли казахского народа (а может, вообще индийского? Надо посмотреть старую карту Минска). Однажды девочка с длинными светлыми волосами (наличие длинных волос делало любую девочку, девушку или женщину в моих глазах писаной красавицей) по имени Оксана предложила мне стать ее мужем. Поигрывая волосами, она быстренько объяснила мне причины такого экстравагантного предложения. Дело в том, что у ее мамы не было мужа, и Оксана, очевидно, решила, что уж она-то заведет себе мужа обязательно. И чем раньше – тем лучше.
Я сначала заколебался, в мои планы не входило жениться в столь нежном возрасте; но когда выяснилось, что свадьба у нас будет настоящая, что это событие мы всей группой отпразднуем с размахом – организуем застолье со вкусным печеньем и кексом (а кекс в то время был главным удовольствием моей жизни, пожалуй, он вполне мог конкурировать с длинными волосами прекрасной Оксаны; да и сейчас мне трудно устоять перед поджаристой корочкой, отдающей мягким ванильным ароматом, из-под которой проглядывают гроздья набухшего темным янтарем изюма) – я поспешно согласился.
И вот я сидел во главе стола рядом с девочкой с распущенными длинными волосами и уплетал кекс за обе щеки. Это был миг настоящего счастья, который я пронзительно помню до сих пор. Ванилин, изюм и желтоватое рыхлое тесто – это вкус счастья; девочка с длинными волосами, трогательно контролирующая процесс, касающийся самой сути счастья (чтобы кекс у тебя никогда не кончался), – это образ счастья.
– Все, теперь ты будешь любить меня всегда и никогда не бросишь. Правда?
Я энергично кивал головой, строго следя за тем, чтобы рот у меня был набит до отказа.
– Нет, ты скажи, чтобы все слышали, – настаивала Оксана.
– Да, – сказал я, сделав краткую паузу ради своей жены.
– Вот видите, – сказала Оксана, – он сказал «да».
Я еще раз кивнул, подтверждая сказанное. После этого попросил газированный напиток «Буратино».
Вот и все, что я помнил, если не считать улыбчивых солнечных бликов, круглого лица воспитательницы, да еще странного выражения глаз моей мамы, которой сообщили, что сын ее единокровный отныне скоропостижно женат.
Впрочем, все это я мог уже и выдумать.
Мама моя живет только в детских моих воспоминаниях, которых сохранилось совсем немного. Вот одно из них.
Мама тяжело заболела, и я сидел возле нее с не детски серьезным выражением лица. Она решила, что ее женатый сын сильно переживает за маму, и стала меня утешать, тронутая той самой слезинкой ребенка.
– Все будет хорошо, мой сынуля.
Я понимаю Достоевского, который детей-ангелочков сделал символами чистоты и неиспорченности. Я бы только уточнил: они являются символами святой простоты, да-да.
– Мама, а с кем я буду жить, когда ты умрешь? С папой? – заботливо поинтересовался я. Что-то подсказывало мне, что папа, которого держала в семье только болезнь мамы, никак не сможет ее заменить. Так оно, собственно, и произошло.
При этом я точно помню проявление деликатности, которое растрогало меня самого: я ни словом не обмолвился о проблеме изобилия кексов, которая вполне могла ожидать меня в будущем. Я подумал, что нехорошо думать о кексах в тот момент, когда маме плохо. И еще я подумал о том, что наверняка веду себя как хороший мальчик, вполне заслуживающий похвалы мамы.
Любил ли я маму?