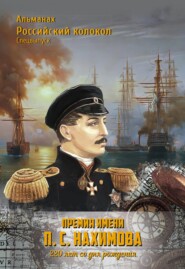скачать книгу бесплатно
Алексей повторил команду по трансляции и перевел взгляд на корму корабля. Там открылся люк кубрика, из которого поднялся на палубу боцман. Задраив за собой плотно люк, он, широко расставляя ноги, побежал по качающейся палубе, с трудом удерживая равновесие. На мостик взлетел запыхавшись, хотел приложить руку к головному убору, но в это время корабль накренился на борт, и ему пришлось ухватиться за борт мостика.
– Главный старшина Луференко прибыл по вашему приказанию, – доложил боцман.
– Возьмите двух матросов с баграми, надо проверить, что происходит за кормой. Заклинило левый гребной винт.
– Есть, – ответил боцман и скатился на руках по поручням трапа.
Вскоре он появился на мостике и доложил:
– Товарищ командир, на палубу поднят конец капронового троса с двумя поплавками.
– Второй конец троса нашли?
– Никак нет. Он, видимо, намотан на винт. Надо спускать водолаза и освобождать винт от троса.
– В такую погоду опасно спускать водолаза, – произнес командир.
Он уже принял решение, что надо на одном двигателе идти в тихую бухту и там заняться освобождением винта от троса. Боцману сказал:
– Можете быть свободны, прикажите вынутый из воды трос закрепить на палубе.
Покинуть район патрулирования можно было только по разрешению штаба бригады. Прежде чем приказать вахтенному радисту соединить его с оперативным дежурным штаба, командир опробовал работу правого двигателя, переведя рукоятку машинного телеграфа на малый ход, затем на средний.
Разговор с оперативным дежурным был недолгим. Получив добро покинуть район, капитан-лейтенант крикнул в ходовую рубку:
– Штурман! Курс на остров Парамушир!
На охотниках штурман совмещал свои основные обязанности в походе с обязанностями помощника командира корабля. Выражения «штурман, курс» и «штурман, место» были общепринятыми выражениями и не считались обидными.
Через несколько минут из рубки послышался ответ:
– Пеленг сто пятьдесят два градуса.
Командир приказал рулевому:
– Лево руля, курс сто пятьдесят два градуса.
Корабль медленно описал циркуляцию и, покачиваясь с борта на борт, лег на заданный курс.
Алексею хотелось сказать командиру: «Хорошо, что не заклинило второй винт. Тогда пришлось бы подавать сигнал SOS и вызывать буксир». Но он промолчал, зная характер командира. Когда он расстроен и обдумывает свои дальнейшие действия, его лучше не отвлекать.
Молодой лейтенант уважал командира и во всем брал с него пример. Он курсантом проходил на его корабле годичную стажировку. Соколов за год присмотрелся к мичману и сделал запрос в училище о направлении Алексея для прохождения службы на его корабль. У курсантов считалось большей честью, когда их направляли служить на корабли по запросу, а не по распределению. В училище Алексей прочитал много книг об открытиях нашими соотечественниками Камчатки, Аляски, Сахалина, Курильских и других островов. Он был счастлив, что будет служить в этих местах и своими глазами увидит далекий северный край, который давно привлекал его своей суровой красотой и таинственностью.
Уже год лейтенант служил на большом охотнике за подводными лодками командиром боевой артиллерийской части. До училища он был страстным охотником, любил стрелять из охотничьего ружья и нарезного оружия. Это повлияло на выбор артиллерийской специальности. Кроме того, во время войны он часто слышал слова: «Артиллерия – бог войны». Его всегда волновали слова песни об артиллеристах: «Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет Отчизна нас! Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь, огонь!».
Скорость корабля снизилась, только к вечеру подошли на траверз острова Атласова. Он вулканического происхождения, его пирамида состоит из вулканических пород и пепла, в плане имеет почти правильный круг с диаметром около четырнадцати километров. Свое название получил в честь первооткрывателя Камчатки В. В. Атласова. На острове расположен вулкан Алаид высотой более двух тысяч метров. Это самый активный и высокий вулкан на Курильской гряде. Остров необитаем, на нем нет бухт для стоянки кораблей, он стоит одиноко, как командир перед строем островов Курильской гряды.
Путешественник и ученый С. П. Крашенинников в «Описании земли Камчатки» приводит легенду об этом острове: «Гора стояла посредине Курильского озера. Своей высотой она загораживала свет другим горам. Они негодовали и ссорились с ней. Тогда Алаид удалилась в уединение на море. В память своего пребывания на озере оставила свое сердце – камень, который стоит посреди озера и имеет коническую форму».
Под прикрытием острова Парамушир восточный ветер почти не ощущался, море утихло. Многие думают, что название острову дали японцы, но это не так. Свое название он получил от коренных жителей, айнов. Оно означает «широкий остров».
Айны – загадочный народ. Они белолицы, с прямыми, широко открытыми глазами. Мужчины отличаются сильной волосатостью. Их окладистые бороды напоминают бороды староверов. По своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии: японцев, алеутов, эскимосов, камчадалов. Они – коренной народ Японии, Сахалина, Курильских островов, Камчатки. Некогда жили на территории России, в низовье Амура. Слово «айн» на ряде диалектов, в том числе на хоккайдском, означает «человек». Как говорится в одной из айнских легенд, они проживали на всех японских островах, пока не пришли туда «дети солнца» и не вытеснили их на северные острова. В настоящее время они сохранились в небольшом количестве на севере Сахалина и около двадцати пяти тысяч человек – на острове Хоккайдо. Айны занимаются земледелием, рыболовством, охотой, собирательством диких плодов и растений.
Корабль, как уставшая лошадь после длинного пробега, слегка дрожа корпусом, продвигался вперед по спокойному морю. Его курс лежал к большому и широкому заливу, который с трех сторон был окружен высокими горами на юго-западной оконечности острова. На его южной оконечности возвышался вулкан Фусса, который был немного ниже Алаира. Горы-великаны обступили бухту со всех сторон, охраняя ее от штормов со стороны Тихого океана. Ночью в ненастную погоду остров не был виден, командир вел корабль по навигационным приборам. На мостик постоянно поступали доклады о глубине под килем и расстоянии до берега. Когда корабль вошел в устье залива, из радиолокационной рубки поступил доклад:
– В бухте неопознанный предмет, дистанция десять кабельтовых.
– Запросите позывные!
– На позывные не отвечает.
Сигнальщик включил прожектор. Луч прожектора уперся в непроницаемую завесу влажного воздуха.
– Стоп машины, – скомандовал командир и, обращаясь к вахтенному офицеру, приказал: – Подайте сигнал: «По местам стоять, на якорь становиться».
Затем приказал сигнальщику отбивать склянки. Это удары в корабельный колокол, называемый рындой. При плохой видимости всегда подаются сигналы колоколом, чтобы избежать столкновения с другими кораблями. Кроме того, склянки отбиваются через каждые полчаса, обозначая время. По склянкам члены экипажа ориентируются в заступлении на вахту.
Обычно при постановке на якорь командир давал задний ход кораблю, чтобы затормозить движение его по инерции. При работе одного двигателя корабль мог развернуться в ненужном направлении. Выждав, когда движение по инерции угасло, он подал команду:
– Отдать якорь.
В носу корабля загрохотала цепь, и якорь ушел на дно морское.
В кают-компании штурман Юрий Перминов спросил командира:
– Может быть, в бухте укрылась японская шхуна?
Соколов посмотрел на барометр, висевший на переборке, слегка щелкнул его пальцем, стрелка резко отклонилась в сторону повышенного давления.
– Давление поднимается, утром будет хорошая погода, узнаем, кто в заливе кроме нас, – произнес он.
– За ночь шхуна может сбежать, – не унимался штурман.
– Вахтенным офицерам ночью не покидать ходовой мостик, при изменении обстановки немедленно докладывать мне, – произнес командир и удалился в свою каюту.
Алексей в каюте поднял мягкую спинку дивана, прикрепленную шарнирами к переборке, и двумя цепочками пристегнул к крючкам на потолке. В каюте вместо дивана оказались кровати в два яруса. Обстановка в каюте была спартанская. Напротив дивана под единственным иллюминатором стоял небольшой алюминиевый столик, около него – два мягких стула, привинченных к палубе, рядом со стульями – два шкафа: для одежды и постельного белья. На флоте такие шкафы называются рундуками. Напарником Алексея по каюте был механик Всеволод Иванович. По возрасту он был старше всех офицеров корабля, но его все звали с дружеским уважением Севой. Он досконально знал технику корабля, был мастером на все руки, никогда никому не отказывал в помощи. На корабль пришел во время его строительства на Волжском кораблестроительном заводе. На подчиненных никогда не повышал голоса, разговаривал тихо и спокойно. Они его любили и уважали, знали, что он может своими руками разобрать любой насос, двигатель или эжектор, найти неисправность и вновь собрать. Вот сегодня он ушел в машинное отделение, чтобы присутствовать при ремонте соединительной муфты на валу левого двигателя. По выслуге лет ему давно были положены погоны капитан-лейтенанта, но по штатному расписанию корабля на должности механика полагалось быть старшему лейтенанту. Ему предлагали перейти служить на крупный корабль, но он прикипел к большому охотнику и не хотел менять место службы. На полуострове Завойко, в военном городке, его ждали жена и двое детей.
Алексей застелил верхнюю полку, разделся, встал одной ногой на стул и ловко запрыгнул на постель. Посмотрев на часы, вытянулся во весь рост и подумал: «До вахты осталось более трех часов, можно выспаться». Он привык засыпать быстро в любом положении и в любой обстановке. Мог спать сидя и даже стоя. Шум и качка его всегда убаюкивали. В самолете засыпал мгновенно после взлета лайнера. Возможно, это было связано с постоянным недосыпанием.
2
На корабле в колокол пробили восемь склянок. Алексей мгновенно проснулся.
«Неужели уже четыре часа?» – подумал он.
С надеждой посмотрел на часы – может быть, еще двенадцать ночи и можно продолжить сон? Его надежда не оправдалась. Пришлось осторожно спуститься на палубу каюты, чтобы не разбудить Севу, одеться и отправиться на ходовой мостик.
Вахту с нуля часов до четырех нес штурман – старший лейтенант Перминов. Эта вахта считалась самой тяжелой и называлась «собачьей». Она досталась штурману потому, что утром при водолазных работах его присутствие не было нужно и он мог отдохнуть. Перминов окончил Ленинградское высшее военно-морское училище. Гордился тем, что был ленинградцем, и считал, что Ленинградское училище – лучшее. При разговоре у него часто проскакивала фраза: «У нас в Ленинграде…» Светловолосый, с высоким лбом и голубыми глазами, он не был лишен привлекательности. Женился на последнем курсе училища, после завершения многомесячного перехода Северным морским путем вызвал жену на Камчатку. Он был энергичным и подвижным, любил командовать матросами, делать им замечания, но не отличался злопамятством. Таких людей называют «служаками». Употреблял крутые словечки, считая это шиком. Матросов часто называл на «ты», считая, что такое обращение сближает его с командой.
Взбежав на мостик по крутому трапу, Алексей решил пошутить над Перминовым. Приложил руку к фуражке и произнес:
– Прошу сдать вахту строго по уставу.
Перминов не ожидал такого обращения и растерялся. Затем с удивлением посмотрел на Алексея и промолвил:
– Ты что, недоспал?
– В бухте неприятельское судно, я хочу знать, какие приняты меры, – продолжал Алексей.
Перминов нехотя стал рассказывать:
– Неизвестное судно стоит на якоре, никаких движений и шума винтов не обнаружено. Звонил оперативный дежурный штаба, просил доложить обстановку. Я доложил, что гребным винтом будем заниматься с рассветом, рассказал о неизвестном судне в бухте.
– Ты почему вперед батьки в пекло лезешь? – удивился Алексей.
– В чем, собственно, дело?
– Командир вчера не сообщил о неизвестном предмете в бухте, значит, считает, что сначала надо разобраться, а только потом докладывать.
– Принимай вахту и разбирайся, – сказал Перминов, – я пошел отдыхать.
За несколько часов погода изменилась. Ветер угнал дождевые тучи в Охотское море, в просветы высокой облачности подмигивали звезды. Алексей связался с радиолокационной рубкой. Ему доложили, что неопознанный предмет находится на месте. Он стал периодически осматривать залив в бинокль, но в темноте ничего не мог увидеть.
Постепенно стали видны очертания гор, среди которых выделялась вершина вулкана Фусса, облачность рассеялась, на небе высыпали звезды. Наступили астрономические сумерки. Это самый удобный период суток для астрономического определения местоположения корабля в океане по звездам. В это время солнце находится ниже горизонта на двенадцать градусов. Когда оно поднялось к горизонту на шесть градусов, звезды исчезли и начались гражданские сумерки. Алексей увидел в бинокль в заливе расплывчатые очертания предмета, непохожего на корабль. Он скорее догадался, чем рассмотрел огромного кита, спокойно лежащего на поверхности воды. В это время вахтенный сигнальщик закричал во весь голос:
– Товарищ лейтенант, в заливе кит!
– Не кричи так громко – разбудишь экипаж, – пошутил Алексей.
– Мне кажется, что он неживой, – продолжал сигнальщик.
Алексею не хотелось вступать в разговор, он был очарован окружающим пейзажем. Где-то далеко в океане солнце поднялось из-за горизонта и своими лучами осветило горы острова, их вершины сияли в его лучах. Снежная вершина вулкана, как зеркало, отражала солнечные лучи. В тени гор лежала спокойная черная гладь залива. У Алексея мелькнула шальная мысль: по телефону вызвать на мос тик штурмана посмотреть на «корабль» в заливе, но он передумал, решив, что его шутку могут не понять. Когда рассвет вступил в свои права, на спокойной поверхности залива невооруженным глазом можно было четко разглядеть кита. Его размеры сравнимы с малым рыболовным траулером. Длина синего кита достигает двадцати пяти метров, а вес – ста тонн и больше. Его, видимо, ранили китобои. Морскому исполину удалось уйти от преследователей и закончить жизнь в этом заливе.
Во всех помещениях корабля зазвенел сигнал подъема. Надоедливый звук «та-та-та» всегда прерывал сладкий сон и не давал немного доспать. Вскоре радист включил трансляцию, и по кубрикам разнесся знакомый голос: «На зарядку становись». Матросы в тельняшках поднимались из кубриков на палубу и строились в две шеренги. Кто-то увидел в заливе кита и крикнул:
– Кит на воде!
Шеренги сломались, все побежали к борту, что-то кричали, показывали руками в сторону кита.
Алексей с улыбкой наблюдал с мостика за командой. Он дал матросам возможность налюбоваться необычным зрелищем, выпустить свои эмоции: многие кита видели впервые. Затем в рупор подал команду: «На зарядку становись!»
На корме боцман со своей командой готовил водолаза к спуску. Около них стояла водолазная станция, представляющая собой квадратный ящик с рукояткой от насоса. От станции отходили телефонный провод и шланг для подачи воздуха в легкий водолазный костюм, который не был легким по весу, хотя его так называли. Алексей вспомнил курсантскую практику по водолазному делу, которую проходил на базе училища в бухте Миноносок, расположенной недалеко от границы с Кореей. На каждого курсанта по очереди надевали легкий водолазный костюм, затем ботинки с толстыми свинцовыми подошвами, по несколько килограммов каждая, на грудь и спину вешали свинцовые лепешки. В довершение всего два человека поднимали медный шлем и надевали на голову водолаза, что увеличивало нагрузку на плечи. В таком одеянии было нелегко пройти по галечной отмели три метра до уреза воды. Задача каждого заключалась в том, чтобы пройти по дну бухты до глубины десять метров и благополучно вернуться назад, не всплыв на поверхность. Уйти дальше от берега не позволял пеньковый трос, привязанный к поясу.
Однажды курсант Виктор Крылов залюбовался подводным миром. На отшлифованных морем плоских гальках лежали разноцветные морские звезды, на песчаных участках были видны трепанги, похожие на сардельки, около зарослей морской травы ожидали своей добычи морские ежи. У Виктора захватывало дух от красоты подводного царства, и он забыл постоянно нажимать головой на клапан шлема, чтобы выпускать из костюма лишний воздух. Его костюм раздулся, и Виктора как пробку выбросило на поверхность воды. Курсанты со смехом подтащили неудачливого водолаза к берегу за привязанный к поясу трос.
Пока Алексей предавался воспоминаниям, водолаз спустился за борт и доложил, что винт не поврежден. На нем намотаны трос и кусок сети. Механик Всеволод Иванович предвидел работу по освобождению винта от троса и подготовил монтировку с заточенным до остроты бритвы концом.
Через два часа винт корабля был освобожден от троса, командир проверил работу двигателя на холостом ходу и доложил оперативному дежурному штаба о готовности выйти в море. Дежурный дал добро, затем спросил:
– Что за корабль был с вами в заливе острова Парамушир?
– Никакого корабля не было.
– Как не было? – удивился дежурный. – Мой предшественник об этом ясно записал в журнале.
– Так это кит зашел в залив.
– Ну у вас и шуточки, – сказал дежурный.
– В каком часу сделана запись в журнале? – спросил Соколов.
– В ноль часов тридцать минут.
Командир вспомнил, что в это время вахту нес Перминов, подумал: «Вот служака, решил отличиться» – но никому ничего не сказал. Оперативного дежурного попросил о находке сообщить китобоям.
В то время в нашей стране китобойным промыслом занималось несколько китобойных флотилий. Самой знаменитой была флотилия «Слава», базировавшаяся в Одессе. Она состояла из плавбазы, представлявшей собой завод по переработке китов, и семнадцати малых китобойцев-охотников, которые вели промысел в районе Антарктиды. О ее успехах постоянно писали в газетах, о ней показывали фильмы, слагали песни. Алексею на всю жизнь запомнились слова песни: «Мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать».
На Дальнем Востоке промышляла китов от Охотского до Берингова моря флотилия «Алеут». Позже были созданы флотилии «Юрий Долгорукий», «Советская Россия», «Владивосток», «Дальний Восток» и другие. В 1960 году в водах Антарктиды работали двести пятьдесят флотилий Японии, Норвегии, Великобритании, Дании и других стран. Через несколько лет интенсивного промысла нашими и зарубежными китобоями поголовье китов было настолько сокращено, что промысел стал нерентабельным. За двадцать пять лет промысла всеми китобойными флотилиями было добыто около двухсот тысяч китов. Международное сообщество вынуждено было заключить договор о прекращении добычи китов.
В настоящее время численность китов частично восстановлена. Россия имеет квоту на добычу ста сорока китов для коренных жителей Дальнего Востока. Охотой на китов занимаются чукчи и эскимосы, проживающие на Чукотке. Они испокон веков питались мясом китов, жиром обогревали и освещали жилье, из их костей строили жилища. Кожа с тонкой прослойкой сала в сыром виде является для них деликатесом.
Сегодня в китов не стреляют из гарпунных пушек. Обычно охотятся бригадой из пяти-шести лодок со скоростными подвесными моторами и одного катера для буксировки добычи к берегу. Лодки прочесывают Берингов пролив. Обнаружив кита по фонтану воды, охотники по рации оповещают товарищей. Начинается преследование кита. Главная задача заключается в том, чтобы подойти ближе к месту, где кит вынырнет, чтобы вонзить в него гарпун, к которому на шнуре привязан ярко-красный буй. Гарпун остался таким же, каким был сотни лет назад. Несколько вонзившихся в тело кита гарпунов с поплавками не дают ему погрузиться на глубину и уйти от преследователей. Окончательно судьбу кита решает карабин.
3
Корабль удалялся от приютившего его острова. Мерно стучали машины, за кормой оставалась кильватерная струя, которая в тихую солнечную погоду, не исчезая, тянулась на сотни метров. Алексею показалось, что она связывает корабль с островом. Вспомнилось его первое посещение этого острова.