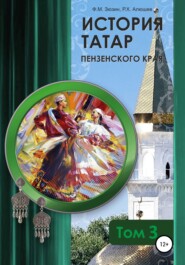скачать книгу бесплатно
Обучение в классах проводилось на татарском языке, русский язык не преподавался вообще. Еще на губернской конференции нацменьшинств 1924 г. было принято решение ввести русский язык в нацменских школах со 2-ой группы, а в 4-ой уже все предметы изучать на русском языке, родной же язык оставить как предмет. Но это постановление не выполнялось по причине отсутствия учителей по русскому языку, «хотя желание население обучиться русскому языку было велико». Наконец, в марте 1928 г. было решено построить в с. Алеево типовое здание начальной школы. В протоколе сельсовета записано, что площадь под школу выделялось в гумнике Абубекеровых. В 1929 г. современное по тем меркам здание было построено, а заведующим школой стал Котов Киям Каюмович, уроженец с. Б. Чирклей и участник Первой мировой и Гражданской войн[21 - Здание школы сохранилось до настоящего времени, но было перенесено на другое место в 1966 г.].
На собрании сельсовета, проходившем под председательством тов. Шабурова и секретаря тов. Курнакова 1 октября 1929 г., помимо вопроса раздела земли, было решено подать ходатайство в райисполком об открытии школы в д. Судачок, «ибо без такового в деревне не имеется никакой культурной силы» (ГАПО, Ф-р. 1331, оп. 1, д. 31).
В 1920-е и 1930-е гг. в школе учителями в Алеево работали: Усман и Газимя Ракчеевы, Хасан Ряхимов, Нязара Ямбаева и Абдулхак Кырзыев. Старожилы помнят еще учителя Хасяна Валитова. Все они были приезжими и, отработав год-другой, уезжали. Сначала учили детей по латинскому алфавиту (1929–1930 гг.), затем перешли на кириллицу в 1939 г. Надо заметить, учащиеся были снабжены питанием – выдавалось по 400 грамм хлеба, сахар и стакан чая. Переход на латиницу открывал возможности приобщиться к достижениям мировой цивилизации, в то время, как арабская графика этой задаче в полной мере не отвечала.
Так, в одной сохранившейся докладной записке врио зав. районо Еникеева Н. А., написанной с огромным количеством грамматических ошибок, содержится просьба о необходимости отстранения заведующих школами, как «не справляющихся с работой». Среди прочих в записке указаны фамилии: Мусюкаев М. – Исеевская начальная школа; Сявкаев Х. Х. – Бикмосеевская начальная школа; Валитов Х. К. – Алеевская начальная школа; Хасянов М. А. – Погорело-Чирчимская начальная школа. Отмечалось, что эти заведующие слабо владеют методикой управления, не имеют организаторских способностей, не обеспечивают своевременной дачей сведений и отчетов, хуже других «рядовых» учителей вовлечены в воспитательную работу в классах, малоавторитетны, как среди учителей, так и среди учащихся. Также содержалась просьба об освобождении от должности учителей: Давыдова Якуба – Бикмосеевская школа, и Юсупова Хасяна – Погорело-Чирчимская школа.
Впрочем, учитель Вялитов Хасян Киямович в 1938 г. написал заявление в районный отдел народного образования, в котором просил освободить от работы на основании «курортных документов». Указывалось, что курортная врачебная комиссия освободила его на время лечения, и что он страдает туберкулезом обоих легких, катаром желудка, грыжей в паховой области и геморроем: «Работаю в школе с 1933 г. Прошу Вас дать мне возможность отдохнуть и пользоваться лечением, а также сохранить мой месячный оклад».
Радиограмма о скорейшем проведении поголовной ликвидации неграмотности.
Приказом Куйбышевского областного отдела народного образования врио заведующими школами назначались: Акчурин – Адельшинская нач. школа; Янбаев – Алеевская нач. школа, а учителями школы – Вялитова, Розакову и Хайруллова; Сявкаев – Бикмосеевская нач. школа, учителями школы – Музафарову, Мухамеджанову, Абейдуллину и Давыдова; Ибатуллин – П.-Чирчимская нач. школа, учителями – Хасякову, Бибарсова и Юсупова, а зав. школой Хасякова уволить как самовольно оставившего школу; Рахманкулов – Сулеймановская нач. школа, учителями – Ямбулатова и Абейдуллину; Акчурин – Исикеевская нач. школа, учителями – Кулахметову и Акчурину, учителя Хайрова освободить как не имеющего образования и не желающего повышать квалификацию; Ляпин – Кунчеровская татарская школа, учителями – Акчурина и Дебердееву; Мухаметжанов – Мансуровская нач. школа, учительницей – Бибарсову (ГАПО, Ф-р. 1341, оп. 2, д. 14).
В эти же годы работали в школе: А. М. Зябиров, М. Абуберов, А. З. Тренгулова. В сентябре 1939 г. был открыт 5 класс, но с началом войны школа вновь стала начальной.
В годы войны занятия в школе не прекращались, хотя некоторые ученики были вынуждены бросить школы, чтобы выращивать хлеб, который был так необходим фронту. Школой заведовала М. Х. Азизова. Первым учителем из с. Алеева стал Биктимиров Идрис Ахметжанович, который после окончания Алеевской начальной школы поступил в Бигеевскую семилетнюю школу. Окончив Оренбургский педагогический рабфак, в 1937 г. вернулся в родное село и стал учителем начальных классов. Но жизнь первого учителя из Алеево оборвалась на фронте в 1944 г., в боях за Керчь и Крым. В 1946 г. заведующим школой был назначен Саид Исхакович Акчурин, который вернулся с фронта. В селе было не имеющих начального образования 275 чел. в возрасте до 17 лет. Было укомплектовано 5 первых классов, но денег выделили лишь на 3 класса. В 1949 г. начальная школа была преобразована в семилетнюю, а уже в 1952 г. состоялся первый ее выпуск. В 1962 г. школа стала восьмилетней. Многие из вчерашних выпускников продолжали свое образование в средних учебных заведениях, училищах и техникумах. Так в селе появились свои учительские кадры. В 1957 г. директором школы стал Равиль Усманович Вагапов, а завучем Денишев Б. Х. Они были первыми учителями, имеющими высшее образование. Очень скоро школа перестала вмещать всех учащихся. В 1964 г. началось ходатайство на строительство кирпичного пристроя к школе, а с января 1968 г. в обновленное здание пришли первые ученики.
Программа партии большевиков предписывала особую осторожность и внимание к чувствам национальных меньшинств, и эта политика продолжалось в течение длительного периода времени. В то же время представители сельских Советов всячески стремились и ставили цели к культурному просветительству татарского населения и построить в каждом населенном пункте культурно-образовательные объекты. Так, 22 апреля 1952 г. под председательством Шаипова Айнуллы состоялось собрание граждан с. Алеево, на котором присутствовало 337 чел. из 600 чел., имеющих право участвовать в выборах. Повестка дня касалась благоустройства села, очистки улиц и дворов от навоза, посадки перед каждым домом 5–6 корней декоративных или иных деревьев, создание пожарной дружины, нумерации домов и названий улиц, наемки пастухов, а также утвердить список старейшин из 11 чел., каждый из которых являлся старейшиной 10-ти дворов. И одной из главных задач была постройка нового сельского клуба в 1952 г. Было решено выйти с ходатайством в райисполком и РК ВКП(б) о разрешении Алеевскому сельсовету использовать для постройки клуба имеющуюся в селе деревянную мечеть, которая находилась в аварийном состоянии.
В Алеевской школе всегда наблюдалась большая текучесть педагогических кадров. Многие учителя, проработав 1–2 года, уезжали. Были годы, когда менялось до 50 % учительского состава. Иногда учителя приезжали даже из Татарии. В школе из Татарской АССР учителями работали: Рахимова Л. Г., Бахтиярова Ю. Р., Калимуллина Р. Г. Есть учителя, которые, приехав в Алеево, остались в селе и до пенсии проработали в школе.
Педагогические работники:
Акчурина Ф. У., приехала из с. Кунчерово, стала работать в Алеево в 1945 г. Вышла замуж за Акчурина С. И. и до пенсии работала в школе. Акчурин С. И. был призван в РККА в июне 1940 г. В Великой Отечественной войне с июня 1941 г. Дошёл до Берлина.
Исянов З. Д., уроженец с. Погорелый Чирчим (Джалилово). Приехал в Алеево в 1949 г. и остался в селе, работал до пенсии. Участник ВОВ, воевал в составе отдельной морской бригады.
Исянова Р. У., родилась в с. Могилки. Приехала в Алеево в 1949 г. и работала до 1976 г.
Якупова Х. Р., уроженка с. Евлейка Павловского района. Приехала, а Алеево в 1953 г. и работала до 1995 г.
Сайфуллина Р. Х., родилась в Сулеймановке. Работала с 1955 г. по 1988 г. Её сын, Фатих Исхакович, продолжил педагогическую династию.
Абузярова Р. А., родилась в Бигееве. Работала с 1961 г. по 1996 г.
Вагапова (Сатаева) Х. М., родилась в с. Бикмосеевка. С 1958 г. стала работать в Алеевской средней школе учительницей начальных классов.
Шайдуллина (Ряхимова) Л. Г., родилась в Татарии. 35 лет проработала в школе учительницей начальных классов.
Салиева Х. Х., родилась в с. Джалилово. В 1973 г. переведена в Алеевскую среднею школу, где она проработала учителем математики до выхода на пенсию.
Салиев Р. Ф., родился в с. Могилки. В 1973 г. переводится учителем в Алеевскую восьмилетнею школу.
Абубекерова Н. Я. (Бахитова), родилась в с. Могилки. Приехала работать в с. Алеево старшей пионервожатой. С 1965 г. делопроизводителем, а с 1984 г. работала библиотекарем до 2004 г. Двое детей получили педагогическое образование и успешно трудятся в селе.
Насырова (Якупова) Х. Р., из с. Евлейка Павловского района. В 1954 г. приказом от районо переводится из Иссикеевской семилетней школы в Алеевскую школу учительницей начальных классов.
Акчурина (Шигаева) Някия Файзирахмановна, родилась в ст. Чаадаевка. С 1985 по 1994 г. она преподает историю в Алеевской средней школе и по совместительству работает библиотекарем. По стопам своей мамы продолжила семейную педагогическую династию младшая дочь.
Абдрахманова Р. М., родилась в с. Бикмосеевка. В Алеевской школе преподавала математику и физику. Ветеран труда, в 2010 г. была награждена медалью «Материнская доблесть».
Салихова Магруй Джаруловна, родилась в с. Судачок. Работала учителем начальных классов до 1999 г.
Хасанова (Губанова) Мияся Джиганшиевна, родилась в с. Алеево в семье учителя военной подготовки и физкультуры Губанова Джиганши Хусяиновича.
Сулейманова (Губейдуллина) Ряйся Махмутовна. С 1993 по 2018 г. работала учителем начальных классов.
Салихова Магруй Джаруловна, родилась в с. Судачок. Работала учителем начальных классов, а потом и в средней школе, где проработала до 1999 г.
Салихов Фярит Искяндарович, родился в с. Алеево. С 1976 г. стал работать в Алеевской средней школе учителем трудового обучения и проработал до пенсии.
В 1975 г. была построена в Алеево средняя школа и через год, впервые в истории села, 41 ученик получили аттестат зрелости в стенах родной школы. В 1991 г. в селе появилась новая школа. Многие учителя за всю историю существования школы были отмечены высокими государственными наградами: Денишев Б. Х., Бикмуллина М. К. и Грядкина В. С. удостоены звания «Заслуженный учитель»; «Отличниками просвещения» стали Вагапов Р. У., Абузярова Р. А., Салихова М. Д., Салихова М. Д. Учителю Семину Г. С. трижды была вручена Соросовская премия. Семья Абузярова Зякярии Алиевича в 1940 г. переехали в с. Алеево из Баку. С 1962 по 2003 г. Закария Алиевич работал учителем русского языка и литературы, совмещая с должностью завуча по учебной части. Первую квалификационную категорию и звание Почетного работника образования заслужил многолетним трудом, ёщё множество грамот и дипломов за особые заслуги. На протяжении многих лет собирал материалы по истории и текущей жизни села. Работал в архивах Пензы, Саратова, Ульяновска, Москвы. После выхода на заслуженный отдых ему, наконец, удалось приступить к осуществлению желания написать книгу о родном Алееве и алеевцах – участниках войны.
Г. С. Семин – обладатель Соросовской премии
Директорами школы работали: Ямбаева Н. А., Котов К. К. (с 1929 г.), Азизова М. Х., Акчурин С. И. (с 1946 по 1952 г.), Агишев М. М. (с 1952 по 1957 г.), Вагапов Р. У. (с 1957 по 1991 г.), Арифуллин Р. Х. (с 1991 по 2003 г.), Сайфуллин Ф. И. (с 2003 по 2006 г.). С 2011 г. – начальник отдела образования Неверкинского района), Ряхимова А. А. (с 2006 г.). В настоящее время школой руководит Сайфуллина Наиля Маратовна.
Сайфуллин К. Х.
Алеевцы гордятся своими земляками, внесшими весомый вклад не только в производственной отрасли и защите Отечества, но и в образовательной, культурно-просветительской, правоохранительной и религиозной сфере. Это, прежде всего, Забиров Зякярия Алиевич – педагог, награжденный орденом Дружбы за многолетний добросовестный труд; Сайфуллин Камиль Хафизович – старший следователь прокуратуры, награжденный медалью «За отвагу» в Афганистане; Насыров Равиль Абдряшитович – меценат, директор ООО «Самшит-Н», член Общественной палаты г. Саратова; Забиров Абдуррауф Абдулкадырович – религиозный просветитель, ген. директор благотворительного фонда «Поддержка исламской цивилизации, науки и образования им. Кул Шарифа»; Сайфуллина (Волгина) Юлия Фатиховна – лауреат Всероссийских песенных конкурсов и др.
Юлия Сайфуллина
В настоящее время сельская жизнь в России переживает свои самые трагические дни. Государство планомерно уничтожает деревню вот уже как три десятилетия, вовлекая, в том числе, крупные холдинги и корпорации. Но это не единственная причина. Однако, на территории администрации с. Алеево продолжают действовать социокультурные центры, функционирует филиал МУ «Районный дом культуры» на 250 посадочных мест, имеется 4 действующие мечети.
На приеме у депутата законодательного Собрания Пензенской области Акчурина И. А.
В Алеево прилагают усилия для возрождения и сохранения национальных обычаев и традиций. В библиотеках созданы уголки истории местных татарских сел. Альбомы, фотохроника старинная утварь семейные реликвии, собранные работниками культуры, служат наглядным пособием в воспитании у подрастающего поколения чувства любви и уважения к национальной культуре.
Бигеево
Становление крепостного права и этапы закрепощения крестьян начались еще в царствование Федора Ивановича. В конце XVI в., а именно в 1597 г. был издал царский указ «Об урочных летах», которым впервые устанавливался пятилетний срок сыска и возвращения владельцам беглых крестьян. Ранее в течение целого столетия крепостные крестьяне могли после окончания основных сельскохозяйственных работ в течение двух недель уйти от своего барина после уплаты отступной суммы. Царский указ был основанием для полного закрепощения свободных крестьян и введения полного крепостничества. Суды были завалены жалобами помещиков, которые просили вернуть утраченное “имущество”. Указ послужил началом переписи основного имущества своих подданных с занесением всего в специальные «писцовые книги», в которых также перечислялось по дворам все городское и сельское население. Эти книги использовались для сыска и возвращения беглых крестьян. Отныне если беглого крестьянина в течение пяти лет не могли возвратить прежнему владельцу, то он все равно становился крепостным, но только уже нового землевладельца. Все последующие царские указы и акты ужесточали положение крепостных крестьян. Уложение 1607 г. увеличило срок сыска беглых крестьян до пятнадцати лет, а Соборное уложение 1649 г. беглым крестьянам отменило срок сыска, теперь прежний землевладелец мог возвращать крестьянина до самой смерти последнего.
УКАЗ «ОБ ОТПИСКЕ У МУРЗ И ТАТАР ПОМЕСТИЙ И ВОТЧИН И ВЫГОДАХ, КА КИЕ ПРИНЯВШИМ ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ» от 16 мая 1681 г.
Указ царя великого князя Федора Алексеевича, в котором предписывалось у некрестившихся татарских помещиков отнимать их поместья: «Низовых городов и мурз и татар и у мурзинских и у татарских жен, и у вдов, и у недорослей и у девок, поместья их вотчины с крестьянами и с бобыли описать на себя Великого Государя учинилось. Мурзы и Татарово в поместьях своих и вотчинах крестьянам чинят многие налоги и обиды и принуждают их к своей басурманской вере и чинять осквернение и описанным крестьянам всякие изделия делать на себя. Мурз и татар ни в чем не слушать, и податей им не платить, а буде на помещиков и вотчинников всякие изделия делали и подати платили, и те изделия, и те изделия делать и подати платить на Великого государя… А будет которые мурзы и татарове похотят православную христианскую веру крестятся, и тех крестить, и отписным крестьянам за ним быть по-прежнему, да им же давать жалованье поместным и беспоместным Мурзам по десяти рублев, женам их по пяти рублев».
Татарское население, практически не относилось к крепостному сословию крестьян, а было преимущественно мурзами и так называемыми «служилыми татарами». Эта служба передавалась от отца к сыну и называлась «служилые люди «по отечеству». К ним относились также бояре, дети боярские, стольники, окольничие и др., и они считались привилегированным сословием, владели землей (на вотчинном, «четвертном» или поместном праве) и крестьянами. За службу получали денежное или поместное жалование, титулы и другие вознаграждения. При этом некрещеным татарам запрещалось иметь крепостных крестьян из православных.
Другая категория служилых людей называлась «по прибору». Сюда набирались люди из податных сословий, но лично свободных. Это были: стрельцы, казаки, пушкари, ямщики, затинщики, кузнецы, плотники, мостники, толмачи, засечные сторожа и ямские охотники. Позднее к ним были добавлены мушкетеры, рейтары, драгуны и пашенные солдаты. Государство не считало их полноценным войском, редко привлекало их к полковой службе, но учет их велся. Они были вооружены пищалями и «строевых коней не имели». Занимались ремеслами, торговлей, огородничеством и всякими промыслами. Все они платили в казну хлебные подати на случай войны или осадного времени. Впоследствии служба «по прибору» также превратилась в наследственную.
По другому царскому указу Федора Ивановича (1591 г.) «обелялась» пашня тех служилых людей «по прибору», по сути – помещиков, которые лично несли военную службу и жили в своих поместьях. Они на этих так называемых «белых землях» освобождались частично или полностью от повинностей и уплаты налогов. На служилое татарское население этот закон также имел воздействие: в знак вознаграждения за службу отечеству им выдавались угодья и земли в «диком поле», где возникали один за другим татарские поселения и деревни. После Соляного бунта 1648 г. «белые земли» были ликвидированы Соборным Уложением 1649 г. Отныне их на селение должно было платить государственные подати.
В нач. XVIII в. при царе Петре I служилые татары были переведены в сословие государственных крестьян и положены в подушный оклад (налог). В 1767–1769 гг. императрицей Екатериной II было создано совещательное собрание (Уложенная комиссия) из выборных представителей всех сословий для составления нового свода законов (Уложения) взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 г. В работе комиссии участвовали и депутаты от Пензенской провинции: от татар Аюп мурза Семинеевич Еникеев, житель д. Бигеево.
ПЕНЗЕНСКОГО УЕЗДА ДЕРЕВНИ БЕГЕЕВОЙ ОТ СЛУЖИЛЫХ МУРЗ И ТАТАР
«В силу Высочайшего Ее Императорского Величества манифеста, состоявшегося 14 дня 1766 г., выборному от уездных поверенных, нижеписанных Пензенской провинции служилых мурз и татар, в Комиссию по сочинению проекта нового уложения депутату Пензенского уезда деревни Бегеевой, Аюпу мурзе Семенову сыну Еникееву которому где надлежит представить нижеследующие наши общественные нужды и прошения июня дня 1767 г.»
Депутаты от мусульман просили императрицу снять некоторые экономические ограничения, восстановить в дворянских правах татарскую феодальную знать и исключить, таким образом, наложенную «инфамию». Просили также облегчить тяготы пограничной службы, платить им жалованье и т. д. Они писали:
«В древние времена роду нашего предки – служилые мурзы и татары – от своего усердия и желания выехали в высокославную Российскую Ее Императорского Величества империю из Золотой Орды, что ныне именуется Акстуба, в вечное подданство не малым числом, за которую их усердность и за принятие подданства все оные предки наши, яко служилые мурзы и татары, пожалованы землями, сенными покосами, всякими принадлежащими угодьями, а мурзам даны были во владение и крестьяне, для которого вечно и потомственного владения от предков…».
В сохранившемся до наших дней документе «Наказы жителям Бигеево» депутат Аюп Еникеев указывал, что с 1719 г. «…Определены мы с прочими таковыми ж, подобными нам, Казанской и Нижегородской губерний в ведомство Казанской адмиралтейской конторы к рубке и привозу и строению корабельного флота лесов и ту определенную работу несем мы со всеусердным рачением, но токмо от великотрудной той определенной работы в случае рубки и вывозки лесов многие из нас побиты до смерти, а прочим руки и ноги повреждены. За коим повреждением им не токмо подушных и всяких государственных податей платить, но и дневной пищи не имеют и затем уже за них подушныя и всякия подати платим мы вставшие. А когда показанное при той работе кому повреждение учинится, или кто от воли божьей заболеет, то невзирая на то, оставших в жизни принуждают вместо них нанимать. И в таком случае нанимаем охочих людей, за что употребляем не малую плату: по тридцати и по тридцати пяти копеек на день и более. А за понесенную ту нашу корабельную работу производится нам от Казанской адмиралтейской конторы зачет в платеж подушных денег каждого человека и с лошадью: в зимнее время по осми и в летнее по десяти копеек. Но и то, не зачитая того, что кто с которого числа для той работы вступил, но как кто к строению тот лес привезет. А ныне, за отдалением от пристаней, для рубки и возки того леса ездим мы дня два и по три и более и тот нам проезд к зачету в число зарабочих денег не употребляется…, а ныне как выше значит чинится нам неудовольствие, отчего пришли в совершенное разорение и нищету».
ЕНИКЕЕВ АЮБ СЕМЕНЕЕВИЧ (Аюбмурза Семенеев сын Еникеев), родился в д. Бигеево в 1731 г. Его родители в д. Бигеево переселились в 1730 г. из д. Идеево Темниковского уезда по указу Казанской адмиралтейской конторы к рубке корабельных лесов. Еникеев во многом содействовал будущему восстановлению в дворянстве татарских мурз, участвуя в работе Уложенной комиссии, и высоко поднял их авторитет. Указом императора Павла I Еникеевы были возвращены в (дворянское) благородное состояние 13 ноября 1797 г. В 1798 г. часть рода Еникеевых уехала в д. Муслимкино Вольской округи Саратовской губернии во главе с Аюбом мурзой.
Очень тяжело было нести некрещеным татарам рекрутскую повинность. По этому поводу Аюп Еникеев говорил в частности: «В минувшие с нас, служилых мурз и татар, рекрутские наборы причинились нам от тех в службу представленных рекрут большие разорения в том:
1) когда изберем одного годного и в отдачу приведем тогда тот, отбывая воинския службы объявя желание, принять святое крещение, останется по-прежнему в наших деревнях, вместо которых крестивших с великим убытком отдают других;
2) иные, не хотя платить занимаемые ими на платеж подушных денег, крестятся, и тем от платежа освобождаются и проживают с нами в одних деревнях, и ездят из деревни в деревню друг к другу, чинят нам великие озорничества и воровства, и не будучи в деревнях наших сотников в послушании, чинят отговорки, что они уже не одной с нами команды;
3) смотря на таковыя оных новокрещеных озорничества, и не видя за то им никакого наказания, и другие из некрещеных такие, как люди весьма недостаточные и весьма бедные, многие впадают в подобные тем своевольникам непотребства и воровства. Как в таких худых непорядках пойманы и приведены бывают, то принимают святое крещение и тем от указанного наказания освобождаются;
4) иные же наши иноверцы, чтоб избавиться от рекрутства, чинят многие покражи и за оныя наказываются по законам кнутом и по наказании получа свободу, чинят всякие воровства и другие подобныя тому непотребства в том ж уповании, что они за наказанием кнутом в отдачу в рекруты не годятся. И для убеждения таких нам разорений, в рассуждении, ежели повелено будет от корабельной работы нас уволить, а оставить в равенстве с государственными крестьянами то бы.
Высочайше узаконить:
1. По приведении рекруты, хотя он крестится, от службы его не увольнять, а принимать в рекруты, не взыскивая с нас других.
2. Должников оных, хотя же крестятся принуждать к платежу или оный к зарабатыванию, чтоб вперед таким от платежа долгов крещением избавлять себя было не повадно.
3. Который же во отбывательство рекрутской отдачи за малую кражу, подведет себя под наказание, а в службу годен таковых наказывать не кнутом, но по рассмотрению кражи иным штрафом и писать в службу в зачет предыдущих наборов с тех деревень жителям отчего как государственная, так и народная польза быть может, ибо по строгости законов и воровства умолятся».
Высказывались делегаты от мусульман и против насильственной христианизации, и снятия административного контроля за деятельностью мечетей и мусульманского духовенства. Также просили переселить всех обращенных татар в православие в русские селения или поселить их отдельно, ликвидировать все ограничения на строительство мечетей, не мешать отправлять все религиозные обряды, разрешить свидетельствовать, присягая на Коране; разрешить хадж в Мекку, выдав для этого паспорта и др. «Находятся из нас желающие, а особлено престарелые, по закону мусульманскому, по обещаниям своим, для богомолия побывать в Мекке, который город, в котором обстоит дом Авраамов, т. е. в Большой Аравии, что бывает гораздо редко и весьма мало таких охотников, однако ж для безопасности и сие здесь предписать рассудилось, дабы в случае таком иметь осторожность. И для того просим из Высочайшего Ее Императорского Величества матерного милосердия, ради свободного через Турецкую область проезда, как туда до Мекки, так и обратно в Россию таковым из нас, по обещаниям желающим, для богомолия давать пашпорты, с надежным поручительством, по близости жительств, [откуда] требовать будут, по примеру прежних лет, как отпускались из Астрахани татары, да и в 1743-ем г. отпущены были туда ж Шабан мурза Байтряков, Дюсенбей Тимиров, Утяган мулла Кадыбердеев с товарищами, всего двадцать шесть человек, кои, быв в той мечети и паки, яко верноподданные, в Россию в жилища свои возвратились. Равно ж и из нас желающие съездить до Мекки имеют всегда ж возвратиться без всякого сумнения.
С давних времён помянутые предки наши и мы, служилые мурзы и татары, имели до самого учреждения последнего тарифа по ярмаркам, базарам, уездам и деревням скотом рогатым, лошадьми, кожами, салом, маслом, медом, воском, всякою звериною кожею, тако ж и разным хлебом торг без всякого запрещения, а в состоявшемся в 1755 г. уставе, чтоб нам означенные торги производить или не производить запрещения и позволения не предписано, токмо случающиеся в уездах для торговых своих промыслов купцы чинят нам через приметки свои запрещения, а ныне от такого запрещения время от времени приходим в толи кое несостояние, что почти подушных денег платить и корабельную работу исправлять приходим в несостояние.
С самого выезда, как упомянуто в первом пункте, предков наших, так и потом и мы после их оставшие служилые мурзы и татары, жительствуя на пожалованных нам землях имели по нашему мусульманскому закону во всякой деревни построенные мечети, в коих отправляли по тому нашему закону богомолие, также над умершими телами служение и довольствовались тем безнужно, хотя ж близ тех наших мест и святыя восточного исповедания церкви созиждены были, но ниже самомалейшего, как и Великий Монарх Государь Император Петр I, в Высочайшее свое в Казани присутствии усмотрел, что от них великороссийскому народу из иноверцев новокрещеным не только никакого соблазна, но препятствия не происходило и пользовались тем до 1743 г. А в оном году, по силе указа Правительствующего Сената по сношению со Святейшим Правительствующим Синодом все имеющиеся наши мечети велено сломать, а потом по просьбам нашим, дабы мы не остались без богомолия, Правительствующий Сенат соизволил определить мечети нам построить, где в поселении состоит нас не менее 200 душ, а находящихся в наших татарских деревнях новокрещеных, кои в деревнях не менее десятой части, вывесть и поселить с русскими или новокрещеными. Токмо оные новокрещеные и поныне жительствуют с нами, и где хотя не крещеных в одном селении до 200 душ находится. А там же и новокрещеные в таких селениях строить мечети не допущают. А понеже наши татарские есть малыми издревле селениями и деревня от деревни расстоянием находится в отдаленности, а ежели в одной деревне построить мечеть по числу 200 душ, то за дальностию деревня от деревни, по закону нашему богомолия исправлять никак невозможно и весьма отяготительно, ибо в рабочее время принуждены будем лишаться по деревенским работам дневного пропитания. И для того просим те мечети позволить строить в каждом жительстве, как то было до 1743 г. Что ж принадлежит от впадающих против закона нашего в преступления, о таковых разбирательство по закону нашему оставить впредь на таком же основании, как и ныне, нашим муллам. А при оных мечетях необходимо быть по одному мулле и азанчею, то есть пономарь, для богомолия по нашему мусульманскому закону, а оные, как и подушный оклад, так и корабельную работу, исправляют с нами в равенстве. И для того не повелено ль будет оных, как корабельной работы так и от прочих государственных поборов уволить»[22 - «Сборник императорского русского исторического общества» [112. Т. 115].].
В том же вышеприведенном нами документе Аюпа Еникеева говорится: «Предками Всеавгустейших монархов прадедам и дедам нашим пожалованы земли и всякие угодия и с тех наших дач, отняв сильно, владеют живущие вблиз поселений наших разные помещики, на коих некоторые поселили села и деревни с людьми и со крестьянами их, о чем от нас просьбы были употребляемы, токмо от присутственных мест никакого удовольствия, по безгласию нашему, получить не могли, а прочие ныне уже и просить не в состоянии. И в жительствах же наших ныне из нас некоторые состоят и безземельные, коим уже, за сильно отнятием помещиками владением земли довольствоваться негде».
Земли были пожалованы прадедам современникам Аюпа Еникеева. Если учесть, что Еникеев родился в 1731 г., то его отец родился, вероятно, в нач. XVIII в., а прадед – в сер. XVII в. Таким образом, с. Бигеево появилось вскоре после получения земель – не позднее 70-х гг. XVII столетия.
Начавшаяся русская колонизация нынешнего Неверкинского района (в то время Кузнецкого уезда) в сер.
XVIII в. приобрела уже массовый характер, значительно ухудшив материальное положение коренного населения. Тем временем русские дворяне селили своих крестьян по р. Елань-Кададе и ее левым притокам, где находилась лучшая пахотная земля. Население всячески старалось селиться ближе к воде, чтобы оставалась возможность заниматься рыбными промыслами и огородничеством. Ко всему прочему прибавлялась неупорядоченность налоговой политики и коррупция уездных чиновников. Все это вместе взятое приводило к многочисленным конфликтам, которые вылились в итоге, в массовые неповиновения народа и его участие в крестьянских восстаниях и войнах, в том числе на стороне Е. И. Пугачева. В башкирских восстаниях 1745 и 1755 гг. против крепостнического порабощения и национальных и религиозных притеснений приняло огромное количество нерусского населения. Невыносимое положение мусульман, насильственное крещение и тяжелые условия работы – все это вместе взятое всерьез взбудоражило угнетенное население, а вспыхнувшие восстания всерьез напугали феодальные власти.
Переписная книга 1748 г. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2545, л. 619)
БИГЕЕВО (БЕГЕЕВО, БЕГЕЕВКА, ИБРАГИМОВКА, БИГИ), татарское село, центр с/совета, в 10 км. от районного центра Неверкино. Основано служилыми татарами и мурзами из Темниковского и Кадомского уездов на рубеже XVII–XVIII вв. в составе Узинского стана Пензенского уезда. Предположительно названо по имени первопоселенца мурзы Бегея Еникеева.
В 1763 г. население д. Бигеево состояло из 414 душ, 10 семей князей, 147 чел., служилых татар 24 семьи, 96 чел. За 16 лет, со 2-й ревизии, т. е. с 1747 по 1763 г., сдано в рекруты 8 чел., из них 1 крещен, безвестно пропало 4 чел., убит разбойниками 1 чел. В деревне проживало: князей Акчуриных – 4 семьи; мурз Еникеевых – 2 семьи; мурз Бигловых и Терегуловых – по одной семье.
На сайте администрации Бигеевского сельсовета, в разделе «Исторические сведения о муниципальном образовании» приводятся следующие сведения: «В одном шэджэре (родословной) представленном у Марселя Ахметжанова есть такие строки: «Мортаза [Акчурин] Биги карьясен? килеп, Биги бабай н?селе берл? берг? тора башлаган».
Таким образом, получается, что вместе с родом «деда» Биги сюда стали поселяться другие семьи. Кто этот мурза Биги, выясняется из переписных книг 1747 г., в которых первым написан Аделша мурза Бегеев сын Еникеев, 38 лет. Вероятно, его отец Бегей Еникеев был основателем Бигеево, от имени Бегей и произошло название села. В переписных книгах 1747 и 1762 гг. следом за д. Бегеево идет деревня служилых мурз и татар Адельшина (не путать с одноименной деревней), в которой в 1747 г. было около 140, в 1762 г. 146 жителей. Вероятно, она вошла в черту с. Бигеево. Эти Еникеевы, скорее всего, принадлежали к роду мурз Еникеевых, родоначальником которого является мурза Еникей Кульдяшев, служивший по г. Темникову в конце XVI в.» (видимо, также упоминается под фамилией Кильмашев).
Из фондов Государственного архива Саратовской области (ГАСО) мы извлекаем документ с длинным названием «…О благорождений, находящихся в магометанском законе мурзинских и княжеских фамилий», в котором указаны сведения о прошении мурзы д. Бигеевой Надея Юсеева сына князя Хозина с просьбой предоставить на темниковское поместье выписку и поколенную роспись.
В документе «Ведомости к топографической карте Саратовской губернии Кузнецкого уезда» (1804 г.) приводится список населенных пунктов Неверкинского района, данный пензенским историком М. С. Полубояровым, вошедшие в состав других татарских сел. Это:
АБДРАХМАНОВКА (УРМАЛЕЕВКА), бывший татарский хутор. После 1859 г. до 1930 г. вошла в черту с. Бигеево. Основана в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Вероятно, названа по имени первопоселенца. В 1859 г. – 1 двор, 6 жителей.
КЛЯВЛИНО, бывшая татарская деревня. Основано между 1747–1762 гг., с 1780 г. – в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. После 1859, до 1930 г. вошло в черту с. Бигеево. В 1911 г. – в Неверкинской волости, 85 дворов, мечеть, татарская школа. В 1911 г. в татарской д. Клявлино проживало 383 жит. местных приписных и 79 душ приезжих. Земли было относительно достаточно – по 3,5 десятины. Рабочего скота на хозяйство приходилось 0,7 голов, было еще 3 железных плуга на всех, ни сеялок, ни веялок, ни жнеек не было.
НАДЕЕВКА, бывший татарский хутор. Основана в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. После 1859 г. до 1930 г. вошла в черту с. Бигеево. В 1859 г. – 2 двора, 19 жителей.
Из д. Бигеевой также поступили прошения от мурз Сеита Мустаева сына Теркулова и Ягуды Уразаева князь Чевкина с просьбой предоставить такие же поколенные росписи. Другое прошение аналогичное прошение от Ибрагима Хансевярова сын князя Токшаитова из д. Средней Елюзани Кузнецкой округи предоставил данные от 7182 (1674 г.) и 7194 (1688 г.) о том, что его предки имели поместья Кадомском, Алаторском и Темниковском уездах. Вероятно, примерно в это же время эти князья и мурзы и поселились в здешних местах, поскольку позднее 1688 г. документов с описями уже не составлялись (ГАСО, ф. 19, оп.1, д.1).
В Саратовском архиве хранится прошение (от октября 1806 г.) Абдраюпа Рахманкулова Чекаева о присвоении своему роду дворянского статуса, который проживал в д. Бегеево Кузнецкой округи. Из прилагаемых документов следует, что они происходили из Темниковского уезда, д. Акчеево, где имели поместья в 1716 г. Служилые татары Чекаевы, по всей видимости, состояли в родстве с князьями Дебердеевыми. В XVII в. встречается часто с двойными фамилиями Дебердеевых-Чекаевых. В 1629 г. среди темниковских мурз известны Банделай, Роман, Тимамет, Мустафа, Ембулат, Бекбулат, Ахмамет и Ураз Чекаевы. В конце XVII в. упоминается Сюнбай и Шукуралей Ишмаметовы дети и Муртаза Давлеткильдеев сын Чекаев, имевшие поместья в Темниковском уезде (ГАСО, ф.19, оп.1, д.190)[23 - Всем потомкам (пензенского) рода Еникеевых по мусульманской линии в прошениях о присуждении им дворянского статуса было отказано (ГАПО, ф.196, оп.2, д.824, 825, 860; ГАПО, ф.196, оп.3, д.2, 24, 25, 26, 27, 37, 39).].
В том же источнике, размещенном на сайте администрации сельсовета с. Бигеево, говорится о том, что население д. Бегеево занималось торговлей, в особенности торговлей лошадьми. Из восточных регионов Российской империи пригоняли в д. Бегеево лошадей, а из этой деревни распродавали их русским крестьянам всей центральной России. Это была торговая деревня, чем и объясняется, что за 16 лет (между второй и третьей ревизиями) пропало без вести 4 человека, из них двое – это торговые люди (один пропал по дороге из Казани, другой – в меновом дворе в Оренбурге). Двое, получив паспорта, уехали на работу за Волгу и не вернулись. «В те времена торговля по степени опасности приравнивалась к военному делу, потому что дороги были полны разбойников. Занимались разбоем и крестьяне, и помещики, и даже порой духовные лица. Разбойники грабили и убивали на дорогах торговых людей».
С 1780 г. село находилось в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В «Списках населенных мест Саратовской губернии (1859)» показаны 2 мечети и 2 мельницы. В 1793–1794 гг. было рассмотрено Пензенским дворянским депутатским собранием прошение Адельши Кондрашева Еникеева из д. Леплейки Инсарского уезда. Реестр с копиями жалованных грамот указывает о наличии у его предков земельных угодий в различных местностях Пензенского края. В «Отчёте к топографической карте Саратовской губернии Кузнецкого уезда 1804 г.» говорится: «Деревня Бегеевка, общаго владения статского советника Василья Борисьевича и малолетних детей ево Григорья, Николая, Ивана и дочери Марьи Васильевых детей Бестужевых с протчими владельцы и казенного ведомства крестьян. Казенных дворов – 85, душ – 203». В 1877 г. – в Неверкинской волости,164 двора, 3 мечети, школа, ветряная мельница, 2 кирпичных заведения.
В следующем источнике – «Труды Саратовской ученой архивной комиссии» (т.2, вып. 1, 1889 г.) – в Неверкинской волости Кузнецкого уезда показаны дд. Бик-Булат, Мосеевка, Клявлино, Бигеево и Новое Алеево, как поселенные татарами – душевыми, четвертными, душево-четверными, дворянами, мещанами и крестьянами. Так, в документе отмечается, что «по рассказам старожилов огромная область Кузнецкого, Хвалынского и Вольского уездов была пожалована в старину служилым людям, а дд. Бик-Булат и Бигеево отданы Нур-Мамет Кильмашеву, но дата основания деревень не указана. Так, в дд. Бигеево и Клявлино 199 десятин околичной (приусадебной) земли находилась в общем владении купцов, мещан и крестьян, как душевых, так и четвертных, на правах подворно-наследственной собственности («по старым дворам») в порядке наследования, узаконенном шариатом. В дд. Бик-Булат и Мосеевка 319 десятин околичной земли находилось в общем владении всех четвертных и душевых владельцев, уравнительно 466 ревизским душам мужского пола (на одну душу – 0,77 десятин околичной земли, пашни – 0,5 и посева – 0,23 десятин). В Новом Алеево околичная земля находилась во владении 24 владельцев (на «новый двор» по 2,7 десятин всей земли)». Также отмечалось, что в распоряжении 485 владельцев дд. Бик-Булата, Клявлино, Мосеевки и Нов. Алеево находится 600 четвертей пашни. При этом перемешаться ревизские души должны были лишь в пределах каждого селения, в другое селение – не имели права. Десятины душевых крестьян чередовались с десятинами четвертных, и тем самым получалась «ужасная чересполосица». В то же время отмечалось, что никакие переверстки и переделы земли не могли устранить эту проблему: так, например, душевые владельцы получали околичную землю в 8 местах и полевую в 8 местах.
Таким образом, душевой надел в одну десятину пашни был разбросан в 16 различных местах. Душевой загон получался в полсажени шириной, что не пропускала бороны. По этой причине стоимость сдачи в аренду такой ленточной земли была ничтожно низкой. Такая система владения была крайне затруднительна и вела в беспрерывные столкновения владельцев. Сознавая это, администрация уже почти 100 лет стремилась к замене четвертного землевладения на общинное, но там, где отношения владельцев были враждебны, переход был невозможен. Но переверстка полей оставалось единственно возможной мерой, которая могла бы поднять арендные цены, устранить тяжбы, повысить земледельческую культуру и выйти татарам этих селений из разорительного своего состояния[24 - «Труды Саратовской ученой архивной комиссии»/ Т. 2, вып. 1. – Саратов, 1889.].
В 1911 г. в д. Бигеево проживало 1137 жителей при 221 дворе и 70 семей приезжих, всего 430 душ мужчин и женщин. Земли на семью было также относительно мало – по 2,6 десятины. Рабочего скота и того меньше – 0,7 голов на хозяйство. Механического или современного инвентаря ничего не было, кроме 10 железных плугов. Было в деревне 3 мечети, 2 татарские школы[25 - В 1934 г. – в Павловском районе Средневолжского края. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Кзыл-Иль». Численность населения: в 1996–482 жит., 2004–140 хоз-в, 476 жит. С 1859 г. до 1930 г. в черту села вошла д. Клявлино.].
Уместно еще вспомнить, что весь XVIII в. характеризуется в истории Пензенского края усилением феодальной эксплуатации крестьянства. Принудительный, бесплатный труд крестьянина в хозяйстве земельного собственника (барина) назывался барщиной. Широкое распространение она получила еще во второй пол. XVI – первой пол. XIX в. Барщина исчислялась либо продолжительностью отработанного времени, либо объёмом работы и производилась личным инвентарем крестьянина. Такая повинность заключалась в обязательном труде крестьянина вместо денег оброчной подати (налога). Но при этом в нечерноземных районах помещики переводили своих крестьян на оброчную систему, поскольку в условиях скудности земель выгодней было получать с крестьян оброк, а не барщину. Возраст мужчин, привлекаемых к работе, был от 18 до 55 лет, и работа летом длилась по 12 часов. Размер барщины в XVIII в. увеличился с трех до четырех-пяти дней в неделю. Ответственность несло все крестьянское общество, из которого крестьянин не имел права выхода. Крестьяне, разумеется, не могли платить подати и одновременно отрабатывать барщину. Но сборщикам налогов предписывалось собирать у крестьян подушную подать со всей строгостью с применением силы. Однако недоборы составляли более трети окладной суммы и эти недоимки быстро росли.
Карта межевания с указанием д. Бигеево 1778–1797 гг.
Так, в одном из трудов профессора и члена Саратовской учёной архивной комиссии А. А. Гераклитова описан следующий способ взимания недоимок с крестьян: «Административное управление Саратова было в лице воеводы, который присылался из Москвы…Земской староста во всех хозяйственных делах города и близлежащей местности был представителем всех жителей, обязанных каким-либо повинностям в пользу государства… Источников жалованья служилых людей были общественные рыбные, лесные и др. промыслы, подати и разного рода сборы с посадских торговых и приезжих людей. В случае неудовлетворительного поступления в земскую избу этих сборов, взыскание недоимок производилось посредством правежа, который состоял в том, что недоимщика выводили на площадь и в присутствии воеводы наказывали розгами до тех пор, пока он сам или кто-либо из сострадания к нему не уплатит числящийся за ним недоимок или хотя бы ее части. В последнем случае праваж откладывался на следующую неделю, и так до тех пор, пока недоимка не будет уплачена сполна. Еще не успевали зажить раны, как недоимщика снова ведут на площадь для новых терзаний. Такие, еженедельно повторяющиеся сцены правежа недоимок по приговорам губных старост, естественно, ожесточали нравы жителей Саратова и без того уже видевших жестокие расправы среди окружающих диких кочевников. При таких условиях саратовцы не замедлили заимствовать свободное и скотское отношение к семье, грубое и жестокое отношение друг к другу, и все, что только услаждало и удовлетворяло грубые страсти»[26 - А. А. Гераклитов. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. – Саратов, 1923.],[27 - Губных – от слова губить, губление. По другой версии происходило от слова губа, якобы означающее волость, усадьбу или ведомство.].
Указ от 31 января 1718 г. о принуждении для работ по заготовке корабельных лесов на нужды флота «брать Казанской, Нижегородской и Воронежской губернии и Симбирского уезда служилых мурз, татар, мордву и чуваш без заплаты» сильно ударила по социальному статусу служилого нерусского приписного населения (лашманов). Одновременно с живущего далеко от лесов населения было предписано взимать денежный сбор. Вскоре служилые татары были низведены до положения податного населения (государственных крестьян).
Положение крестьян, особенно с началом царствования Петра I, а затем и в последующее время представляло собой очень печальную картину. Статистические данные свидетельствуют о том, что около половины крестьянских хозяйств в сер. XVIII в. находились на барщине, еще около 20 % – частью на барщине, частью на оброке, остальные – до 36 % – на оброке. Крепостные крестьяне были обычным товаром, об их продаже объявления свободно публиковали газеты. Крепостная душа без земли стоила 10 руб., ребенок – 10 коп., а цена борзого щенка достигала иногда трех тысяч руб. Приведём пример одного из характерных объявлений того времени:
«Продаётся малый 17 лет и мебель».
«Продаётся 11 лет девочка, 4 кровати, перины».
Объявления о продаже дворовых людей и 3 девушек 14 и 15 лет «всякому рукоделью знающе»
В связи с этим стоит отметить, что даже в нач. XX в., согласно наблюдениям В. Г. Коро
голодающим, в 1907 г. ситуация в деревне стала заметно хуже: «Теперь (1906–1907 г.) в голодающих местностях отцы продают дочерей торговцам живого товара. Прогресс русского голода очевидный»[28 - В. Г. Короленко «В голодный год» Наблюдения и заметки из дневника Собрание сочинений в десяти томах.].
По окончании этого раздела хотелось бы упомянуть о горькой до слез судьбе маленького Габдуллы Тукая, которого дважды отдавали на воспитание в чужие семьи, поскольку родственники сироты были не в состоянии его прокормить. Сам Г. Тукай вспоминал: «Ямщик остановился на Сенном базаре и стал выкрикивать в толпу: „Отдаю ребёнка на воспитание, кто возьмет?“. Из толпы вышел мужчина, забрал меня у ямщика и как приемного сына привел домой». Но и эта семья через два года была вынуждена мальчика вернуть: «Мое возвращение для домочадцев, считавших, что навсегда избавились от меня, явилось полной неожиданностью. Вскоре дед и бабушка, потерпевшие неудачу устроить меня в городе, задумали найти семью в деревне. Каждого, кто проезжал мимо, спрашивали, нет ли у них желания взять в семью сироту».
Бигеево в годы Советской власти
Серьезные перемены в жизни Среднего Поволжья были связаны с приходом к власти партии большевиков. Архивные материалы дают возможность исследовать большинство татарских селений и увидеть все те трудности и проблемы, с которыми столкнулись проживающие в них жители. Советское государство, приняв на себя обязательства в деле восстановления всего народного хозяйства, одновременно приняло обязательство контроля над теми процессами, которые происходили в деревне. Властью на местах стали областные, губернские, уездные, волостные Съезды Советов. Депутаты избирались населением прямым открытым голосованием на избирательных собраниях, на многопартийной основе, независимо от вероисповедания, национальности, пола, оседлости и т. п. При этом избирательных прав были лишены лица, прибегающие к наемному труду и живущие на нетрудовой доход. Также не имели избирательных прав и права быть избранными частные торговцы, духовенство, бывшие полицейские, осужденные за преступления и душевнобольные.