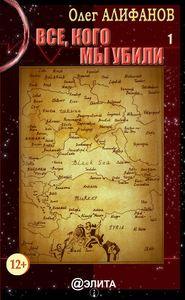скачать книгу бесплатно
Я невольно вздрогнул: хозяин стоял от нас в двух шагах. Умело повёрнутый фонарь по-прежнему скрывал его лицо. «И давно он так подслушивал, или только что из-под земли вырос?» – подумал я, и сказал, плохо скрывая злость и уперев глаза во тьму, где полагалось бы находиться зрачкам старика:
– Мы с товарищем беседовали о Священном Писании, именно – рассуждения наши вращались вокруг книги Бытия, где сказано об опасности срывать плоды с древа познания.
Ведун тем временем заварил нам трав, о чём и сообщил, не ответив никак на мои слова. Сделав лишь несколько глотков горячего настоя, я ощутил покой и блаженство, глаза сами закрылись, и сон сморил меня глухой и мирной теплотой.
Я, мне казалось, просыпался. Старик всё время сидел за столом и что-то изучал, шевеля губами. Чудилось, что видел я и Прохора. Но голова обременяла меня трёхпудовой гирей, и всякий раз, порываясь встать, я только глубже проваливался в тягучую трясину дрёмы. Последний раз мне привиделось, как ведун встал, завернул что-то в тряпицу, и вышел.
Когда я очнулся, окно маленькой горницы уже брезжило слабым рассветом, я потянулся, размял члены и осмотрел себя. Вид оставлял желать лучшего, представляться в таком обличье семейству князя было бы верхом нелепости, но поделать я ничего не мог.
Поискав глазами образа, и не найдя красного угла, я помолился на перекрестье светлого оконного пятна, полагая его обращённым к востоку, переступил через храпевшего ещё ямщика и собрался выйти из дому, как взгляд мой упал на стол, за которым, как мне смутно помнилось, оставался сидеть хозяин в свете дрожащей лучины, когда меня сморил Морфей…
Там лежала украденная у князя вещица с неведомыми письменами!
Я разом испытал облегчение и досаду. Всё разрешалось просто: лошади, повинуясь природному чутью, сами пригнали повозку с нашими пожитками к ближайшему жилищу, от того старик, прочитав документы или предписания, и ведал моё имя. «Невеликий ты прозорливец», – усмехнулся я про себя, садясь за стол. Покрутив так и сяк сей рукотворный предмет, я, опасаясь как бы и в другой раз не лишиться его, решился тут же сделать копию в свой походный дневник.
Для этого использовал я простой способ, исключавший всякую возможность ошибки. Выдрав лист, и плотно приложив его к ровной плоскости, на которой оставила глубокие борозды рука неведомого резчика, я быстрыми движениями грифеля заштриховал поверхность, и на бумаге проступили чёткие очертания знаков.
Едва лишь я кончил и убрал зарисовки, как старик бесшумно возник сзади, чем заставил меня невольно подскочить, как нерадивого ученика, которого учитель застал за курением. Камень уже лежал в моём кармане, но руку я ещё только извлекал оттуда, и старик, не скрываясь, следил за её движением. Вид его, в новой чистой рубахе, подпоясанной не по-мужицки, напоминал скорее мелкого купца, чем крестьянина.
Несколько времени смотрели мы друг другу в глаза, словно бы определяя, кто из нас и о чём уже догадался без слов, после же он, отведя взор в сторону очнувшегося ямщика, вымолвил:
– Лошадей твоих я напоил и пустил пастись.
Прохор, не помня себя от радости, бросился вон.
– Сундучок твой там, в сенях, – едва прошевелил он губами в глубине седых усов.
Я кивнул. Неприязнь моя к нему грозила обернуться ненавистью. Ясно чувствовалось в нём нечто, чего я не мог постичь. Все минувшие события начали казаться мне частью его промысла, в котором я не имел самостоятельной роли, а лишь следовал позади событий. Более всего обижало меня то, что я, даже сознавая это, не в силах был что-либо изменить.
– Ведун, значит, – хмыкнул я зло, потому что едва мог стерпеть мысль, как он перебирал мои вещи. – А кроме моих дел, что знаешь?
– Спрашивай, – ответил он, не успел я кончить вопрос.
– Что скажешь про последнюю битву?
– Шла здесь, – он опустил голову с гладко прибранной шевелюрой, и хмыкнул, задержав взгляд на пустом столе.
То, как, не переспрашивая, не замедлил он с ответом, и после многозначительно замолчал, ещё более смутило меня.
– В Писании говорится, что битве при Армагеддоне ещё предстоит случиться, пред концом света.
– Ты учёный, – усмехнулся он в бороду, – тебе видней. Вон – книгу Бытия читал.
– Почему же её назвали последней? – пропустил я его насмешку.
– Больше уж, верно, не с кем биться стало, – ответил он, не отрывая глаз от стола.
– Но с тех пор… – начал я, но он прервал меня:
– Отдай, – сказал он тихо, но внятно.
– Почему же я должен отдать? – едва удержался я, чтобы не хватить его этим камнем.
– Верну на место.
– Я сам верну Прозоровскому, коли это его вещь. Прохор! – громко распорядился я в окно, показывая, что спор окончен. – Подай, любезный, мой саквояж.
– Он – не хозяин, – отвечал знахарь всё так же глядя в стол.
– Уж не ты ли хозяин?
– Не то спрашиваешь.
– Чего же тебе, мужик, надо?! – зло воскликнул я.
Он, наконец, оторвал взгляд от доски и перевёл его на меня. Признаюсь, мне стало несколько не по себе от свирепой ярости будто метнувшихся в меня молний, но я стерпел.
– Я – наследник. – Голос его был спокоен, даже равнодушен, но за этим крылось кипение пылких страстей.
– Ну, раз ты наследник, то должен знать, что это. Скажешь – отдам.
– Проклятье, чтоб тебе не жить!
Признаюсь, пожалел я, что нету со мной нагайки.
– Будь ты дворянин – сейчас бы уже посылал за секундантом, а крепостным – выпороли бы нещадно, хоть ты и старик.
Он словно вырос, твёрдый надменный взгляд его упёрся в меня, но я ответил тем же. Однако манерой держать себя он мог сравниться и с полковником, уже досадовал я о своей речи. Я уж вознамерился убрать вещицу в саквояж, как увидел в нём ещё один камень, похожий на тот, что держал сейчас в руке.
– Отдай же, – старик протянул руку, и я покорно вложил в неё его камень.
В самом деле, на моём экземпляре имелся скол, а этот обладал совершенно правильной формой. Но тогда выходило, что я рисовал знаки с чужого?
– Ладно, – смягчился я, и вытащил свой, раз уж скрывать что-то от хозяина не имело смысла. – Что тут сказано?
– Буквами много не прочтёшь, – упрямо ответил Ведун, отступая в свой угол. – А камень трижды за три дня видел. На нём скорбь.
– Он тоже – твоё наследство?
Ответил он кивком, после добавил:
– Поедешь своим путём – верни добытчику. Поплывёшь морем – брось его.
– Что ж ты не просишь тебе отдать, а велишь выкинуть?
– Ты не отдашь. Но выкинешь. Пусть трепещут под водами.
«Чтоб тебе, чёртов оракул!» – чуть не воскликнул я, ощущая духоту и порыв быстрее покинуть этот hermitage terrible.
– В какую сторону мне отсюда ехать? Я должен быть у князя Прозоровского, – спросил я, чтобы моё отступление не выглядело позорным бегством.
Старик же снова ответил вовсе про другое.
– Поедешь дальше – случиться беде. Вернёшься – будешь жалеть, что не доехал.
– Жив-то хоть останусь? – горько усмехнулся я.
– Если не станешь глубоко рыть, – рявкнул он, сверкнув глазами и в его усах заметил я ухмылку. – Теперь ступай, тебе тут не место.
– Как и иконам? – вопросил я с суровостью в голосе, не желая оставлять за своим противником последнего слова.
Он прищурился с какой-то особенной злобой.
– Так ты в Синод напиши, – услышал я ворчание от крепкой медвежьей спины; он удалялся уже. – Заодно спроси в Библейском Обществе: отчего же Бог не убьёт сатану?
Прохор аж крякнул с досады, стегнув коней, и долго ещё пыхтел себе под нос укоризны в адрес всех уже встреченных нами и будущих персон. Впрочем, нежданно вновь обретённые им огурцы несколько скрасили ленивый его быт на козлах. Покончив с ними и напившись, он начал с другим аппетитом:
– А то ещё история: помер у князя работник. Чёрным кашлем изошёл. – Не дождавшись от меня вопроса, объяснил сам: – Харкал чёрной мокротой. Пока все кишки не выплюнул. Думали, чума. Ан, нет, только он один и помер. И месяца не прошло ещё, да. Сразу вспомнили про такой же случай при старом князе. Слуга его неделю мучился, сажу с кожи отдирал, кашлял так – глаза руками держал, чтоб не вылезли. И тоже, конечно, помер. Говорили, сунул нос, куда не звали. Князь его и заговорил. Чернокнижник, ему человека сжить, что мне огурец сжевать. Так-то-с! – заключил он строго, словно осиновый кол вбил.
Весь путь до последнего перед имением князя постоялого двора провёл я в самом хмуром расположении духа, размышляя о судьбе и о свободе воли, согласно которой я, несмотря ни на что, двигаюсь по раз избранному пути.
Ни сытный обед, ни солёные байки ямщика, ни даже купальня, которую я приказал натопить и в коей с наслаждением предался мытью и катанию, не могли до конца развеять сомнений, кем избран путь тот – моим ли разумом, или юношеской гордыней, безжалостно овладевшей этим слабым инструментом познания.
4. Художник
Когда приведя себя в порядок, вышел я к самовару, ко мне обратился с просьбой староста, сморщенный всегдашней усталостью пожилой человек с серым заискивающим лицом и остатками выправки, выдававшими отставного солдата. У него недоставало лошадей, а здесь маялся с вечера один проезжий, также направлявшийся к князю. Старшина спрашивал, не соблаговолю ли я взять его в попутчики? Я вслух удивился тому, что, кого бы ни встретил на пути, все ехали или к Прозоровскому или от него.
– Что ж за диво, – развёл руками он, – тут вокруг только и земель, что Его Сиятельства, куда же ещё им ехать.
За дощатым столом в углу сосредоточенно читал пожухлую книгу юноша, чьи печальные глаза и убранные по-европейски длинные волосы сразу почему-то расположили меня к нему, и я дал согласие. Чем биться в одиночестве со своими сомнениями, не лучше ли скоротать время в пути, общаясь с образованным сверстником, решил я и, усилием подавив высокомерие, велел нас представить.
Молодого человека звали Владимир Андреевич Артамонов, он отрекомендовался художником и, обрадовавшись оказии, за чаем рассказывал мне:
– Два года я посещал занятия как своекоштный вольнослушатель в Петербургской Академии Художеств. Мог получить и чин десятого класса, да предпочёл совершенствоваться в своём мастерстве, отбыв стажироваться в Рим и Флоренцию, где сам Кипренский был моим чичероне по древнему граду. А теперь уж два месяца в пути. Притом, заметьте, путешествие из Венеции через свободную Грецию с пленэрами в Акрополе отняло у меня шесть недель, а по прибытию в Одессу уж без малого две. То прогонные не так выписали, то лошадей нет, то ступица сломалась. А вы – коллежский асессор, как мне сказали? Высоко. Удобно. Коней по чинам скорее дают. Признаюсь, не призови меня Их Сиятельство спешно на родину, сейчас малевал бы тосканские пейзажи. Так что ныне держу путь к благодетелю моему, князю Александру Николаевичу, коему всецело обязан своим образованием и положением.
С трудом догадался я, что так выделяло его внешность. Не лоск модной одежды, редкой у нас в эпоху кокард и мундиров, ни ухоженность рук и даже не цвет лица, по отсутствию землистого оттенка в котором так легко опознать иностранца в Петербурге – приветливый вид, вежливая осанка, взгляд неробкий, истекавший из ясных зелёных глаз облагораживал собой его манеры и жесты, заставляя меня только завидовать.
Признаюсь, не уловил я, с презрительной ли иронией выразился он относительно моего чина или вполне всерьёз. Одну секунду даже хотелось мне вспылить, мол, не за званиями шёл я в Университет, и что положение моё в табели о рангах – заслуга сугубо личная и редкая для недавнего выпускника, но только вежливо поинтересовался, чьи шедевры везёт новый знакомый – купленные или… итальянские.
– Холсты мои, – улыбнулся он, похлопав тяжёлый медный тубус. – А что до книг, в основном французских, их князь выписал, я лишь своего рода почтальон. – «Га-Багир», – пояснил он, ловя мой взгляд на открытом титуле лежавшей на столе книги.
– Это – «Багир»?! – воскликнул я, будто ужаленный. Никогда не доводилось мне держать в руках сих едва ли не запретных сочинений.
– Вы удивлены, что я в состоянии читать сей источник? Полно вам, это всего лишь изложение для неофитов, и, – понизил он голос до доверительного шёпота, – боюсь, не вполне умелое. Князю же везу один из старинных рукописных списков оригинала и берлинское издание тысяча семьсот шестого года. Мне же он настоятельно рекомендовал до приезда ознакомиться, да я пошёл путём незатейливым, как видите.
– Это же, кажется, каббалистическое сочинение? – вскинул я брови, и сразу позабыл о нашей пикировке, зато припомнил слова Бларамберга и почему-то всё, связанное с чёрными ритуалами, описанными в «Северной Пчеле». – Так князь и вправду каббалист?
Художник неопределённо повёл плечами. После раздумий, уже в повозке, вывел:
– Князь имеет репутацию человека со странностями. Их некогда обширный и влиятельный род угасает, он последний прямой наследник мужской линии. Говорят, что некое проклятье тянется за ними с незапамятных времён. Князя Ивана, в бытность воеводой Астрахани, самолично сбросил с башни атаман Стенька Разин. А сына его лет восьми повесили за ноги.
– Читал про то, – нахмурился я. – Не поверю. Не поверю в проклятье, а не в историю. Уж если имелся смысл кому и проклинать, то князю бунтовщика.
– Ну, а если положить, что проклятье имеет более древние корни? Что, право, знаем мы о прекрасных заклинаниях древности, надёжных печатях, сдобренных прямыми сношениями с силами тьмы, не сдерживаемыми никакой ещё церковью! Что рядом с ними наши жалкие наговоры и анафемы… – уловив мой удивлённый взгляд, Владимир поспешил заверить меня в шутливости сказанного и закончил как об очевидном: – Впрочем, любое проклятье имеет оборотную силу. Каббала, которой вы опасаетесь, утверждает то же.
– Уж вы с ним не юдаистской ли веры? – неприязненно вопросил я.
– О, нет, – сказал он. – Знаете, каббала имеет лишь касательное отношение к иудейскому почитанию Бога, а что до меня, то я и вовсе не слишком верующий: обрядовая сторона чужда моему восприятию, хотя я допускаю Логос.
– Логос! – удивлённо воскликнул я.
– Вона! – вторил Прохор. Мы покосились на него, и он, поспешив отвернуться в пустую уже крынку, стегнул ни в чём не повинную пристяжную, от чего бричка дёрнулась, и мы с Артамоновым столкнулись плечами.
– Художники, как никто, должны созерцать в мире божественность, – предположил я.
– Божественность! Точное слово, но плохо сочетается с обязанностью верить, – отвечал он. – А вы сами?
– Я – учёный, и во всём наблюдаю гармонию, свойственную построению очень высокого порядка. Что уж говорить о моральных законах!..
– Так, выходит, Алексей Петрович, и вы – каббалист, да только не сведущи в этом.
– Вам так видится, Владимир Андреевич? – я покуда излучал вежливость, находясь в полной готовности схватиться в споре.
– О, да. Каббала изучает все высшие тайны и закономерности: создания и структуры вселенной, высших сил, цели жизни людей и народов… однако, все мои попытки учительствовать, право, смехотворны, я и сам знаком с вопросом крайне поверхностно.
– Святые отцы церкви почитали каббалу за противное христианскому духу учение, – покачал головой я. – Я не стану оспаривать их мнения. Впрочем, вам, верно, это не авторитет.
– Моральные законы! – воскликнул он, не поняв или не приняв моего вызова. – Я повидал их действия в Европе и ещё ужаснусь им у родных пенатов. Благообразно молятся в воскресенье – и в понедельник устраивают правила благородного ведения войны – насмешку над благородством; вторник же посвящают лицемерному сочинению порядков мира, кои ещё ужаснее военных; справедливостью и не пахнет на земле. Узурпатор, вторгшись в нашу Отчизну, укорял императора в том, что его крестьяне без чести и правил вилами вспарывают животы его солдатам на променаде. Искренне полагая расстрел картечью из пушек целых масс этих же самых рабов, но лишь обряженных в мундиры, цивилизованной нормой.
Держа на сей счёт уста запечатанными, я не мог не согласиться с ним в мыслях.
– Наш мир, мир Бога – милосерден, а не справедлив. Беда тем, кто искажает заповеди любви, – лишь заметил я кратко.
– В наших – и только – силах сделать его милосердным. У животных нет ни того, ни другого, а мы по ненасытному произволу присвоили себе права царей над всем земнородным. А в известном смысле – и над небесным, – ответил Артамонов убеждённо.
– Бог дал Адаму власть над всеми тварями.
– Некоему идеальному существу, именуемому непорочным Адамом, облечённому в первородную одежду из света – да, но в нас уже тычет кровь первоубийцы Каина. А, быть может, и кого пострашнее. Между Адамом и нами лежит тёмная пропасть смешения с неведомыми тварями, потоп и невесть что ещё, о чём Писание вовсе молчит. Меня, Алексей Петрович, успокаивает лишь то, что повезло мне гостить нынче в полуденных краях, – свободных и управляемых просвещёнными моими соотечественниками… а больше иностранцами, – горько заметил он.
– Так вы ощущаете себя гостем в Отечестве? – мне стало жаль его, в ком читались одиночество и печаль.
– Увы, – бросил он многозначительный взгляд и отвернулся в сторону, – наследство моё ещё менее определённо, чем будущность.
Я не стал расспрашивать, что имел он сказать этой странной сентенцией. Словно отголоском настроения нашего день изменился, солнце затянули сплошные пелены облаков, и мелкий дождь напрочь смыл из здешней природы первозданную радость, открыв мне бескрайнюю тоскливую серость неотличимых земель и небес. Прохор поспешил поднять драный кожаный верх, скрипевший от ветхости и грозивший сложиться от встречного ветра.
– Известно ли вам что-либо о проклятии иного сорта?.. Одна местная легенда…
– О, да! – поспешно отозвался он, оживившись. – Земли эти прокляты. Разве вы не чувствуете? Пустыня. Мёртвая Сахара Причерноморья.