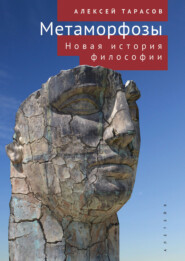скачать книгу бесплатно
Говорят, что дети с аутизмом предпочитают объекты другим людям. Когда Лео Каннер впервые описал аутизм в своей статье 1943 года, он отметил интерес к физическому миру, проявляемый этими детьми. Он предположил, что стремление детей к «одиночеству» было связано с их интересом к предметам. Предметы, которые не меняют своего внешнего вида и положения, которые сохраняют свою неизменность и никогда не угрожают нарушить одиночество ребёнка, легко воспринимаются аутичным ребенком. У него хорошее отношение к предметам.
Однажды я лично имел возможность наблюдать за поведением личности с аутизмом. Это был подросток в возрасте 11–12 лет. Несмотря на часто указываемую «нелюдимость» таких личностей, данный субъект демонстрировал если не что-то прямо противоположное этому, то, во всяком случае, несколько странное поведение. Однажды я шёл по своим делам. И мне попался этот мальчуган, о котором я знал, что он «особенный». «Попался» – это не совсем точное слово. Скорее, это я ему «попался». Он стоял на обочине тротуара и когда я поравнялся с ним, то он пошёл попутно рядом со мной, как будто специально ждал меня, при этом ничего не говоря, то чуть отставал, то, наоборот, обгонял меня. Иногда вовсе шёл как мой попутчик и даже смотрел на меня, словно хотел, чтобы я с ним заговорил, при этом сам бурчал себе под нос что-то неразборчивое. Это было послеполуденное время довольно жаркого летнего дня в небольшом провинциальном городе, поэтому людей на улице было очень мало. Точнее, какое-то время их на нашем пути вообще не было. Но поскольку я хожу довольно быстро, то в какой-то момент (через 3–4 минуты) впереди показалась женщина, которая шла в том же направлении и которую мы догоняли.
Как только мальчуган увидел её, то со всех ног бегом резко бросился её догонять. Самое интересное, что когда он её догнал, то стал вести абсолютно точно так же, как и со мной. Он к ней «приклеился», выбрав очередным «поводырём». Таким образом, этот мальчуган, с одной стороны, не вступал в коммуникацию с нами, но, с другой стороны, вовсе не был «нелюдимым», хотя и использовал людей очень странным образом – как ориентиры, маяки, поводыри, вещи, метки, знаки. Он перемещался между нами. Он по какой-то причине не мог идти один и ждал попутчика. Он как сёрфингист шнырял между нами, используя людские потоки. Общеизвестно, что для аутичного индивида очень трудно собрать воедино все виды информации, полученной из прошлых воспоминаний и настоящих событий, осмыслить свои переживания, предсказать, что, вероятно, произойдёт в будущем, и составить планы. Людям с аутистическими расстройствами трудно ориентироваться во времени и пространстве.
Еще один интересный факт, необходимый для лучшего понимания природы «аутизма», можно подчерпнуть из анализа исследований так называемого «зрительного поиска», который находит практическое применение в самых разных и хорошо известных всем областях. Например, при досмотре багажа в аэропортах. Что происходит, когда человек начинает просматривать сотни и сотни чемоданов, сумок, рюкзаков, бегущих по ленте мимо него? Он получает картинку, рассмотрев которую, должен принять решение: есть ли в сумке запрещённые к провозу предметы или их там нет. Главная проблема этой задачи заключается в том, что чаще всего таких предметов нет. Этому явлению даже придумали название – «проблема редко встречающихся объектов». Из-за того, что объектов нет – точно так же, как, к счастью, в скрининговой диагностике редко встречаются снимки, подтверждающие наличие раковых опухолей, – человек привыкает, что их нет, и не видит их в упор, когда они появляются. Если только он не аутист. Недавние исследования показали, что люди с синдромом аутизма с такой задачей справляются лучше самых подготовленных экспертов. Для них проблемы редко встречающихся объектов просто не существует, в то время как у профессионалов она очень и очень частая.
Мы привыкли и даже не замечаем, что контекст придаёт смысл частям. Например, музыкальная нота может звучать очень громко, если ей предшествует очень тихая. И наоборот, эта же нота может звучать очень тихо, если ей предшествует громко сыгранная партия. То же самое верно и для высоты тона. Абсолютная высота звука – это способность слышать тон в точности таким, какой он есть, независимо от его контекста. Удивительно, но около 30 % людей с аутизмом, не обученных музыке, обладают этой способностью. Это называется «абсолютный слух». Проблема в том, что такой человек не может обучаться ничему новому. Его знания – врожденные!!! Прямо как у Декарта и его критика, Локка!
Известно, что магия присваивает знания, чтобы превратить их в самореферентную систему, независимую от мира, из которого они были извлечены. Это присваивающее поведение ничем не отличается от поведения аутичного индивида, который, по-видимому, усвоил весь мир до такой степени, что больше не способен взаимодействовать с внешним миром. В этом состоит различие между магией (аутизмом) и нормальностью (мистикой). В первом случае индивид ищет средства достижения того, чего он хочет, во что бы то ни стало. Во втором случае он ищет средства достижения того, о чём даже и не мечтал. В первом случае речь идёт о закрытой системе, во втором – об открытой.
Несомненно, люди с аутизмом имеют свои сильные и слабые стороны в плане способностей к обучению. Выделяют два основных аспекта познавательных способностей – «подвижный интеллект» (fluid intelligence) и «кристаллизованный интеллект» (crystallized intelligence). Кристаллизованный интеллект лучше всего можно описать как врождённые способности человека к рассуждению. Напротив, подвижный интеллект связан с приобретением с течением времени, в процессе жизненного опыта знаний и способностей (в том числе словарный запас, навыки). Люди с аутизмом, как правило, имеют необычно высокие показатели в тестах на кристаллизованный интеллект, но часто значительно ниже среднего в тестах на подвижный интеллект. Эта дихотомия связана с понятием, называемым нейронной пластичностью. Хотя люди с аутизмом обрабатывают информацию с большей скоростью, чем «нейротипичные», они не способны считывать социальные сигналы и понимать некоторые тонкости языка, такие как юмор, игра слов или сарказм.
Комизм и смех – это по определению коллективные явления. Собственно, на них и проверяются социализация, интеграция, включённость, либо, наоборот, инаковость, отчуждённость от других. Конрад Лоренц в своей книге «Агрессия, или Так называемое зло» отмечает, что «смех… порождает чувство… общности… Если люди могут вместе смеяться…. это первый шаг к её [дружбы] возникновению… Общий искренний смех над одним и тем же создаёт мгновенную связь… Смех образует связь, и он же проводит границу. Тот, кто не может смеяться вместе с остальными, чувствует себя «исключённым», даже если смеются вовсе не над ним или вообще ни над кем и ни над чем»[18 - Лоренц, К. Агрессия, или Так называемое зло. – М.: AST Publishers, 2017, С. 59.]. Если у человека нет общности в смехе вообще ни с кем, то, согласно Лоренцу, это знак, говорящий о существенной, «этологической инаковости»: следует ожидать, что и в других отношениях, и в целом – в самом устройстве и типе личности – у него тоже есть некая отъединённость, «странность».
Люди с аутизмом очень внимательны к мельчайшим деталям, иногда в ущерб общей картине. Они склонность воспринимать мир по частям, а не как связное целое. Объекты они воспринимают в их полной дискретной и конкретной индивидуальности, а не как части более широкой абстрактной категории. Аутичное познание основано на «локальной согласованности», одним из аспектов которой является отказ от подчинения восприятий иерархии – отдельные события полны и завершены сами по себе, а не служат более высокой целостности.
В терминах религиозной философии это можно обозначить как противостояние трансценденции и имманенции, что довольно важно для понимания философии Джорджа Беркли. Аутизм – это имманенция, тогда как Беркли – сторонник трансценденции, то есть возможности выхода за пределы наличного или, в терминах психологии, возможности гештальта.
Тела многих аутичных людей часто работают плохо. Судороги – привычный факт жизни для многих из них. Сенсорная перегрузка является распространённым явлением и, возможно, является причиной многих жестоких истерик. Звуки слишком громкие, цвета слишком яркие или вкусы слишком пикантные, просто прикосновения – всё может быть болезненным. Даже ощущение проглоченной воды может быть чересчур интенсивным. У некоторых аутистов возникают проблемы с инициированием или остановкой движения. Многие аутичные дети успокаивают себя, взмахивая руками или выполняя другие навязчивые движения.
Нормально развивающиеся дети могут легко следовать по пути, проложенному эволюцией и культурой. Но дети-аутисты должны находить свои собственные особые маршруты на окольных путях.
Многие родители сообщали, что в младенчестве их дети казались им совершенно нормальными. У них не было причин для беспокойства, пока их ребёнок внезапно и необъяснимым образом не изменился. Это было где-то на втором году жизни. Они потеряли язык, который у них уже был на тот момент, и полностью потеряли интерес к другим людям. Какие необычные и, возможно, травмирующие события происходят в этом возрасте, которые могут вызвать эту проблему? Вакцинация! Вакцинация всегда окружена ореолом подозрительности. По самой своей природе вакцинация – это нападение на маленький и уязвимый организм маленького ребёнка. Чтобы предотвратить заболевание, вакцина провоцирует лёгкую форму заболевания. Эти симптомы носят временный характер и вскоре проходят почти у всех здоровых детей. Но есть редкие случаи, когда что-то может пойти не так, и даже очень не так, когда последствия могут даже привести к повреждению мозга. Споров по поводу данного объяснения причин возникновения аутизма очень много. Эксперты изучили медицинские записи отдельных случаев и обнаружили, что всё же во многих случаях уже до вакцинации наблюдалось беспокойство по поводу развития ребёнка. Но далеко не во всех… Самое примечательное в этом то, что это сам доктор Л. Каннер, автор термина «аутизм», кто первым описал его симптомы, отметил, что первый заметный всплеск этого расстройства начался после введения массовой вакцинации против оспы. Конечно, это даже не гипотеза, а всего лишь предположение… Действительно, с самого начала в качестве вероятной причины упоминались вакцины, но фармацевтические компании изо всех сил скрывают и пытаются дискредитировать этот факт на каждом шагу.
В чём же причина взрывного роста аутизма, который наблюдается последние 50 лет и с особенной остротой начиная с 2000 года? Не так давно сразу несколько групп ведущих эпидемиологов, врачей и экспертов в области общественного здравоохранения опубликовали согласованные заявления, в которых говорится, что токсиканты в окружающей среде способствуют росту распространённости расстройств развития нервной системы, включая аутизм. Если обобщить, то в основе большинства как научных, так и популярных представлений лежит предпосылка о том, что аутизм – это расстройство, от которого мы, в конечном счёте, найдём лекарство благодаря непрерывным усилиям научных исследований. Такая установка неизбежно влечёт за собой редукционистский поиск истоков расстройства. Но что если выйти за рамки редукционистской парадигмы? Тем более что в результатах нейрохимических исследований причин аутизма самым примечательным оказалось то, как мало было обнаружено повторяющихся различий между аутичными и нормальными детьми.
Разумеется, что большинство психиатров или клинических психологов имеют в виду, соглашаясь с тем, что биполярное расстройство и аутизм являются «естественными», так это то, что они возникают естественным образом. То есть диагноз «аутизм» больше похож на диагноз оспы, туберкулёза или диабета (естественная категория), чем на классификацию «живущего за чертой бедности» (социальная конструкция). Но в отношении «естественных видов» проблематичным является то, что понятие «естественный» является очень расплывчатым, что означает наличие у него пограничных случаев. Хотя героин или сахар-рафинад более натуральны, чем полиэстер, оба они являются технологически произведёнными продуктами. Химические элементы, такие как золото, являются типичными природными элементами, но все элементы с числом протонов более 94 существуют только в том случае, если они сделаны в лаборатории. Их поэтому даже называют «синтетическими элементами». Мы склонны считать приготовление пищи и одежду технологическими продуктами, но они предшествуют эволюции современного человека на сотни тысяч лет (через Homo erectus) и, следовательно, являются частью естественной среды обитания Homo sapiens.
Всё это ставит под сомнение, является ли аутизм однородным патологическим состоянием, которое может быть исчерпывающе известно – или прозрачно представлено – учёными и их репрезентативными технологиями (например, с помощью МРТ).
В нашем повседневном мышлении и общении большинство из нас представляют болезнь либо как вызванную научно определяемым «агентом», таким как вирус или бактерия (СПИД или менингит), либо как результат обнаруживаемой локализованной телесной дисфункции (болезни сердца или диабет). Здесь впервые мы можем обратить внимание на знаменитую формулировку протагониста первой главы – Джорджа Беркли: “esse est percipi”, что означает «быть – значит быть воспринимаемым». Можно с полным правом назвать её центральной для всей современной биомедицины!!! Болезнетворный агент или поражённая система организма рассматриваются как объективные, доступные для визуального представления (через микроскоп, электромагнитное сканирование или научную диаграмму) и, в конечном счёте, поддающиеся лечению (даже если «лечение» ускользает от современного медицинского понимания). По сути, болезнь здесь представлена как доступная для эмпирической идентификации, интерпретации и вмешательства.
Но аутизм, вероятно, является гетерогенным состоянием, которое правильнее называть синдромом, чем болезнью. Не случайно сегодня принято говорить не об аутизме, но о «расстройствах аутистического спектра». Более того, крайне вероятно, что причинные пути, вызывающие симптомы аутизма, скорее всего, множественны и зависят от уровня слабо связанных синергетических биологических и социальных систем. Доминирующая биомедицинская модель представляет собой всеобъемлющую теорию, которая сводит каждую болезнь к биологическому механизму причины и следствия. В противоположность ей, например, «постмодернистское» определение болезни связано с осознанием сложных взаимосвязей между биологией и культурой. Короче говоря, болезнь, инвалидность и телесные различия являются одновременно материальными и символическими, как социально сконструированными, так и материальными.
Далее, последние 30 лет всё более авторитетными становятся так называемые ”disability studies” (по-русски обычно переводят как «исследования инвалидности») – академическая дисциплина, которая изучает значение, природу и последствия инвалидности. В качестве своего центрального проекта ”disability studies” предложили заменить медицинскую модель инвалидности различными моделями, которые переключают наше внимание с биологии на культуру. Так, по утверждению Розмари Гарланд Томсон, «Значение, приписываемое нестандартным телам, заключается не во врождённых физических недостатках, а в социальных отношениях, в которых одна группа легитимируется, обладая ценными физическими характеристиками, и поддерживает своё господство и самоидентификацию, систематически навязывая другим роль культурной или телесной неполноценности»[19 - Thomson, R. G. Extraordinary bodies: Figuring physical disability in American culture and literature. – New York: Columbia University Press, 2017, P. 7.]. Или, например, в книге «Конструирование аутизма» Майя Холмер Надесан утверждает, что, хотя у состояния, которое мы называем аутизмом, несомненно, есть биогенетический компонент, именно социальные факторы, участвующие в его идентификации, интерпретации и исправлении, определяют, что значит быть аутистом[20 - Nadesan, M. H. Constructing autism: Unravelling the ‘truth’ and understanding the social. – New York: Routledge, 2013.].
Наконец, во всё большей степени расстройства аутизма раскрывают не как категорию, связанную с диагнозом, а скорее как ряд риторических и эстетических стратегий, которые имеют глубокое сходство с культурами аутистов. То есть аутизм существует не только как психиатрический диагноз и категория идентичности, но и как абстрактное теоретическое и культурное обозначение.
Под «теоретическим» в данном случае может пониматься следующее. Известный канадский философ науки Ян Хакинг, интересующийся не только самой наукой, но и вопросами, связанными с психиатрическим дискурсом, в том числе с аутизмом (что совершенно не случайно, но об этом мы скажем более подробно ниже), ввёл следующий критерий демаркации между гуманитарными и естественными – в первую очередь физическими (как парадигмальными) – науками. Если феномены какой-либо дисциплины можно достоверно воспроизвести без предварительной привязки к определённому теоретическому дискурсу, тем ближе они приближаются к практике физических наук. С другой стороны, чем больше достоверность зависит от предшествующей теоретической приверженности, тем больше дисциплина приближается к практике гуманитарных наук. Так вот, аутизм интересует нас, да и самого Я. Хакинга, как находящийся посередине, как соединительное звено между гуманитарными и физическими науками. Причём не просто как ещё одна в ряду очень многих других междисциплинарных областей.
«Тёмные» истоки аутизма
Известно, например, насколько появление диагноза аутизма тесно переплетено и изначально обусловлено связью с историей нацизма. Сам диагноз «аутистической психопатии» Аспергера возник из ценностей и институтов Третьего рейха. Третий рейх был режимом, одержимым сортировкой населения по категориям, каталогизируя людей по расе, политике, религии, сексуальности, преступности, наследственности и биологическим дефектам. Затем эти ярлыки стали основой преследования и уничтожения отдельных людей. Нацистская евгеника была направлена на то, чтобы переопределить и каталогизировать состояние человека. Особое внимание при этом уделялось разуму. Врачи, жившие во времена нацизма, дали названия, по меньшей мере, тридцати неврологических и психиатрических диагнозов, которые всё ещё используются сегодняшней медициной. Нейропсихиатры сыграли значительную роль в медицинской чистке общества, в развитии принудительной стерилизации, экспериментах на людях и убийств тех, кого считали «инвалидами».
Нацистская психиатрия стала тоталитарным подходом к наблюдению и лечению детей. Чтобы исследовать не только отдельные симптомы, но характер ребенка полностью, психиатру требовалось полное знание о его поведении и личности. Это означало тотальное наблюдение, при котором отмечались и фиксировались даже самые лёгкие отклонения в поведении, что, в свою очередь, расширяло возможности для постановки новых диагнозов.
Что именно диагностировалось? В кругах Г. Аспергера «правильная» раса и физиология были необходимы для вступления в национальное сообщество (Volksgemeinschaft). Но также требовался и «дух сообщества». Нужно было верить и вести себя в унисон с группой. Жизнеспособность немецкого народа зависела от способности отдельных людей чувствовать этот «дух» и этот «унисон». Коллективные эмоции стали частью нацистской евгеники. В связи с этими потребностями, Г. Аспергер и его коллеги разработали термин ‘Gemut’. Этот термин первоначально означал «душу» (в XVIII веке), а в нацистской детской психиатрии стал обозначать метафизическую способность к социальным связям. Нацистские психиатры начали диагностировать детей, у которых, по их словам, был плохой ‘Gemut’, которые создавали более слабые социальные связи и не соответствовали коллективистским ожиданиям. Они создали ряд диагнозов, подобных аутизму, таких как, например, “gemutsarm” [ «отсутствие Гемута»] задолго до того, как Г. Аспергер описал аутистическую психопатию в 1944 году, которую он тоже изначально определял как дефект Gemut’а.
Таким образом, диагноз аутизма не возник полностью сформированным, sui generis, но появлялся постепенно, формируемый ценностями и взаимодействиями областей психиатрии, государства и общества. Нечёткая терминология позволяла легко преодолеть различия между социальными и медицинскими проблемами. Такие ярлыки, как «пренебрежение», «угроза», «асоциальность» или «трудности в обучении», охватывали целый ряд самых разных проблем. Ребёнок может быть болен, он плохо себя ведёт, плохо воспитан, имеет когнитивные нарушения или просто беден. «Отсутствие общественной компетентности» стало социально-медицинским заболеванием. Эти ярлыки также имели серьёзные практические последствия. Социальные работники использовали их в качестве названий в своих графиках и отчётах, при оформлении истории болезней, постановке и формулировке диагнозов.
Важнейший вклад в эти работы по развитию ребёнка в этот период внёс «венский психоанализ». В Вене 1920–30-х годов было много пионеров психоанализа, таких как Август Айхорн, Шарлотта Бюлер, Хелен Дойч, Анна Фрейд, Гермина Хуг-Хельмут и Мелани Кляйн. Именно психоанализу принадлежит максима: истина – это то, что никак не связано с разумом!!! Истина всегда высказывается бессознательно. Совершенно в духе того пограничного положения аутизма – как связующего звена между гуманитарным и физическим знанием – психоанализ рассматривает личность как эффект от столкновения этих двух «материковых плит», только в последнем случае носящих название сознательного и бессознательного, соответственно.
Следует упомянуть и об отношении самого Г. Аспергера к нацизму и фашизму. Тут следует отметить его знакомство в 1934 году в Лейпциге с психологом и философом Людвигом Клагесом. Аспергеру понравился акцент Клагеса на эмоциях в противовес интеллектуализму. Именно этот акцент он позже признал центральным в своей собственной мысли. Клагес противопоставлял идею германской «души» более рациональному западному «разуму», и его работа стала важной для нацистской идеологии.
Мода на аутизм
Почему же тогда истории об аутизме стали так популярны именно сегодня, хотя ещё четверть века назад их практически не существовало? Большинство историй датируются периодом не раньше 2000 года. Я. Хакинг по этому поводу отмечает, что идея о наличии у эпох «своих» патологий существует по крайней мере со времён книги Сьюзен Зонтаг «Болезнь как метафора» (1978). Одной из её тем было то, что у каждой эпохи есть своя болезнь, которая говорит одновременно нечто важное как об эпохе, так и о «её» болезни. Так, например, туберкулёз был культурным и моральным маркером XIX века. Рак (онкологию) Зонтаг выделила как патологию своего времени (1970-е годы). Позже Зонтаг применила аналогичные размышления к бедствию 1980-х годов в работе «СПИД и его метафоры» (1989). Сам Хакинг отмечает, что не следует ставить под сомнение реальность аутизма, так же как Зонтаг не сомневалась в реальности рака. Это говорит лишь о том, что повышенная осведомлённость об аутизме может отражать некоторые важные черты нашего времени.
Особое внимание при этом Хакинг уделяет тому, что он называет «преходящими психическими заболеваниями», под которыми он подразумевает «болезни, которые появляются в определённое время, в определённом месте, а затем исчезают». Более распространенный термин для таких «заболеваний» – «культуральные синдромы». Хакинг причисляет истерию к такого рода преходящим болезням, а также посвящает большую часть книги «Безумные путешественники: размышления о реальности временных психических заболеваний» (1998) культуральному синдрому «фугу». Он и ему подобные расстройства «проявляются только в определённое время и в определённых местах по причинам, которые, как мы можем только предполагать, связаны с культурой тех времён и мест»[21 - Straus, J. N. Autism as culture / The disability studies reader. – 2013. – Т. 4. – P. 460–484.]. Дело не в том, что реальные люди не страдают от реальных симптомов; скорее, сущности этих болезней являются временными и случайными способами их группировки и обозначения. К ним, пусть и с осторожностью, Хакинг причисляет и аутизм.
Но сегодня речь идёт не только и, возможно, даже не столько об аутизме как синдроме эпохи, а о появлении целой «аутистической культуры» как отсылке к культурным явлениям с характеристиками автореферентности, которые существуют параллельно с описанными медициной симптомами. Недавние исследования аутизма выявили спорное, а иногда и противоречивое понимание «аутистического спектра», так что обозначилось разделение между теми, кто утверждает, что аутизм является генетическим расстройством (и впоследствии верит в возможность определённого, с медицинской точки зрения, лечения этого состояния), и теми, кто утверждает, что аутистическое состояние является на самом деле «эффектом» эволюции человеческого вида.
В последнем случае речь идет даже о популяризации аутизма, моде на аутизм, превращении его в норму, более того, в нечто престижное и манящее, притягательное в своей загадочности и гениальности. Обычно при слове «аутист» мы представляем высокообразованного мужчину, который может целеустремлённо сосредоточиться на определённой цели в ущерб своей заботе о других людях. Этот мужчина может быть выдающимся учёным или художником, которому, похоже, всё равно, что о нём думают другие. Иногда он является учёным, который хоть и не отличается особой изобретательностью, но обладает способностью приобретать и сохранять массу информации. Он, как правило, не любит новизны и часто жёстко придерживается своего собственного мнения. Быть «немного аутичным» может быть приятным оправданием для людей, которые особенно одержимы своими собственными интересами или делом и не желают учитывать точку зрения других людей. Это также может быть отличным комплиментом!
Проблема здесь в том, что происходит смешение миров – аутичного и нормального. С точки зрения философии эту тенденцию можно описать как переход от «идиографического» подхода к «номотетическому» и обратно. Суть идиографического подхода: Ты попал в чужую культуру. Как её понять? Суть номотетического подхода: Чужой попал в твою культуру. Как ему объяснить, что здесь происходит? В первом случае легко впасть в крайность «солипсизма», когда коммуникация между культурами невозможна, поскольку нет единого основания для сравнения. Во втором случае происходит выхолащивание, предельная «универсализация», редукция к самому примитивному.
Но дело на этом не останавливается. Например, психиатр Майкл Фицджеральд посмертно «диагностировал» синдром Аспергера у писателей, художников и музыкантов, в том числе Уильяма Батлера Йейтса, Сэмюэля Беккета, Винсента ван Гога, Энди Уорхола, Людвига ван Бетховена и Эрика Сати[22 - Fitzgerald, M. Autism and creativity: Is there a link between autism in men and exceptional ability?. – New York: Routledge, 2004.]. Идентификация «доисторических» (то есть до 1943 года, поскольку официально считается, что Лео Каннер впервые ввёл в научный оборот термин «аутизм» именно в этом году, тогда как Ганс Аспергер написал свою работу с использованием этого же термина ровно тогда же, но опубликовал её только год спустя, в 1944 году) фигур с аутизмом стала индустрией, и было предложено много имён, в том числе Ханса Кристиана Андерсена, Льюиса Кэрролла, Чарльза Дарвина, Томаса Джефферсона, Альфреда Кинси, Стэнли Кубрика, Николы Тесла, Энди Уорхола, Вольфганга Амадея Моцарта, Микеланджело, Германа Мелвилла, Белы Бартока и т. д.
Существует обширная литература об аутичных учёных. Британский психолог Саймон Барон-Коэн утверждает, что аутизм может быть связан со способностями к наукам[23 - Baron-Cohen, S. Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. – Cambridge: MIT press, 1997.]. Он предположил, что может существовать связь между аутизмом и научным талантом. Барон-Коэн называет по меньшей мере шестерых учёных и математиков, у которых был аутизм: Исаак Ньютон (1643–1727), Генри Кавендиш (1731–1810), Мария Склодовская-Кюри (1867–1934), Альберт Эйнштейн (1879–1955), Ирен Жолио-Кюри (1897–1956) и Поль Дирак (1902–1984). Лорна Винг, которая является автором термина «синдром Аспергера»[24 - «Синдром Аспергера» – диагноз, введённый примерно в 1980 году Лор-ной Винг, британским психиатром. Название дано по имени венского врача Ганса Аспергера, который подчеркнул, что аутистические расстройства проявляются во многих различных оттенках и разновидностях, включая некоторые более «лёгкие» разновидности, и в том числе с высоким интеллектом. Он был одним из первых, кто выявил и описал аутизм не только у детей, но и у взрослых. Он называл такие случаи «аутичными психопатами», чтобы указать, что это состояние было не болезнью, а неотъемлемой частью чьего-то личного характера. Аспергер не определял то, что сегодня называется синдромом Аспергера. Тем не менее, кажется уместным, что синдром назван в его честь… Синдром Аспергера в настоящее время часто используется как синоним «высокофункционального» аутизма. Синдром Аспергера обычно считается именно лёгкой формой аутизма. Возможно, самым странным фактом о синдроме Аспергера является то, что он обычно вообще не диагностируется до 8 лет, а иногда и позже, зачастую вообще только в зрелом возрасте. В отличие от аутизма, развитие речи при синдроме Аспергера не задерживается, а, наоборот, зачастую является ускоренным. Кроме того, классический аутизм подразумевает отчуждённость, в то время как люди с синдромом Аспергера часто проявляют сильный интерес к другим людям.], и который она ввела в научный оборот в начале 1980-х годов, также назвала Альберта Эйнштейна кандидатом на ретроспективную диагностику синдрома Аспергера (высокоинтеллектуальной разновидности аутизма). Если это правда, то может заставить нас переосмыслить природу как науки, так и аутизма.
Действительно, ещё в конце XVII – начале XVIII века на Британских островах многочисленными были слухи об «эксцентричности» Исаака Ньютона – хотя бы потому, что люди не могли поверить, что человек такого гения может быть «нормальным». Например, все знали, что он имел «странность» оставлять свой обед на несколько часов, а затем на завтрак съедал его уже холодным, потому что был так поглощён своими занятиями. Даже его собственные студенты в Кембридже за глаза дразнили его, говоря что-то типа: «Вот идёт человек, который написал книгу, которую ни он, ни кто-либо другой не понимает».
На самом деле эта идея о связи между наукой и аутизмом восходит к Гансу Аспергеру. Обсуждая взрослую жизнь некоторых из его бывших пациентов-детей, Аспергер в статье 1979 года «Проблемы детского аутизма» утверждал: «Действительно, кажется, что для успеха в науке или искусстве необходима частичка аутизма».
Между прочим, Саймон Барон-Коэн является автором так называемого «коэффициент аутизма» (разработан в 2001 году), который определяется с помощью теста AQ (”Autism-Spectrum Quotient”). Этот тест изначально был разработан для двух целей: 1) измерения аутистических черт у людей с расстройствами аутистического спектра и 2) измерения аутистических черт у студентов STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Но довольно быстро он начал использоваться как средство скрининга аутизма у любого взрослого (с «нормальным интеллектом») и продолжает распространяться для таких целей всё шире. Но насколько надёжным он может быть для остального населения? Собственно, судьба AQ в этом смысле (как под копирку) очень похожа на тест IQ, который используется сегодня для определения уровня интеллекта и выявления самых способных к обучению личностей, хотя изначально разработан исключительно для определения тех, кто НЕ способен к обучению наравне со всеми, то есть устанавливает только нижнюю планку, но ничего не говорит об одарённости!
Примерами художественных литературных произведений, в которых героев ретроспективно можно записать в аутисты называют «Улисс» и «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Мёрфи» и «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, «1984» Джорджа Оруэлла, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Бартлби, писец» и «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойла, «Автобиография» Уильяма Батлера Йейтса, «Барнеби Радж» Чарльза Диккенса, «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, «фантастический аутизм» Франца Кафки, Хорхе Луиса Борхеса, Алена Роб-Грийе… Может показаться, что вся значимая литература написана об аутистах, что величайшими художественными произведениями были рассказы об аутизме.
Лучшим примером повествования об аутизме (или аутичным повествованием?) является «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Здесь нет причин и следствий, но есть случайный мир – то ли за пределами науки и логики, то ли исключительно внутри науки и логики. В книгах об Алисе Л. Кэрролл в значительной степени опирался на включение фрагментов текстов других авторов – в каком-то смысле роман можно рассматривать как «сборник вырезок» из его любимых литературных произведений.
Это очень похоже и на стиль Джеймса Джойса, по поводу которого наиболее обоснованно доказано, что он страдал аутизмом, и, соответственно, неудивительно, что писал «аутичные» тексты. (И да, Джеймс Джойс, как и Джонатан Свифт, и, наконец, Джордж Беркли, были ирландцами[25 - Fitzgerald, M., Walker, A. Unstoppable Brilliance: Irish Geniuses and Asperger’s Syndrome. – Dublin: Liberties Press, 2015.].) Джойс, как и многие люди с аутизмом, были одержимы языком и писали необычным способом. У Л. Витгенштейна была своя уникальная манера писать маленькими абзацами.
«Робинзон Крузо» – это во многих отношениях книга об изоляции, о заточении в собственном одиночестве, постоянная тема в популярных представлениях об аутизме. Этот тон изоляции усиливается, с точки зрения текста, тем, что многие считают своего рода эмоциональным дефицитом в повествовании. Например, Чарльз Диккенс, хотя и был поклонником романа, тем не менее, удивлялся его странной бесстрастности. Для него это был единственный пример универсально популярной книги, которая никого не могла заставить ни смеяться, ни плакать. Повествование Крузо на протяжении семи страниц, где он описывает процесс приготовления хлеба, очень похоже на «Моби Дика», где целые главы посвящены скрупулёзному описанию подробностей быта или ремесла, казалось бы, совершенно посторонних и избыточных для понимания сюжета и характера героев.
Карл Густав Юнг провёл замечательный анализ «Улисса» Джеймса Джойса[26 - Jung, C. G. Collected Works of CG Jung, Volume 15: Spirit in Man, Art, And Literature. – Princeton: Princeton University Press, 2014.]. В нём Юнг подчёркивает, что Улисс – не Одиссей! Если Одиссей – это активный герой, то у Джойса мы сталкиваемся с абсолютно пассивным восприятием мира – это описание существования даже не на уровне чувств, а самых примитивных ощущений. Фотографическое восприятие мира. Такой текст можно читать с любого места. Ничего не изменится. Как ленточный червь, которого можно разрезать пополам и будет два червя и т. д. У этого червя только симпатическая нервная система – без мозга. Это то, как воспринимают мир существа, у которых нет мозга, разума, сознания. Здесь нет различения, границы между внутренним и внешним. Текст «Улисса» по объёму – примерно 750 страниц. Но ничего бы не изменилось, если бы было 1500 страниц. Или, наоборот, только 75. Суть не поменялась бы. Потому что её просто нет. И не может быть. Юнг признаётся, что «Улисс» его раздражает. Единственная причина, по которой он взялся за него, заключается в его большой и стойкой популярности и влиянии, в причинах которых он хочет разобраться, что блестяще и делает.
Есть мнения о том, что Стив Джобс, Алан Тьюринг, Билл Гейтс, Маршалл Маклюэн – тоже аутисты, и вообще синонимом «аутиста» являются сегодняшние его «аналоги» из цифрового мира – «гик» (geek) или «киборг» (cyborg). Но к этому вопросу мы более подробно вернёмся чуть позже.
Отсюда можно сделать промежуточный вывод о том, что дискурс об аутизме представляет собой в значительной степени воплощением идеи о гении-одиночке, который «всё решит». И здесь мы можем найти первую, пока довольно зыбкую, но всё же важную точку соприкосновения с Джорджем Беркли и его философией, поскольку наш главный герой в этой, первой главе, жил в эпоху Просвещения (середина XVII – конец XVIII веков), суть которого как раз и заключалась в переходе от идеи «гения-одиночки», столь характерной, например, для эпохи Возрождения, к идее «гения-человечества». Сам Джордж Беркли по этому поводу высказывался довольно однозначно, а именно, что его философия является «метафизикой для толпы (для масс)» (metaphysics for the mob).
Аутизм = Солипсизм?
И вот тут мы приходим к закономерному, но почему-то чаще всего игнорируемому факту, что философия давно имеет дело с «аутизмом». Например, нередко можно встретить прямую аналогию между монадами Лейбница и аутизмом.