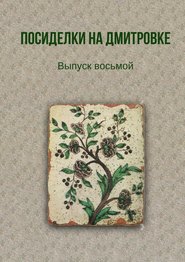скачать книгу бесплатно
На молодого Каннегисера была обрушена неистовая страсть: «Есть тысяча способов добиться любви женщины и ни одного, чтобы отказаться от нее!..»
В 1928 году в Париже родственники издали книгу Леонида Каннегисера – стихи, рецензия на сборник Ахматовой «Четки», воспоминания друзей об авторе.
«После Лёни осталась книжечка стихов, – написала Марина Цветаева, – таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности – поверила».
Понял Марк Александрович Алданов. В 1923 году в «Современных записках» была опубликована его работа «Убийство Урицкого. К пятилетию». Ее можно определить как очерк-исследование. Факты, слова взвешены, сказывается ответственность автора исторических романов.
«Я хорошо его знал. <…> То, что я пишу, не история; а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого.
Я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов, самый грешный из всех городов мира…
Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. <…> Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться…
Этот баловень судьбы <…> был несчастнейший из людей. О подобных ему сказано у летописца: «Никто же их бияше, сами ся мучаху».
Алданову были переданы выдержки из дневника Леонида. Он начал свои записи в 1914 году. Война застала его в Италии. Ему хотелось пойти на фронт добровольцем – родители его не пустили. Желание, как у всех мальчиков. Но было еще и другое.
«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом, безусловно, будет некоторый высший смысл…»
«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: „иду!“ Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: „вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия“. А вечером опять буду перерешать… Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь и ничего не делаю. Другие, по крайней мере, работают на пользу раненых».
Он тоже попробовал. На вокзале одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При нем сняли повязку, он увидел на его ноге страшную шрапнельную рану: изуродованное, изрытое человеческое тело. Содрогнулся, потемнело в глазах, подступила тошнота. Собрался с силами, чтобы не упасть, вышел на воздух, пошатываясь. «И это может грозить – мне…» И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: «Мне не грозит ничего», и тогда я знаю: «Я – подлец!»
Февральская революция его захватила. (А кого же она не захватила? Только отрезвление наступало быстро.) В июне 1917 года он поступил добровольцем в Михайловское артиллерийское училище. Исполнял обязанности председателя союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. В ночь с 24 на 25 октября вместе с другими юнкерами пошел защищать Временное правительство. Был задержан, но быстро отпущен, успел на II, исторический, съезд рабочих и солдатских депутатов, где объявили о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. Ленин произвел на Каннегисера «потрясающее впечатление».
Но если и было какое-то увлечение идеями Октябрьской революции, то разгон Учредительного собрания, заключение Брестского мира, который многие восприняли как предательство России, массовые аресты, расстрелы вызвали жгучую ненависть к большевикам, и Леонид с весны 1918 года участвует в конспиративной работе.
Петербург в ту пору кишел заговорщиками. Алданов знал нескольких молодых людей, офицеров и юнкеров, принадлежавших к тому же кружку, что и Каннегисер. Знал его близкого друга, офицера Перельцвейга. Они не были ему близки ни в политическом отношении, ни в психологическом, но «более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса» ему никогда видеть не приходилось. Заговорщиками они были странными: конспирация по-детски серьезная и по-детски наивная. Леонид ходил летом 1918 года с двумя револьверами и каким-то ящиком, с которым обращался бережно и подчеркнуто таинственно… Вроде бы предполагал взорвать Смольный… То, что их всех не переловили в день образования кружка, можно объяснить лишь неопытностью сыска новой власти.
Летом в ЧК по доносу открыли дело о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище. Арестовали нескольких офицеров и курсантов. Шесть человек расстреляли. Среди них был Владимир Перельцвейг.
Гибель друга страшно потрясла Леонида и, по всей видимости, стала непосредственной причиной совершенного им убийства.
Убийца. Ужасное, несмываемое клеймо. Но не превращает ли преступника в героя личность убитого?
Алданов, подчеркивая свою беспристрастность, как мог, собрал сведения о Моисее Соломоновиче Урицком, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей Северной коммуны – объединения северо-западных губерний России. Урицкий «всю жизнь» был меньшевиком.
Многие годы провел за границей. Вернувшись в Россию после Февральской революции, осматривался. Летом 1917 года еще нельзя было сказать, ждет ли большевиков победа. Но зато было очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов вообще нет никакого будущего. Урицкий подумал – и, как Троцкий, стал большевиком.
В дни октябрьского переворота он был членом Военно-революционного комитета. Затем – комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности «вел себя крайне нагло и вызывающе». Новое повышение в чине – пост народного комиссара Северной коммуны по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела – это прежде всего руководство ЧК.
Заурядная личность и громадная власть, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда, ничем, кроме «революционной совести», огромные безграничные средства, штаты явных и секретных сотрудников – это несоответствие оказалось за гранью добра и зла. «У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы серпом, дробить черепа молотом!..»
Он был неприятен, антиэстетичен, карикатурен внешне, но смеха не вызывал: каждый день он подписывал смертные приговоры.
После расстрела Перельцвейга Леонид почти не бывал дома, не ночевал. Накануне убийства Урицкого зашел под вечер. Обедали. Потом он предложил сестре почитать вслух – у них это было принято – «Графа Монте-Кристо». Начал с середины, с главы о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь романа. Читал с увлечением до полуночи. Затем простился и ушел. (Сестре суждено было еще раз увидеть его – издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.)
Рано утром пришел пить чай. Постучал в комнату отца, который был нездоров и работал дома. Они сыграли партию в шахматы. Сын играл так, словно что-то связывал с исходом партии, что-то загадал: удача – провал? Он проиграл, что чрезвычайно его взволновало. Отец, почувствовав это, предложил вторую партию, но Леонид посмотрел на часы и отказался.
Он надел кожаную, еще юнкерскую куртку, простился с отцом (они больше никогда не увидятся) и ушел. На Марсовом поле взял напрокат велосипед и поехал к площади Зимнего дворца. Перед одним из подъездов левого полукружья здания Главного штаба он остановился – здесь, в министерстве внутренних дел, принимал Урицкий.
Было двадцать минут одиннадцатого.
Он вошел в подъезд. В большой комнате, напротив входной двери, находились лестница и лифт.
– Товарищ Урицкий принимает? – спросил Каннегисер у швейцара.
– Еще не прибыли…
Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Ждал. Вдали послышался рокот мотора. Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.
Урицкий, войдя, направился к лифту. Посетитель в кожаной куртке поспешно сделал несколько шагов к нему – грянул выстрел. Шеф «чрезвычайки» упал без крика, убитый наповал. Убийца бросился к выходу…
Если бы Каннегисер положил револьвер в карман, если бы спокойно пошел пешком налево (сослагательное наклонение Марка Алданова, как причитание), он легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую, смешавшись с толпой на Невском… Но он потерял в ту минуту самообладание. Все вышло не так. Не выпуская из рук револьвера, он вскочил на велосипед и понесся вправо – к Миллионной улице.
В комнате, где произошло убийство, через минуту поднялась суматоха. Прибежавшие на выстрел служащие комиссариата остолбенели перед телом Урицкого, не понимая, что произошло. Наконец один человек вспомнил об убийце и с криком бросился на улицу, за ним побежали другие. Помчался в погоню автомобиль с солдатами…
Вот-вот убийцу могли настичь. Около дома 17 он соскочил с велосипеда и бросился во двор. В отчаянии вбежал в какую-то дверь и понесся по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова (это потом выяснится) была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице… Внизу его схватили.
Уже 6 сентября петроградские газеты публикуют сообщение ЧК: расстреляно 512 контрреволюционеров и белогвардейцев. Тут же – список заложников, продолженный в трех следующих номерах газеты – 476 человек, очередь к смерти: если будет убит еще хоть один советский работник, заложников расстреляют.
«В эту эпоху мы должны быть террористами! – восклицал на заседании Петроградского совета его председатель Григорий Зиновьев. – Да здравствует красный террор!»
В сводном списке «лиц, проходящих по связям убийцы Каннегисера» 467 человек!
Карательная сеть загребла близких (даже восьмидесятилетнюю бабушку) и дальних родственников, друзей, знакомых, служащих из конторы отца, всех, чьи имена оказались в телефонной книжке Леонида…
Сообщников у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, следствию не удалось их обнаружить, несмотря на желание властей.
При допросе Каннегисер заявил, что убил Урицкого по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и расстрел своего друга Перельцвейга. Дзержинскому, специально приехавшему из Москвы, сказал то же самое. «На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо… из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению».
Алданов считает, что психологическая основа акта была, конечно, сложнее, чем месть за друга, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств: горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых; и дух самопожертвования…
И еще, возможно, был живой образец – Леонид преклонялся перед личностью Лопатина.
Когда Роза Львовна Каннегисер была выпущена из тюрьмы, ей в тот же день сообщили, что Лопатин умирает. Она немедленно отправилась в больницу. Герман Александрович был в полном сознании, сказал, что счастлив увидеть ее перед смертью.
– Я думал, вы на меня сердитесь…
– За что?
– За гибель вашего сына.
– Чем же вы в ней виноваты?
Лопатин промолчал. Он скончался через несколько часов. Едва ли он мог обвинять себя в чем-то другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с молодым человеком, – он очень его любил.
Леонид Каннегисер был расстрелян в начале октября, точная дата неизвестна.
В годы перестройки было извлечено на свет из особого архива ВЧК 11 томов его дела – с ним знакомилась прокуратура. Среди протоколов допросов, разного канцелярского мусора сохранились листки с записями Леонида в одиночке.
Письмо князю Меликову. «Я обращаюсь к Вам, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения, и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову… Бесконечно прошу Вас простить меня!»
Стихотворные строки – перечеркнутые, исправленные.
Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.
Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.
Прощание. «Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы».
Ознакомившись с делом, прокуратура вынесла вердикт: «Реабилитации не подлежит». Преступник-террорист.
Себялюбец, честолюбец, возомнивший себя героем, – как мог он не подумать о том, сколько крови прольется после его выстрела?!
И все-таки что-то в душе протестует против клейма «преступник-террорист», которое не допускает прощения. Какой же он преступник, если убил убийцу? Хочется согласиться с защитником Марком Алдановым: «Людей в политике судят не только по делам, – их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел», – но тоже что-то мешает. Наверное, короткая реплика Осипа Мандельштама, которую он произнес, когда узнал о выстреле Каннегисера: «Кто поставил его судьей?»
P. S. Судьба близких Леонида Каннегисера.
Брат Сергей покончил жизнь самоубийством после Февральской революции: был в списках осведомителей полиции – боялся, что про это узнают. Иоакима Самуиловича в 1921 году арестовывали еще раз: стараясь сделать из него соучастника преступления сына. В конце концов, семью выслали из страны. Отец умер в Варшаве, мать – в Париже. Сестра Елизавета в 1943 году была интернирована из Ниццы в Германию, сгинула в Освенциме.
Леонид Каннегисер
Для Вас в последний раз, быть может…
Для Вас в последний раз, быть может,
Мое задвигалось перо, —
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!
Я Вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На Вас тоску лишь наводил.
И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец:
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец.
О, кровь семнадцатого года!
О, кровь семнадцатого года!
Еще бежит, бежит она —
Ведь и веселая свобода
Должна же быть защищена.
Умрем – исполним назначенье.
Но в сладость претворим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.
Пойдем, не думая о многом,
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждет нас за порогом,
Умрем – бессмертны станем мы.
Лина Тархова
Кто вы, русский мистер «Х»?
Саша Феклисов
Над одним из столиков фешенебельного вашингтонского ресторана «Оксидентал» висит табличка, на металле несколько строк: «В напряженный период Карибского кризиса (октябрь 1962 года) таинственный русский мистер „Х“ передал предложение о вывозе ракет с Кубы корреспонденту телекомпании „Эй-Би-Си“ Джону Скали. Эта встреча послужила устранению возможной ядерной войны». Выше – портрет Джона Скали.
Почему на табличке нет имени второго участника встречи, как нет и его портрета? Кто этот русский мистер «Х»? И была ли таинственная встреча, информация о которой отлита в бронзе, на самом деле?
Да, была. Джон Скали, звезда американской тележурналистики, человек, приближенный к семье Кеннеди, общался за «историческим» столиком с резидентом советской политической разведки в Вашингтоне Александром Фоминым, подлинное имя – Феклисов Александр Семенович.
«Эти мужчины средних лет, – рассказывает Акоп Погосович Назаретян, доктор философии, руководитель центра Мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН, – были парнями реальными. Экспансивный италоамериканец из Бостона и флегматичный уроженец Рогожской заставы за столиком ресторана не философствовали о дружбе между народами, а деловито и прицельно спасали цивилизацию планеты Земля».
На календаре 26 октября 1962 года. На Кубу уже переброшен 40-тысячный контингент наших военных, почти завершен монтаж 42 ракет с ядерными боеголовками, нацеленными на США, каждая способна долететь и до Вашингтона, и до Нью-Йорка. Это ответ СССР и Кубы на действия Америки, жаждавшей удушения кубинской революции – американцы боялись, что Куба заразит своими идеями всю Латинскую Америку. Генералы требуют от молодого президента Кеннеди захвата острова Куба и свержения правительства Кастро. Карибский кризис.
Мир на грани третьей мировой войны. Побоище удается предотвратить усилиями всего нескольких десятков человек. Среди них – полковник внешней разведки Александр Семенович Феклисов.
Дочь Феклисова Наталия Александровна узнала о тайной работе отца уже взрослым человеком. «В сорок девять лет, – рассказывает она, – я впервые услыхала, что отец занимался разведкой, работал с такими людьми, как Юлиус Розенберг и Клаус Фукс… Я была ошеломлена. В школе нам рассказывали о жестокости американского суда, без доказательных обвинений казнившего супругов Розенберг на электрическом стуле. Но даже представить себе не могла: отец встречался с этими людьми и даже считал Юлиуса Розенберга своим другом! Об этом дома никогда не было ни слова, ни намека. Мы с сестрой знали: отец – сотрудник МИДа. Он очень любил фильм „Семнадцать мгновений весны“ и не раз его смотрел. Да ведь его жизнь – материал для нескольких таких фильмов!»
Разведчиком, как говорит сам Феклисов в документальном фильме «Карибский кризис глазами резидента», он стал случайно. «Для меня предложение пойти в разведшколу было как снежный ком, упавший на голову июньским днем. Отец был стрелочником на железной дороге, я в детстве мечтал стать помощником машиниста, ну, может, даже машинистом».
Он оканчивал Институт инженеров связи, когда ему как одному из лучших студентов предложили перейти в ШОН – школу особого назначения. Ну что ж, разведка так разведка, подумал Александр, не осознавая, насколько мобилизация в КГБ изменит его жизнь.
Школа размещалась в лесу, в небольшом двухэтажном здании, обнесенном забором. Условия, обстановка – все было непривычным, почти роскошным. Комната – на двоих, кровать – настоящая, с теплыми одеялами. Перед кроватями – коврики! Все это настолько отличалось от привычной Александру обстановки – зимой он спал на сундуке за печкой, летом в сарае на дровах – что жизнь показалась просто райской. Стипендия 500 рублей (такую получали сталинские стипендиаты), приличный костюм, пальто, да еще и шляпа!
Когда он, одевшись во все новое, явился домой и положил на стол четыре сотни рублей, родители испугались. После бессонной ночи решили с сыном серьезно поговорить.
– Саша, нас очень беспокоит, что у тебя появились большие деньги. Ты хорошо одет, не бываешь дома целыми неделями. Не занялся ли ты какими черными делами?