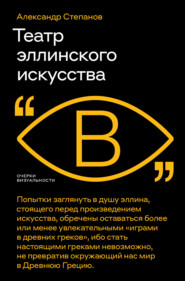скачать книгу бесплатно
Ил. 71. Фидий. Афродита. Фигура с восточного фронтона Парфенона. 438 – 432 гг. до н. э. Мрамор, 123 ? 233 см. Лондон, Британский музей. № 1816,0610.97
Ионийская Афродита Урания на «Троне Людовизи» живет сильными человеческими чувствами – радостью открытия мира, предвкушением власти.
Афродита Фидия на восточном фронтоне Парфенона человеческих чувств не знает (ил. 71). И вовсе не потому, что нам неизвестно, каково было ее лицо. Каково бы оно ни было, эта богиня не могла стать чувствительным существом, потому что это означало бы попытку личностного, частного начала оспорить величие ландшафта задрапированного тела[195 - Великолепная метафора «ландшафт» применительно к рельефу женского тела пришла в голову Кеннету Кларку, когда он описывал «Трон Людовизи» (Кларк К. Указ. соч. С. 96).], – попытку никчемную, ибо ландшафт этот столь грандиозен, что невозможно видеть в нем всего лишь телесное воплощение некой индивидуальности. Тело этой богини существует само по себе, никому не принадлежа. Скорее уж я бы назвал утраченное лицо Фидиевой Афродиты частью ее тела.
В композиции фронтона Афродита – пара Дионису. Оба безучастны к рождению Афины. Бог вина подъятием канфара приветствует восходящее Солнце, а богиня любви обращена к заходящей Луне. Они замыкают время в круг в циклическую вечность. Благодаря им включено в вечность и рождение Афины.
При том, что Афродита симметрична Дионису, в ее протяженной фигуре нет пробуждающейся готовности к движению, ощутимой в Дионисе. Кончается ночь – время, для нее не менее деятельное, чем день, – и она затихла, прильнув к сидящей у ее ложа матери-Дионы.
Представьте ее обнаженной. Вместо богини увидите просто женское тело, может быть, чересчур вытянутых пропорций. Женщина превращается в богиню благодаря созданной Фидием панораме тканых покровов. Угадываемое под складками тканей тело – выпуклое русло могучего и стремительного мраморного потока, внезапного, как весенний паводок. Уже обнажив правое плечо Афродиты, хитон, омыв ее груди, обрушивается вниз, взвихривается бурунами над животом, струится по нему гладко, но между бедер, где сталкиваются обвивающие ноги складки гиматия, высоко вздымается, чтобы, успокаиваясь, омывать колени и голени – всё ниже, всё дальше…
Ил. 72. «Афродита Бразза» («Афродита с черепахой»). Позднеэллинистическая копия статуи работы Фидия. Мрамор, выс. 158 см. Берлин, Государственные музеи, Античное собрание. № 1459
Божественная грандиозность Афродиты Фидия – в совмещении телесной неги и бешеного потока складок тканей, этой пластической метафоры всепобеждающей силы страсти, ею внушаемой. Было бы смешно равнять этот образ со сводней Париса и Елены из «Киприй» или жалкой защитницей Энея из «Илиады». Хотя на фронтоне Парфенона номинально она дочь Зевса, Фидий создал образ богини любви, возвышающийся над противоположностью Афродиты Урании и Афродиты Пандемос. Британский музей, где хранятся скульптуры фронтонов Парфенона, допускает другую, не лишенную правдоподобия, идентификацию фигур: перед нами Таласса – первобытное олицетворение Моря, прильнувшего к Гее-Земле[196 - The British Museum. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1816-0610-97 (дата обращения 27.11.2021).]. Вспоминается метафора Винкельмана: «Морская глубина вечно спокойна, как бы ни бушевала поверхность»[197 - Винкельман И.?И. Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре // Винкельман И.?И. Избранные произведения и письма. М., 1996. С. 107.].
На афинской Агоре Павсаний видел в храме Афродиты Урании ее статую, которая «была сделана из паросского мрамора и была творением Фидия»[198 - Павсаний. Указ. соч. Кн. I, гл. 14: 7.]. Считается, что наилучшее представление о ней дает «Афродита Бразза» – копия позднеэллинистического времени, находящаяся в Берлине (ил. 72). Ее другое имя – «Афродита с черепахой»[199 - Stewart A. Hellenistic Free-Standing Sculpture from the Athenian Agora. Part 1. Aphrodite // Hesperia. Vol. 81. 2012. P. 272.]. Сюжет тот же, что на главном рельефе «Трона Людовизи»: выход Урании на Кипр. Берег тут – черепаха.
Если я скажу, что она похожа на колонну, ставшую женской фигурой, в вашей памяти возникнут ее современницы – кариатиды Эрехтейона. Этого я и хочу. Хорошо видные со всех сторон отвесные складки хитона, за которыми скрыта голень опорной правой ноги – каннелированный ствол, из которого «Афродита Бразза» вырастает. Заставив Киприду ступить левой ногой на черепаху – опору шаткую, – Фидий вывел ее из равновесия, но лишь затем, чтобы дать ей в левую руку прочную опору – вертикально поставленное копье. Этим приемом он создал впечатление самодостаточности богини: Урании не нужны хариты. Опора на копье сместила плечи, стан изогнулся. Гиматий, утяжеляющий нижнюю часть корпуса крупными складками, – аллюзия на волнение, поднятое выходом Киприды из моря. Под складками хитона хорошо виден упругий контур правого бедра, вливающийся в S-образный изгиб фигуры, благодаря которому она, преодолевая тяжесть гиматия, растет вверх. Я воспринимаю «Афродиту Бразза» как Уранию торжествующую.
Одежды Фидиевых Афродит – не столько подражание материальным свойствам одежд, сколько оркестровка телесной мелодии от тонко нюансированной до очень брутальной. От позы, жеста, воображаемого движения богини складки одежд зависят лишь отчасти. Укрупняя и измельчая их, направляя, сдерживая, соединяя, пересекая, усиливая, ослабляя, скручивая, рассеивая их пучки и потоки, Фидий подражал не рукотворным вещам, а самой Природе. Ибо, рискну предположить, в его представлении Афродита была богиней, удерживающей в целостности Космос, только благодаря ей не распадающийся на враждующие стихии.
Обсуждая роль драпировок на Фидиевых изображениях Афродиты, мы не должны упускать из виду грозившую любой эллинской скульптуре опасность переноса ее качеств на свойства изображаемого персонажа. Будь Фидиевы изображения Афродиты нагими, они из?за столь распространенного отношения к изображению богини как к самой богине утратили бы космическое могущество и превратились бы, чего доброго, в ню, которые одним нравились бы больше, другим меньше, и в которых каждый смог бы усмотреть какое-нибудь несовершенство.
Не для того ли аттические скульпторы почти до самого конца V века до н. э. изображали Афродиту одетой, чтобы защитить ее тело от упреков? Пока у них не появилось представление об идеале женского тела, пока это представление не стало общеприемлемой нормой, они направляли творческое воображение не на божественную ее сущность, а на то, как бы она выглядела и вела себя, будучи смертной женщиной в рамках господствующей морали, которая определялась мужскими убеждениями о том, что ей приличествует.
Об этих убеждениях мы узнаём из эллинской словесности. Когда в «Истории» Геродота тщеславный царь персов Кандавл предлагает верному телохранителю увидеть красоту обнаженной царицы, тот пытается уклониться: «Ведь женщины вместе с одеждой совлекают с себя и стыд!»[200 - Геродот. Указ. соч. Кн. I, 8. См. примеч. 17.] Ксенофонт вспоминает: однажды Сократ посетил Феодоту, заинтригованный слухами, «что красота ее выше всякого описания и что живописцы приходят к ней писать с нее, и она показывает им себя настолько, насколько дозволяет приличие». Описывая ее роскошный наряд[201 - Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Кн. III, гл. 11. 1, 4. Перевод С. И. Соболевского.] (по-гречески «космос»), Ксенофонт, кажется, исподволь наводит читателя на мысль, что наряд женщины – приманка: утаивая телесные недостатки, он усиливает очарование гетеры и пробуждает в мужчине вожделение; стало быть, женщину делает одежда[202 - Stewart A. Op. cit. P. 278.]. Эту же мысль проводит и рапсод, воспевший в IV Гомеровом гимне Афродиту: чтобы Анхиз возжелал ее, выдавшую себя за фригийскую царевну, она одевается так, что для описания ее наряда понадобилось шесть стихов (85–90) и еще четыре (162–165) о том, как Анхиз ее раздевает, но ни слова не сказано, какою он ее увидел, сопрягаясь с ней в любви. Неудивительно, что под морализирующим мужским взглядом богиня любви отличалась от Геры, Афины и других богинь, главным образом, одеждой, а также атрибутами и деталями облика.
Как же на фоне этой традиции понять первый в крупной скульптуре шаг к обнажению Афродиты и тем самым к решительному ее противопоставлению другим богиням, сделанный около 410 года до н. э. афинянином Каллимахом?
В феминистском дискурсе принято видеть в освобождении Афродиты от одежд знак утраты ею самодостаточности, симптом ее унижения, превращения в объект мужского сексуального желания и удовлетворения[203 - Widdowson A. J. The Many Faces of «Golden Aphrodite» – An exploration of Aphrodite’s multidimensionality // University of Reading. Department of Classics. 2014. P. 28–40.]. Наверное, я рассуждал бы схожим образом, если бы был уверен, что привычная испокон веку морализирующая аналогия между богиней и женщиной по-прежнему сохраняла силу во всех областях художественного творчества около 400 года до н. э. и позже, когда скульпторы стали изображать Афродиту все более обнаженной. Но я не могу принять этот взгляд, потому что мне кажется, что на протяжении двух-трех поколений, отделявших первый в своем роде эксперимент Каллимаха от совершенно нагой «Афродиты Книдской», в воззрениях афинян происходило что-то такое, что вывело Афродиту Пандемос за рамки житейски оправданной моральной аналогии с обыкновенной женщиной.
Перемена отношения к ней не состоялась бы, если после блистательного Периклова периода не разразилась в последней трети V века до н. э. война против Спарты, закончившаяся поражением Афин и повлекшая за собой распад «конгломерата традиций»[204 - Доддс Э. Указ. соч. С. 259.]. В афинском обществе возникла острая потребность в спасительном божественном вмешательстве, и никто из бессмертных олимпийцев не смог бы помочь афинянам лучше Афродиты Пандемос. Ведь Pandemos —
буквально, та, которая охватывает «весь народ», являясь тем связующим началом и тои? силой взаимного притяжения, без которой не может существовать и никакое государство[205 - Буркерт В. Указ. соч. С. 259.].
Государственно-культовый статус Афродиты возвысился необыкновенно. И, надо сказать, не впустую, ибо надежда афинян на ее помощь в восстановлении демократических институтов оправдалась. Это подтверждается многочисленными находками благодарственных надписей Афродите от имени полисных органов управления, начиная с IV века до н. э.[206 - Sokolowski F. Aphrodite as Guardian of Greek Magistrates // Harvard Theological Review. Vol. 57. January. 1964. № 1. P. 1–8.]
Общественный кризис открыл афинянам глаза на то, что рукотворная красота, создаваемая художниками, может, хотя бы эпизодически и ненадолго, вновь и вновь компенсировать утрату удачи, душевного спокойствия и оптимизма. Сравните Парфенон с Эрехтейоном, который они начали строить во время передышки в Пелопоннесской войне. Какое изящество! Какая женственность чувствуется в этом храмике! Трудно поверить, что портик кариатид сооружен в самую страшную для афинян пору незадолго до военного краха. Будь тогда среди них Достоевский, он бы сказал, что красота спасет мир. Чувственно явленная красота становилась мольбой о спасении[207 - Мысль, подсказанная мне Борисом Николащенко.].
Могла ли Афродита в столь изменившемся мире оставаться телесно прекраснейшей только в силу предания, то есть только на словах, умозрительно, в воображении, не требуя репрезентации «голой истины» о красоте своего тела? Конечно, не могла, потому что ни мифический, ни эпический образ телесного совершенства не могут быть столь же всеобще-наглядными, как крупная статуя. Одно дело знать, что Афродита всех прекрасней, и восхвалять те или иные ее черты. Совсем другое – дать тысячам глаз возможность созерцать совершенство ее тела. Скрывать его нарядом значило бы кощунственно ограничивать силу благодати Афродиты. И вот ее «космосом» становится ее тело, а не наряд. Статуя нагой Афродиты – художественный знак богоявления.
Феминистки правы лишь отчасти, воображая в моральном своем негодовании, что, заказывая и создавая статуи прекрасной обнаженной Афродиты, мужчины конструировали женское тело для сублимации либидо. Так будет обстоять дело лет на пятьсот позднее, когда отношение самих эллинов и римлян к богине любви будет обмирщено настолько, что в ее изображении станут видеть художественный образ сексапильной женщины, так или иначе реагирующей на воображаемую ситуацию и не защищенной от харассмента со стороны эротически перевозбужденных мужчин. Но если бы желание превратить богиню в виртуальный объект сексуального влечения было свойственно эллинам в V–IV веках до н. э., то областью искусства, в которой мы видели бы самые ранние и притом массовые вторжения изображений нагой Афродиты, была бы не крупная круглая скульптура, а вазопись – этот аккомпанемент сатировских развлечений симпосиастов. В действительности ничего подобного не наблюдается. Вазописцы, выполняя частные заказы для мужских компаний, объединенных не проблемами государственного культа, а интимными дружескими узами и развлечениями с гетерами, за редкими и нерешительными исключениями[208 - Пример – фрагмент афинского килика в Музее Метрополитен, расписанного около 400 г. до н. э. Йенским Мастером, на котором сохранилось изображение обнаженной по пояс Афродиты с Эротом, играющим на арфе.] оставались верны традиции изображения одетой Афродиты.
Освобождение Афродиты от одежд ради раскрытия ее совершенной красоты не могло состояться прежде, чем Поликлет разработал канон мужской фигуры. Грандиозность его новшества заключалась, на мой взгляд, не столько даже в установленной им системе пропорций (через несколько десятилетий они перестанут нравиться), сколько в том, что, связав пропорциями все части мужского тела, то есть исходя из его автономного существования, Поликлет открыл возможность смотреть на мужское тело как на живую органическую целостность, а не как на агрегат, составленный из частей, каждая из которых могла быть позаимствована, как наилучшая, у какого-то человека, при том, что человек этот в целом мог быть далеко не хорош собою.
Не думаю, что в пандан «Канону» Поликлета существовала какая-то не дошедшая до нас система пропорций идеального женского тела. Для обнаженной Афродиты важно, в первую очередь, не соотношение точных величин, а то, что после «Дорифора» скульпторы и на женское тело смогли смотреть как на целостно-живое.
Воплотить в скульптуре красоту богини любви значило возвысить тело женщины до божественного совершенства. Не в меньшей степени, чем образы мужских божеств, ее образ надо было наделить воспетыми Пиндаром «мощным духом» и «силой естества» – разумеется, в женских модификациях этих доблестей.
В женском варианте «мощный дух» – способность внушать любовное вдохновение, скажем, выраженное Мимнермом в первой из песен к флейтистке Нанно:
Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?
Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе[209 - Мимнерм. Из песен к Нанно. 1 // Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. М., 1963. С. 285.].
А «сила естества» женщины – ее способность вынашивать и вскармливать детей, то есть быть матерью. Вспоминая, что эллины считали вазы существами женского рода, я, надеюсь, не слишком уклонюсь от истины, если скажу, что статуи нагой Афродиты суть сосуды, содержащие безупречно выверенную (каждым скульптором по-своему) пропорцию эротики и материнской надежности.
Меня не смущает, что эти рассуждения о художественном раскрытии красоты Афродиты не согласуются с тем, как представлено прекрасное в «Пире» Платона, – как раз в ту эпоху, когда образ нагой Афродиты приобретал все большее значение в общественной жизни афинян.
Вот каким путем нужно идти в любви, – говорила Диотима, – начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх – от одного прекрасного тела к двум, от двух – ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это – прекрасное. И в созерцании прекрасного самого по себе, дорогой Сократ… только и может жить человек, его увидевший. Ведь увидев его, ты не сравнишь его ни со златотканой одеждой, ни с красивыми мальчиками и юношами, при виде которых ты теперь приходишь в восторг…
Диотима убеждает Сократа, что истинную добродетель, а с ней любовь богов и бессмертие постигает только тот, кому
довелось увидеть прекрасное само по себе прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, красками и всяким другим бренным взором… во всем его единообразии[210 - Платон. Пир. 211 c–e; 212 a. Перевод С. К. Апта.].
У платонического постижения прекрасного, заключающегося в подмене прекрасного идеей прекрасного, не было шансов стать основанием религиозного переживания афинян и государственного культа Афродиты.
Полагают, что Каллимах, старший современник Платона, был автором ныне утраченной бронзовой статуи, которой вдохновлялся Аркесилай, в середине I века до н. э. работавший над мраморным изваянием Венеры-Прародительницы (Venus Genetrix) для Форума Цезаря[211 - Плиний Старший. Указ. соч. Кн. XXXV, гл. XLV, 156. Цезарь учредил культ Venus Genetrix, поскольку считал, что его род восходит к Юлию – сыну Энея и внуку Венеры.]. Судя по множеству дошедших до нас мраморных реплик статуи Каллимаха, в древности она едва ли не соперничала популярностью с «Афродитой Книдской» Праксителя. Лучшей репликой считают луврскую «Афродиту Фрежюс» (ил. 73), названую так по ошибочно идентифицированному месту находки на Лазурном берегу. На самом деле ее нашли в Неаполе[212 - Boardman J. Op. cit. Fig. 197.].
Ил. 73. «Афродита Фрежюс». Реплика I в. до н. э. – I в. н. э. бронзового оргинала работы Каллимаха. Мрамор, выс. 164 см. Париж, Лувр. № Ma 525
Часто встречается утверждение, что статуи типа Venus Genetrix восходят к прототипу, который имел в виду Плиний Старший, когда, упомянув Алкамена, сообщил:
За городскими стенами [Афин. – А. С.] находится его знаменитая статуя Венеры, которая называется ???????? ?? ?????? [Афродита в Садах. – А. С.], – говорят, что в завершение руку к ней приложил сам Фидий[213 - Плиний Старший. Указ. соч. Кн. XXXVI, гл. IV, 16.].
Об этом же произведении писал Павсаний: статуя Афродиты работы Алкамена, находящаяся в «местечке, которое называют „Садами“», – «одна из немногих, заслуживающих внимания»[214 - Павсаний. Указ. соч. Кн. I, гл. 19: 2.]. И у Псевдо-Лукиана один из персонажей называет Афродиту Алкамена, «что „в садах“», самым прекрасным его произведением[215 - Лукиан из Самосаты. Изображения. 4. Перевод Н. П. Баранова.]. Ныне доказано, что прототип Venus Genetrix и созданная Алкаменом около 420 года до н. э. «Афродита в Садах» – вещи разные. О последней можно судить по «Афродите у колонны» (ил. 74), гораздо менее популярной, чем Venus Genetrix.
Ил. 74. «Афродита у колонны». Римская копия 25 – 50 гг. н. э. с оригинала работы Алкамена. Мрамор, выс. 149 см. Париж, Лувр. № Ma 414
В зале Лувра невысокая (164 сантиметра) «Афродита Фрежюс» стоит на плоской плите, поэтому кажется, что богиня глядит вниз. Я думаю, не таков был замысел Каллимаха. Должно быть, Афродита возвышалась на пьедестале, чтобы каждый, кто подойдет к ней, был облагодетельствован чуть заметной улыбкой склоненного к нему лица.
Непринужденным поворотом изящной головы к оголившемуся левому плечу она предлагает задержать внимание на двух округлостях: яблоке в левой руке и открытой левой груди. Правой рукой она приподняла край гиматия, чтобы набросить его не на голову, как утверждает большинство авторов, а на грудь. Этот жест заставляет остро почувствовать драгоценность момента.
До этого произведения не существовало статуи, которая так активно обращалась бы к вам и так властно и ясно определяла бы вашу роль. Вы Парис, только что вручивший ей приз. Четыре мотива внушают вам это переживание: взгляд Афродиты вам в глаза; принятое ею яблоко; грудь, оголенная в доказательство превосходства над соперницами; гиматий, который сию минуту ее укроет. Яблоко становится эквивалентом подношения богине. Стало быть, перед этой статуей вы вправе надеяться на воздаяние.
Афродита решила щедро отблагодарить вас: задержав над плечом гиматий, она великодушно позволяет насладиться созерцанием ее мощного прекрасно сложенного тела: прямыми плечами, небольшими крепкими широко поставленными грудями, объемистым торсом с высокой талией, слегка выпуклым животом, холмиком лобка и длинными стройными ногами. Благодаря тому, что безрукавный ионический хитон Афродиты не подпоясан, созерцание «задрапированной наготы»[216 - Кларк К. Указ. соч. С. 96.] не встречает препятствий, воздвигавшихся на наших глазах Фидием, захваченным космическим величием богини. Хитон Каллимаховой Афродиты, прилипнув к телу, как бы исчезает, оставляя лишь тонкие выступающие линии, живо обрисовывающие прельстительные формы. В нижней части фигуры благодаря контрасту с крупными вертикальными складками гиматия возникает впечатление, что богиня высвобождается из тяжелой материальной оболочки[217 - Harcum C. G. A Statue of the Type Called the Venus Genetrix in the Royal Ontario Museum // Vol. 31. № 2. P. 141.].
Мне кажется важным, что первый шаг к обнажению Афродиты сделал скульптор, работавший преимущественно в бронзе – материале, далеком от имитации внешнего вида человеческого тела, зато более энергийном, чем мрамор. Чтобы приблизиться к впечатлению, производимому оригиналом Каллимаха, вообразим игру бликов и теней на бронзовых выпуклостях и углублениях. Виртуозно изображенная мокрая ткань охлаждала разгоряченную плоть. Такие ощущения живее сколь угодно правдоподобной раскраски, которой статуя подверглась бы, будь высечена из мрамора.
Каллимах – автор бронзовых рельефов с разнузданно пляшущими менадами, чьи покровы кажутся воздушными вихрями, возбужденными их гибкими телами. Одна из них склоненной головой, обнаженной левой грудью и взметнувшимся над спиной гиматием напоминает «Афродиту Фрежюс» (ил. 75).
Ил. 75. Танцующая менада. Неоаттическая реплика 27 – 14 гг. до н. э. бронзового оригинала работы Каллимаха. Мрамор, выс. 143 см. Рим, Капитолийские музеи. № Scu 1094
Что в это время происходило с Афродитой на краснофигурных вазах?
Желания видеть на них обнаженную Афродиту не заметно. Фигуры на вазах не могут равняться со статуями силой воздействия на зрителя не только из?за небольшого размера и плоскостности, но и из?за отношения к ним как всего лишь к украшениям предметов быта. Но у этих фигурок есть свое преимущество – красота и динамичность линий. Главный же источник линейного богатства – одежды.
Почти до самого конца V века до н. э. художники конструировали фигуры, нанося на поверхность вазы размашистые протяженные прямые и слегка изогнутые упругие линии. Тела просвечивали сквозь строгий, ясный, энергичный рисунок драпировок. Извивы прядей и локонов волос и края волнующихся одежд служили контрастными украшениями хорошо продуманной жесткой линейной схемы.
Но в последней четверти V века до н. э. художники, начиная с Мастера Диноса[218 - В главе «Дионис» я описал берлинский динос, расписанный этим мастером ок. 415 г. до н. э. (ил. 14).], изменили стиль вазописи. Самым талантливым и смелым новатором был афинский Мастер Мидия. Его рисунок выглядит как экспромт: как если бы он не проецировал на поверхность вазы заранее сочиненную схему, а ощупывал непрерывно движущиеся тела и драпировки и на ходу передавал свои ощущения недлинными, то и дело прерывающимися извилистыми линиями.
Ил. 76. Мастер Мидия. «Гидрия Гамильтона». Ок. 420 – 400 гг. до н. э. Выс. 52 см. Лондон, Британский музей. № 1772,0320.30.+
Общепризнанный шедевр Мастера Мидия – так называемая «Гидрия Гамильтона» в Британском музее (ил. 76). Винкельман видел ее в Неаполе в коллекции английского посланника сэра Уильяма Гамильтона и, несомненно, помнил ее, когда писал своему другу Йоханнесу Видевельту, что на прекраснейших вазах этой коллекции – «лучший и самый красивый рисунок в мире; только увидев его, можно получить представление о великолепии живописи древних»[219 - Письмо из Рима от 19 декабря 1767 года (Winkelmanns Briefe. Dritter Band. 1766–1768. Berlin, 1825. S. 279).].
На верхнем поясе гидрии изображены Полидевк и Кастор, похищающие дочерей Левкиппа, которые были в тот момент невестами их родичей Идаса и Линкея. Полидевк уносится на квадриге влево со своей пленницей Фебой. Кастор, которого квадрига ждет, схватил Гилаейру и вот-вот умчится с нею вправо. Между колесницами Диоскуров (то есть Зевсовых юношей) виден стоящий на постаменте на некотором отдалении, лицом к нам, ксоан – грубый, вероятно, деревянный идол какой-то богини. На сайте Британского музея ее имя поставлено под вопрос: Хриса? В правой руке ксоана – фиал, левая, согнутая в локте, обращена вперед ладонью с растопыренными пальцами. Этот жест – «фаскелома» – выражает крайнее недовольство чьим-то действием, вплоть до проклятия тому, кто его совершил[220 - Mountza. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mountza (дата обращения 16.01.2022).]. Так как оскорбленные Идас и Линкей были сыновьями мессенского царя, столь горячее, оживившее статую возмущение поступком Диоскуров могла испытывать только богиня, истово почитаемая в Мессении, – скорее Артемида[221 - Павсаний. Указ. соч. Кн. IV, гл. 31: 8.], нежели Афина[222 - В том, что это Афина, не сомневается Людмила Акимова (Акимова Л. Указ. соч. С. 266).]. Как бы то ни было, косвенным адресатом возмущения бессмертной девственницы является виновница торжества Диоскуров – Афродита, центральная фигура на «Гидрии Гамильтона» как в композиционном отношении, так и в смысловом. Ибо что заставило Диоскуров похитить чужих невест, если не страсть?
Афродита сидит близ украшенного ионическими волютами и овами жертвенника, на котором заметны пятна крови: по-видимому, Диоскуры принесли жертву богине, чья поддержка придала им решимости. В ее величаво-свободной позе, в рисунке складок и сброшенного на бедра хитона чувствуется дыхание Фидиевых богов: роскошное тело пребывает в неге, а у тканей своя жизнь.
Ткани эти, как бы переведенные Мастером Мидия из мраморного Фидиевого рельефа в линейный рисунок, становятся легкими как воздух, вернее, как струи воздуха, разгоряченные телом и ставшие видимыми. Прежде никому не удавалось изобразить воздух, окутывающий тело. Благодаря воздушной оболочке и само тело впервые ощущается как плоть, излучающая тепло. Вместе с тем бесчисленные воздушные струйки превращаются на наших глазах в тонкую материю, в сравнении с которой лицо Афродиты, шея, верх груди и обнаженные по локоть руки, кажется, светятся белизной, вопреки тому факту, что весь ее силуэт – терракотового цвета.
Нападение Кастора на Гилаейру заставило Афродиту обернуться. Поэтому ее торс выше пояса мы видим анфас, и правая грудь даже немного не поспевает за поворотом торса. Оттого, что голова богини отведена к правому плечу, возникает впечатление, что она не ожидала столь бурных последствий внушенной ею страсти. Удивление передано и движениями ее полных гибких рук. Грациозный жест правой руки, эффектно выделяющейся на черном фоне, выдает инстинктивную заботу о прическе – весьма сложном сооружении. Левая, завершая поворот тела бессознательным поиском опоры, указывает на жертвенник, на котором Диоскуры обеспечили себе одобрение Афродиты, и одновременно на побег лавра (?) – предвестье будущей героической славы Зевсовых юношей.
Единственная тривиальность в облике Афродиты на этой вазе – ее лицо. Вроде бы это ионийский идеал, знакомый нам по «Трону Людовизи», созданному полувеком раньше: та же прямая линия лба и носа, тот же прямой пробор надо лбом. Но Мастер Мидия безбожно вульгаризировал богиню: не нос, а острый носик; не губы, а пара выпяченных лепестков; не нежная округлость подбородка, а резкая выпуклость на толстой короткой шее; не взор, а огромный глаз, не способный ни на чем сосредоточиться; не прядь к пряди, а кудряшки. Эта физиономия – ровно ничего не выражающий, но общепонятный лик сказочной «писаной красавицы».
Укорененная в давней традиции привычка видеть Афродиту одетой может вызывать у вазописцев иронию. Взгляните на рождение Афродиты Урании, изображенное около 370 года до н. э. на аттической пелике из музея в Фессалониках (ил. 77). В космической ночи поднялось из океана ярчайшее свечение, принявшее форму гигантской раковины-гребешка, и Гермес с Посейдоном, будто заранее занявшие места, чтобы засвидетельствовать божественность происходящего, а также прилетевший Эрот увидели выглянувшую из?за верхней кромки раковины Киприду, сияющую белизной тела. Терракотовый цвет фигур свидетелей, волн у их ног и рыбки, вынырнувшей из-под ног Посейдона одновременно с Афродитой, воспринимается, как отблеск огня в ночи. Изумительный ноктюрн! Без света Любви люди были бы слепы. Любовь же, осветив мир, сделала зримыми его формы, разомкнула их жизнь, безлюбовно замкнутую на себя, открыла их для совместного существования и для людей. Афродита как свет – эта тема наводит на мысль о Любви как силе, без которой невозможно распознавание форм, пребывавших в изначально хаотической беспредельности. В самый раз вспомнить, что у пифагорейцев и элеатов, а позднее у Платона и его последователей беспредельное, сокрытое, непознаваемое отождествлялось с ложью и злом[223 - Ляпустин А. Г. Соотношение предела и беспредельного в ранней греческой философии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-predela-i-bespredelnogo-v-ranney-grecheskoy-filosofii (дата обращения 17.01.2022).]. Но я не исключаю, что в росписи фессалоникийской пелики Афродита намеренно представлена анти-платонически как могущественная соперница Эрота, ибо не ей, а ему приписывала платоническая традиция роль создателя формы всего сущего из неясной расплывчатой бесформенности[224 - Платон. Указ. соч. 212с.].
Ил. 77. Аттическая пелика. Ок. 370 г. до н. э. Фессалоники, Археологический музей. № Salonica 685
И вот, вопреки грандиозности темы, художник настаивает на том, что Афродита Урания выходит из волн морских одетой. Облаченная в хитон, она приподнимает над правым плечом краешек гиматия, как замужняя женщина; этот статус подтвержден и тем, что ее волосы убраны в платок.
Ил. 78. Лекиф. Ок. 350 г. до н. э. Выс. 18 см (шейка отбита). Таранто, Национальный Археологический музей. № 4530
Ил. 79. Оборотная сторона зеркала. Ок. 350 г. до н. э. Бронза, позолота, диаметр 19 см. Париж, Лувр. ID: 1001350
Консервативное отношение к Афродите просто как к женщине могло приобретать и юмористический оттенок. Вот пузатый апулийский лекиф середины IV века до н. э., хранящийся в Таранто (ил. 78). Пышногрудую красавицу, непринужденно откинувшуюся на изящном сиденье и кормящую обеими грудями сразу двух младенцев, тогда как еще четверо ждут своей очереди, можно было бы принять за многодетную мать в богатом (судя по ее наряду, украшениям и двум недурно одетым служанкам) доме, если бы младенцы не были с крылышками, не порхали бы в воздухе и не были все одного возраста, а служанка, доставившая сундучок с младенцами, не держала бы в руках лебедя. Разумеется, счастливая мама – Афродита, младенцы – эроты, а хорошенькие служанки – хариты. При взгляде на античную богиню любви, окруженную резвыми мальчуганами, вспоминается иконография христианского Милосердия, ставшая, начиная с XIV века, популярной в итальянском искусстве.
Но на такой дорогой вещи, как бронзовое позолоченное зеркало, юмору не место. На обороте зеркала середины IV века до н. э., хранящегося в Лувре (ил. 79), изображена обнаженная Афродита. По сути, это резцовая гравюра, выполненная с виртуозным мастерством, предполагающим холодный контроль каждого движения, каждого нажима резца на бронзовую поверхность. Однако этот рисунок настолько чувственен, что, кажется, когда мастер резал твердым металлом металл податливый, он как бы овладевал телом, которое переносил из воображения на бронзовый круг. Я не думал бы так, если бы гравер ввел штриховку, которая механически-повторными движениями передавала бы светотень. Ведь светотень – не само тело, а то, что тело отнимает у света. Но в этой гравюре нет светотени, нет и механических движений. Каждым движением резца запечатлена та или иная черта телесного облика Афродиты.
Купание – деликатный предлог для показа ее наготы. Сбросив одежду на камень и подхватив Эрота, но еще не осмеливаясь снять с камня руку, она осторожно ступает в невидимую нам воду у нижней точки круга. Фигура, видимая в три четверти, – вытянутая, ноги фантастически длинные, таз и торс узкие, живот по-мужски мускулистый, груди налитые и безупречно округлые, плечи прямые и широкие, голова, повернутая почти в чистый профиль, небольшая, с волнистыми, растрепанными на ветру волосами. В этих формах и пропорциях, которые прямо-таки напрашиваются на то, чтобы их обладательница продефилировала на показе haute couture недавнего прошлого, когда мы еще не знали, что такое body-positivity, линейный инстинкт художника господствует над пластическим.
Тонкое чувство линии проявил гравер в том, как сделал гибким контур правого бедра Афродиты тканью, выбившейся из-под ягодицы, как повторил линию ее левого плеча очерком крылышка Эрота и, особенно, в том, как показал, что Афродита, подхватив неуемного своего сына в воздухе, не прижала его к себе, благодаря чему ладно волнуются контуры их тел, разделенные узким зазором.
Ил. 80. «Венера Колонна». Позднеэллинистическая копия «Афродиты Книдской» Праксителя, датируемой ок. 340 г. до н. э. Мрамор, выс. 204 см. Ватикан, музей Пио-Клементино. № 812
Я сосредоточиваю внимание на этих деталях, чтобы отвести от художника упрек в анатомической ошибке, который вам, может быть, придет в голову, если вы попробуете в воображении объединить бедро и голень левой ноги Афродиты: где же быть колену? Это не ошибка, а намеренное нарушение, благодаря которому художник убедительно передал осторожность шага богини. А о том, что это было для него очень важно, говорит трогательная подробность: чтобы каменистое дно не ранило нежные ступни Афродиты, он обул ее в коралловые тапочки. Снова, как на изображении рождения Афродиты на фессалоникийской пелике и в сценке кормления ею эротов, бросается в глаза непосредственное сочетание божественного и человечески-житейского. Этим подтверждается исходная моя идея: в эллинском искусстве божество – ролевая маска человека.
И вот мы перед «Афродитой Книдской», вернее, перед лучшей из ее многочисленных копий – мраморной статуей, которую князь Филиппо III Джузеппе Колонна подарил в 1783 году римскому папе Пию VI. Обычно ее называют «Венерой Колонна» (ил. 80).
Без тени сомнения Плиний Старший писал в «Естественной истории»:
Самое выдающееся не только из произведений Праксителя, а во всем мире, это Венера, – чтобы увидеть ее, многие отправлялись в Книд[225 - Ныне город Текир, расположенный на конце узкого полуострова на юго-западе Турции.]. Он создал их две и продавал одновременно, вторую – в одетом виде, которую по этой причине предпочли косцы, имевшие право выбора, сочтя это строгим и целомудренным, хотя он продавал ее по той же цене. Отвергнутую купили книдцы, но слава ее неизмеримо выше. Впоследствии ее хотел приобрести у книдцев царь Никомед, обещая оплатить весь их государственный долг, который был огромным. Они предпочли все претерпеть, и не напрасно. Этой статуей Пракситель прославил Книд. Эдикула ее вся открыта, чтобы отовсюду видно было изображение богини, созданное, как считают, под покровительством ее самой. И с какой бы стороны ни смотреть – восхищение не уменьшается. Рассказывают, что кто-то, охваченный любовью к ней, спрятавшись однажды ночью, прильнул к изображению, и о его страсти свидетельствует пятно[226 - Плиний Старший. Указ. соч. Кн. XXXVI, гл. IV, 20, 21. О существовании «Афродиты Косской» сообщает только Плиний. Не исключено, что рассказ об одновременном создании Праксителем двух Афродит – одетой и нагой (соответственно, Косской и Книдской) – позднейший вымысел. Но если эта история и не соответствует исторической истине, для меня она не утрачивает ценности, поскольку важна для обсуждения «Афродиты Книдской».].
Плиний лишь косвенно дает понять, что Пракситель изобразил богиню обнаженной, – а ведь именно это более всего прославило «Афродиту Книдскую». Статуя, созданная Праксителем около 340 года до н. э., не сохранилась. Книдцы почитали ее как Афродиту Эвплойю – покровительницу счастливого мореплавания. Сделана она была, вероятно, из пентелийского мрамора: в отличие от паросского, в нем иногда обнаруживаются пятна, что могло дать повод для эротических фантазий анонимных информаторов Плиния, а потом Псевдо-Лукиана[227 - Лукиан из Самосаты. Две любви. 13–17.].
Надежных сведений о том, как выглядело святилище Афродиты Эвплойи, нет. Наверное, оно находилось на одном из высоких мест города. Предполагают, что статуя не менее двухсот лет стояла в небольшой, открытой спереди прямоугольной эдикуле, типичной для восточно-греческих святилищ того времени[228 - Havelock Ch. M. The Aphrodite of Knidos and Her Successors. A Historical Review of Female Nude in Greek Art. University of Michigan, 1995. P. 37.]. Следовательно, в тот период осмотреть статую со всех сторон было невозможно. Архитектурное обрамление подталкивало смотрящего встать на оси симметрии проема эдикулы.
В 1969–1972 годах в Книде были обнаружены руины ротонды, восемнадцать колонн которой были расставлены по окружности диаметром двенадцать метров[229 - Love I. C. A Preliminary Report of the Excavations at Knidos, 1970 // American Journal of Archaeology. Jan., 1972. Vol. 76. № 1. P. 72–74.]. Усмотреть в этом сооружении эдикулу «Афродиты Книдской», упомянутую Плинием, было тем более соблазнительно, что его размеры совпали с ротондой на вилле Адриана в Тиволи, в которой стояла копия этой статуи. Возобновив раскопки через двадцать лет, археологи уточнили, что эта ротонда, построенная во II веке до н. э., не была сквозной. Внутри находилась огражденная сплошными стенами целла, достаточно вместительная, чтобы можно было обойти статую, если бы таковая там стояла[230 - Mellink M. J. Archaeology in Anatolia // American Journal of Archaeology. Jan. 1992. Vol. 96. № 1. P. 139 (Knidos).]. Однако уверенности, что это и было святилище Афродиты Эвплойи, до сих пор нет, так как найденная археологами ротонда не совпадает с описаниями у античных авторов.
Нет античных статуй, равных «Афродите Книдской» по количеству копий и реплик. Однако ученые не располагают ни копиями, ни письменными упоминаниями о ней, которые датировались бы ранее второй половины II века до н. э. Ее «открыли» в эпоху позднего эллинизма, когда к статуе обнаженной Афродиты стали относиться как к объекту эротического влечения и виртуального сексуального наслаждения, то есть как к изображению женщины, прикрывающей причинное место от смущения, либо, напротив, кокетничающей с вуайерами[231 - Havelock Ch. M. Op. cit. P. 2.]. Такое понимание, воспринятое и римлянами, сделало «Афродиту Книдскую» жертвой воображаемых, если не реальных посягательств, с удовольствием описанных Псевдо-Лукианом и сравнительно недавно увлеченно обсуждавшихся Мишелем Фуко[232 - Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе. Гл. 2. Псевдо-Лукиан. URL: http://www.filosofa.net/book-91-page-45.html (дата обращения 27.01.2022).]. «Открытие» «Афродиты Книдской» сопровождалось шквалом эпиграмм и скульптурных воспроизведений. Муссировались сведения (за давностью времени неопределенные), что моделью Афродиты служила знаменитая красотой афинская гетера Фрина – любовница Праксителя[233 - О том, что моделью Праксителя была Фрина, сообщает Афиней (Указ. соч.). Клемент Александрийский и Арнобий называют Кратину.]. И уже не богиню, а гетеру, раздевшуюся перед купанием, стали видеть в его статуе[234 - Критика этого представления: Havelock Ch. M. Op. cit. P. 19–37.]. Многим и ныне такой взгляд кажется естественным. Должен признаться, я и сам не без усилия пришел к убеждению, что этот взгляд не имеет ничего общего ни с намерениями Праксителя, ни с адекватным восприятием этой статуи его современниками.
Давайте исходить из того, что Пракситель, не зная заранее, купят ли у него косцы статую нагой Афродиты, думал не об украшении какого-нибудь публичного или частного пространства, а о культовом образе богини, и что именно в таком качестве она очень понравилась книдцам, которые ее приобрели и установили в святилище. Относиться к ней, как к чуть ли не портретному изображению сексапильной смертной женщины, было бы кощунством, которое грозило бы Книду – крупному торговому городу и военному порту – потерей благополучия, экономическим и политическим крахом. Неудивительно, что от первых двух веков ее существования не сохранилось никаких свидетельств: ведь в качестве изображения Эвплойи она была сугубо местной святыней.
Итак, приблизиться к адекватному пониманию шедевра Праксителя можно, лишь исходя из тезиса о государственно-культовом статусе этой статуи. Первым делом надо ясно представить отличия Афродиты от других олимпийских богинь. Но о какой Афродите речь – о Гомеровой или Гесиодовой? Косцы предпочли одетую, то есть Гомерову Афродиту Пандемос – ту, что выиграла суд Париса. Книдцам же досталась нагая. Книд был основан лакедемонянами, и жители Книда считали себя потомками спартанцев; в Спарте же, помнится, издревле высоко чтили Афродиту Уранию. Поэтому, когда косцы забрали задрапированную Афродиту, жители Книда, я думаю, были счастливы, признав в отвергнутой косцами Афродите морскую богиню – Гесиодову Уранию, как нельзя лучше пригодную для культа Эвплойи.
Ее родная стихия – море. Пракситель не просто осмелился изобразить ее нагой – он обязан был это сделать! Ее нагота не мотив рассказа о купании, а важнейший ее атрибут. Гидрия у ног – атрибут водной стихии[235 - Другое мнение: «Пракситель представил Афродиту обнаженной, сюжетно оправдывая это моментом купания, но купания не в море, а, как это делали гречанки, поливая себя водой из кувшина, вот почему рядом с богиней стоит гидрия – сосуд для воды» (Давыдова Л. И. Греко-римская скульптура в собрании Эрмитажа. СПб., 2020. С. 227).]. О том же и драпировка – самый подвижный мотив статуи, который мне кажется метафорой каскада (технически же вместе с гидрией и подставкой драпировка поддерживает на весу левую руку богини). В пользу такого умозаключения говорят три обстоятельства. Во-первых, метафорическое использование драпировок знакомо нам по «Трону Людовизи». Во-вторых, в капитолийском и медицейском изводах «Афродиты Книдской» (на которых богиня прикрывает не только лоно, но и грудь) вместо гидрии и драпировки видим непосредственное указание на морскую стихию – Эрота на дельфине. В-третьих, ни в одном из древних текстов, в которых упомянута эта статуя (а их девятнадцать), не сказано, что Афродита изображена во время купания[236 - Эту гипотезу первым высказал швейцарский археолог Иоганн Якоб Бернулли в 1873 году (Havelock Ch. M. Op. cit. P. 22).]. Морская богиня вовсе не собирается войти в воду. Не столь нужны ей очистительные омовения, как Афине и Артемиде, блюдущим свою девственность, и Гере, раз в году ее восстанавливающей. Афродите девственность ни к чему.
Но как объяснить жест правой руки, провоцирующий эротические фантазии зрителей? Будем держаться исходного тезиса: перед нами культовая статуя. Видеть в наготе богини тему ее морального самосознания значило бы низвести ее на уровень человеческого общежития, потому что из всех живых существ только люди наделены осознанием наготы как социального феномена. Хотя божества в мифах предстают нашему воображению и одетыми, и обнаженными, было бы наивно приписывать им рефлексию по поводу наготы как состояния, противоположного одетости, которая принималась бы ими в качестве их собственной социальной нормы со всеми вытекающими для них психическими последствиями: стыдом, смущением, униженностью, оскорбленностью и проч.
Проблема осознания наготы и возникновения стыда глубоко продумана в иудейском Ветхом завете. До вкушения плода познания от дерева добра и зла прародители «были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Но после грехопадения «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания»[237 - Быт. 2: 25; 3: 7.]. По-моему, изваянная Праксителем Афродита Урания так же не знает, что она нагая, как Ева до грехопадения. И так же, как Ева, не знает она стыда. Вот почему положение правой руки не надо понимать как выражение смущения, стыда и вообще какой бы то ни было дискомфортной психической реакции на присутствие перед нею воображаемых или реальных зрителей или вуайеров. Этот жест – символическое указание на власть Афродиты над размножением всего живого.
Строго говоря, это даже не жест. Встаньте в ее позу и немного отведите в сторону левую руку – ваш плечевой пояс слегка повернется, и вслед за опущенным правым плечом сама собой качнется влево, чуть согнувшись в локте, свободная правая рука. Пракситель остановил воображаемое движение Афродиты в тот момент, когда ее кисть остановилась в этой точке. Ему удалось пластически выразить божественно-безгрешное бесстыдство богини любви. Безмятежная в своей наготе, она явилась символом любви как благотворной космической силы. Рассуждая о ней по аналогии с Евой, рискну сказать, что положение ее руки эквивалентно напутствию иудейского Бога: «Плодитесь и размножайтесь»[238 - Там же. 1: 28.]. Оно никому не адресовано персонально, будучи представлено, как закон всего живого. Но как деликатно звучит фундаментальный закон природы, когда смотришь на книдскую Афродиту!
Если «Дорифор» – образец мужественности, то «Афродита Книдская» – эссенция женской мягкой силы[239 - Lamar L. Aphrodite and Her Famous Nudity. An Analysis on The Origins of Praxiteles’ Creation of the Aphrodite of Knidos // Heritage Daily. May 28. 2013.]. Но я не согласен с авторами, которые считают статую Праксителя «концом Аполлона» (ибо, по их мнению, «зримая идеализация – мужская форма искусства»)[240 - Палья К. Языческая красота // Палья К. Личины сексуальности. Екатеринбург, 2006. С. 139, 149.] или сексуальным вырождением мужского канона, «скучным умерщвлением атлетического мужчины-победителя»[241 - Carpenter R. Greek Sculpture. Chicago, 1960. P. 174.]. В самодостаточном покое Афродиты, в плавном волнении контуров и мягких переходах телесных объемов, в грациозном наклоне корпуса и головы, в гибких руках и сомкнутых бедрах, в легкости, с какой все ее тело отзывается на движение левой руки, я вижу не вырождение мужских (якобы единственно возможных) идеальных форм, а равноценный канон женского телесного совершенства.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: