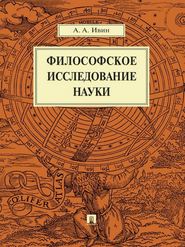скачать книгу бесплатно
В науках о природе предсказания обычно строятся на основе научных законов и совпадают по своей структуре с объяснениями. Характерная особенность предсказываемых на основе законов явлений заключается в том, что они, как и сами законы, являются необходимыми и не может быть так, чтобы они не произошли.
Человеческая история представляет собой последовательность индивидуальных и неповторимых событий. В ней нет никаких общих законов, определяющих ее ход и предопределяющих будущее. Каким окажется будущее, во многом зависит от деятельности самого человека, от его ума и воли. Хотя в истории невозможны предсказания, опирающиеся на научные законы («законы истории»), в ней возможны предсказания, основывающиеся на знании причинных связей и устойчивых социальных тенденций, подобных современным тенденциям роста численности человечества, совершенствования техники и т. д. Будущее является открытым не только для индивидов, но и для отдельных обществ и для человечества в целом. Вместе с тем будущее в известной мере определяется каузальными связями, имеющимися между существующими социальными явлениями и уже успевшими сложиться и проявить себя тенденциями социального развития. Предсказание развития общества в будущем является сложным, во многом такое предсказание ненадежно, но, тем не менее, оно возможно.
Примеры паранаук. Типичным примером паранауки может служить парапсихология.
Парапсихология занимается изучением необычных феноменов предвидения, телепатии, левитации и др. Иными словами, всех тех нуждающихся в объяснении психических явлений, которые представляются не подпадающими под обычное физическое или психологическое объяснение. Термин «парапсихология» предложен П. Бойраком в конце XIX в.; Т. Райн ввел понятие «пси-феномена» и разделил такие феномены на два вида: когнитивные и физические (пси-гамма-феномены и пси-каппа-феномены). К первым, называемым также экстрасенсорным восприятием, относятся ясновидение, способность к предсказанию, телепатия (прямая коммуникация между двумя сознаниями, возможно разделенными большим пространством, обходящаяся без участия органов чувств); ко вторым – психокинез, т. е. духовное воздействие на материальные объекты на расстоянии.
Телепатия является частным случаем телегнозиса – такого знания о состоянии чужого сознания, которое получается, как можно предполагать, не путем восприятия телесных движений другого человека и не благодаря каким-то иным физическим воздействиям, посредством которых обычно устанавливается связь между сознаниями. Вопрос о том, можно ли иметь знание о мыслях другого человека, фактах или будущих событиях без использования обычных сенсорных каналов, остается открытым. Вера в существование такого знания распространена с древнейших времен, но она обычно обосновывалась ссылками на сверхъестественные силы. Научных – и прежде всего твердо установленных эмпирических оснований – для такой веры пока нет.
Еще проблематичнее возможность существования парапсихологических феноменов физического характера: выпадение определенной комбинации цифр при игре в кости или конкретный расклад карт при сдаче по мысленному приказу человека; перемещение предметов одним усилием воли; преодоление благодаря только такому усилию гравитации (левитация); передвижение, нередко разрушительное, предметов при полтергейсте и т. п.
Из парапсихологии иногда делались выводы о существовании параллельной, чисто духовной реальности, о возможности общения с духами и т. п. Более осторожные сторонники парапсихологии считают парапсихологическую деятельность реально существующей, но отвергают ее спиритическое обоснование. Противники парапсихологии обосновывают свои взгляды тем, что пси-феномены совершенно не вписываются в сложившиеся представления о научных данных и что все должно объясняться с помощью естественных факторов, а не путем постулирования еще одной, доступной лишь избранным реальности.
Можно думать, что некоторые положения парапсихологии со временем войдут в состав обычной психологии при условии, конечно, их радикального переосмысления. Однако большинство гипотез парапсихологии носит явно вненаучный характер. Они не имеют какого-либо эмпирического обоснования, плохо согласуются с существующими научными представлениями о полях и силах, существующих в мире, опираются на категории, не имеющие отношения к современной науке, не отвечают тем идеалам, которые ставит перед собой наука, не выдерживают научной критики и т. д.
Еще одним примером паранаучной теории может служить так называемая теория факторов. Под «экономическим детерминизмом» обычно понимается теория, согласно которой экономический базис общества детерминирует все другие стороны его жизни. Такой теории придерживался, например, К. Маркс, социальную философию которого можно определить как соединение линейно-стадиального подхода к истории с экономическим детерминизмом. По Марксу, история проходит ряд ступеней (общественно-экономических формаций), своеобразие каждой из которых определяется экономической структурой общества, совокупностью производственных отношений, в которые люди вступают в процессе производства и обмена товаров. Эти отношения соединяют людей и соответствуют определенной ступени развития их производительных сил. Переход к следующей, более высокой ступени вызывается тем, что постоянно растущим производительным силам становится тесно в рамках старых производственных отношений. Экономическая структура есть тот реальный базис, на котором воздвигается и с изменением которого меняется юридическая и политическая надстройка. Под влиянием критики Маркс попытался несколько смягчить положение об однонаправленном характере воздействия экономического базиса на идеологическую надстройку (науку, искусство, право, политику, конституции и т. п.) и учесть обратное воздействие надстройки на базис. Экономический детерминизм является основой так называемого материалистического понимания истории, которое видит конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой.
Суть теории факторов сводится к идее, что общественное развитие определяется взаимодействием многих факторов: экономики, науки, техники, религии, морали и т. д.; в разные периоды развития общества ведущим является какой-то один из таких факторов или их группа. Например, в Средние века социальная жизнь определялась прежде всего религией и традицией. В индустриальном обществе ведущими факторами являются развитие науки и техники.
Теория факторов сложилась в конце XIX – начале ХХ в. как реакция на неудачные попытки объяснить общественное развитие решающим воздействием какого-то одного, остающегося постоянным фактора (географического, экономического, геополитического, демографического, расового и др.). Но если, например, экономический детерминизм был теорией, то теория факторов теорией вообще не является. Она представляет собой только общую, быть может, небезынтересную, рекомендацию по построению теории социального развития. Не будучи научной теорией, теория факторов не способна служить основанием ни для объяснения (предсказания) социальных явлений, ни для их понимания.
Еще одним простым примером паранауки может служить постулируемая витализмом особая, не сводимая ни к чему иному элементарная сила, благодаря которой в организме возникают явления жизни. В начале прошлого века немецкий биолог Г. Дриш попытался ввести гипотетическую жизненную силу, названную им «энтелехией», присущую только живым существам и заставляющую их вести себя так, как они себя ведут. Он полагал, что жизненная сила имеет различные виды, зависящие от стадии развития организмов: в простейших одноклеточных организмах она сравнительно проста, у человека она значительно больше, чем разум, потому что ответственна за все то, что каждая клетка делает в теле. Г. Дриш не определял, однако, чем энтелехия, например, дуба отличается от энтелехии жирафа; он просто говорил, что каждый организм имеет свою собственную энтелехию. Обычные законы биологии он истолковывал как проявления энтелехии. Существование этой таинственной жизненной силы невозможно было проверить на опыте, поскольку ничем, кроме известного и объяснимого без нее, она себя не проявляла. Она ничего не добавляла к научному объяснению, и никакие конкретные факты не могли ее коснуться. Не имеющая принципиальной возможности фальсификации, гипотеза энтелехии была отброшена как бесполезная.
И наконец, в качестве последнего примера паранауки можно привести механицизм – концепцию, широко распространенную в прошлом, но отброшенную сейчас. Согласно механицизму, все явления полностью объяснимы на основе механических принципов. Под механицизмом понималась также идея, что каждое явление представляет собой результат существования материи, находящейся в движении. И может быть объяснено, исходя из законов этого движения, или доктрины, что природа, подобно машине, является таким целым, функционирование которого автоматически обеспечивается его частями. В космологии механицизм впервые был провозглашен Левкиппом и Демокритом, заявлявшими, что природа объяснима с помощью атомов, находящихся в движении, и пустоты. Механицизм поддерживался Г. Галилеем и другими учеными XVII в. Согласно Р. Декарту, сущностью материи является протяженность, и все физические явления объяснимы через законы механики. Механицизм в биологии представляет собой утверждение, что любые организмы могут быть полностью объяснены на основе механических принципов. Противоположностью механицизма здесь служит витализм, также являющийся паранучной концепцией.
Примеры псевдонаук. В качестве псевдонаучных концепций рассмотрим коротко алхимию и астрологию. Алхимия является типичным феноменом средневековой культуры, в котором своеобразно переплетались начальные естественнонаучные (прежде всего химические) представления о мире и характерные для данной культуры представления о человеке и обществе[4 - См. об алхимии подробнее: Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979; Он же. Ученый Средневековья. Психологический портрет // Научное творчество. М., 1979.]. Главной целью алхимиков являлись поиски так называемого философского камня («великого эликсира», «великого магистерия», «красной тинктуры» и т. д.), способного превращать неблагородные металлы в золото и серебро. «Философский камень» должен был, кроме того, обеспечивать вечную молодость, излечивать все болезни и т. д.
Алхимия, существовавшая в рамках средневековой культуры, не могла не разделять основные особенности этой культуры: ее общую спиритуалистическую ориентацию, догматизм и авторитарность, традиционализм и символизм, иерархизм и т. д. Этому не способно было помешать даже то, что алхимия, стоявшая между оккультным теоретизированием и химико-техническим имитирующим ремеслом, представляла собой изнанку магистральной культуры.
Символический характер алхимии проявлялся, в частности, уже в параллелизме двух действий: превращение вещества в процесс «великого делания» являлось только символом параллельной внутренней работы алхимика над собой. «Великое делание», призванное дать в итоге «философский камень», было лишь внешней стороной алхимического процесса, символизировавшей то, что в его ходе сам алхимик уподобляется богу. Не случайно алхимия считалась в Средние века ересью. В рассуждениях алхимиков ртуть и сера не только вещества, но и бесплотные принципы, газ не только нечто воздухоподобное, но и таинственный дух и т. п.
В алхимическом рецепте, принадлежавшем по преданию испанскому философу и логику Раймонду Луллию, предписываются, в частности, такие действия: «Непроницаемые тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно раздели, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови». Этот рецепт столь же темен, как и тени, покрывающие реторту с драконом внутри. Может даже показаться, что это бессмысленное бормотание мага или шарлатана, рассчитанное на непосвященных и не имеющее никакого отношения к химии.
Но как раз с химической стороной дело оказалось относительно простым. Уже в XIX в. этот рецепт был расшифрован, таинственные львы и драконы исчезли и вместо них появились самые обыкновенные вещества. «Буквально химическое» прочтение алхимического рецепта показало, что в нем описывается серия химических превращений свинца, его окислов и солей. В частности, «горючей водой» оказался обычный ацетон.
Однако только «химического» толкования и прояснения явно недостаточно. Оно выявляет только скелет алхимического текста, оставляя в стороне все остальное, без чего алхимия перестает быть полнокровным средневеково-противоречивым культурным явлением. Алхимия, выявившая ряд химических веществ и описавшая их взаимодействие друг с другом, явилась предшественницей возникшей в XVII в. науки химии. Алхимия не была наукой, хотя и опиралась частично на опыт и использовала некоторые собственно химические методы. Существование «философского камня» физически (онтологически) невозможно, поскольку противоречит хорошо обоснованным законам природы.
Феномен алхимии, одновременно «недохимии» и «сверххимии», надолго пережил Средние века. Известно, в частности, что И. Ньютон, настаивавший в своих книгах по физике на необходимости строго механического, каузального и математического объяснения природы, проводил алхимические опыты. Делал он это, впрочем, в тайне от своих коллег по «естественной (натуральной) философии».
С точки зрения социальной философии алхимия может рассматриваться как смутное предвосхищение возникшей только в Новое время идеи создания «рая на земле» для всех людей, или коммунизма. Алхимики первыми начали поиски способа создания богатого и процветающего общества, в котором нет надобности в тяжелом и монотонном труде, а легкость получения богатства (золота) лишает смысла само понятие частной собственности.
Астрология представляет собой концепцию, согласно которой события земной жизни можно предсказать по расположению небесных светил. Обычно астролог для предсказания судьбы человека составляет по особым правилам гороскоп – условный чертеж расположения светил в момент рождения данного человека.
Астрология как толкование звезд была широко распространена на Древнем Востоке, откуда она пришла в Древнюю Грецию и затем в Рим, где означала то же, что и астрономия. Позднее астрология начала рассматриваться как средство для определения судьбы человека по положению и движению звезд. Основополагающий учебник по астрологии написал знаменитый астроном Птолемей, полагавший, однако, что расположение звезд – только половина дела, а остальное зависит от самого человека. Другой, не менее знаменитый астроном И. Кеплер составлял гороскопы для своих современников.
Критика астрологии началась еще в античности; в Новое время даже отдаленное сходство какой-то научной концепции с астрологией истолковывалось учеными как свидетельство ущербности данной концепции. «Со стороны аристотелианцев и других рационалистов вплоть до Ньютона, – пишет об астрологии К. Поппер, – она подвергалась нападкам по ошибочным основаниям – за ее ныне признанное утверждение о том, что планеты оказывают “влияние” на земные (“подлунные”) события. Фактически ньютоновская теория гравитации, и в частности лунная теория приливов, исторически была детищем астрологических идей. По-видимому, Ньютон очень не хотел принимать теорию, восходящую к тому же источнику, что и теории, объясняющие, например, возникновение эпидемий гриппа “влиянием” звезд. И Галилей, несомненно, по тем же основаниям отвергал лунную теорию приливов, и его опасения по поводу результатов Кеплера легко объясняются его опасениями в отношении астрологии»[5 - Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. С. 248.].
Астрология является типичной псевдонаукой, тем не менее она существует и в наши дни. Отчасти это объясняется извечным желанием человека узнать свое будущее, иметь представление о своей судьбе, о том, «что написано на звездах». Кроме того, человек, вооружившийся своим гороскопом, имеет, как ему кажется, хороший аргумент в поддержку убеждения, что он не несет полной ответственности за свои дела и поступки. Долгожительство астрологии во многом объясняется также тем, что она пользуется псевдоэмпирическим методом, т. е. методом, который хотя и апеллирует активно к эмпирическим данным (гороскопы, биографии и др.), тем не менее не соответствует научным стандартам. И наконец, астрология как целостная теория вообще не допускает фальсификации, опровержения фактами. Астрологи обращают внимание только на то, что ими считается подтверждающими свидетельствами, и пренебрегают неблагоприятными для них примерами. Свои предсказания они формулируют в достаточно неопределенной форме, что позволяет объяснить всё, что могло бы оказаться опровержением астрологической теории, если бы она и вытекающие из нее пророчества были более точными.
§ 4. Две основные задачи научного исследования
Выражаясь кратко, можно сказать: то, чем занимаются ученые, сводится к двум основным задачам: обоснованию выдвигаемых идей и теорий и рационализированию мира с помощью этих идей и теорий. Обе эти фундаментальные цели науки пока описываются неудовлетворительно. Об обосновании говорится обычно вскользь. Иногда обоснование сводится только к научной критике и отбору тех теорий, которые устояли в ходе такой критики (К. Поппер); в других случаях для обоснования считается достаточным использования двух принципов – простоты и консерватизма, или привычности (У. Куайн).
Понятие рационализирования в философии науки вообще пока не вводилось. Вместе с тем только эти два связанных между собой по смыслу понятия позволяют раскрыть цели научного поиска и конкретизировать сложный процесс конструирования научных теорий.
Рационализирование изучаемого научной теорией фрагмента реальности – это набрасывание на него сети научных, достаточно строго определенных и связанных между собою понятий. Рационализирование позволяет объяснять, предсказывать и понимать исследуемые явления. Эта цель может быть достигнута только при условии, что научная теория является в достаточной мере обоснованной, и, прежде всего, имеет убедительные эмпирические основания.
Между научной теорией и исследуемым ею фрагментом реальности существуют, таким образом, отношения двоякого типа. С одной стороны, теория черпает в изучаемых ею предметных отношениях свое обоснование. Это движение от предметного мира к теоретическому всегда дополняется обратным движением – от теоретического мира к предметному, или рационализированием.
Обоснование и рационализирование являются двумя взаимодополняющими процедурами. Нужно не только привести теорию в соответствие с исследуемыми объектами, т. е. обосновать ее, но и осмыслить мир исследуемых явлений в системе понятийных отношений, без которой он остается непрозрачным, необъясненным и непонятным.
Отношения между обоснованием и рационализированием можно представить в виде простой схемы.
Рис. 1
Рационализирование находит свое выражение в двух дополняющих друг друга операциях: объяснении и понимании. Изучаемые явления объясняются исходя из системы теоретических представлений о них; эти явления понимаются на основе тех ценностей, которые явно или неявно постулируются теорией. Операции объяснения и понимания составляют сущность процесса рационализирования, или теоретического осмысления исследуемых объектов, подведения их под те схемы взаимных отношений, которые диктуются теорией. Операция предсказания является частным случаем операции объяснения. Предсказание представляет собой объяснение, направленное в будущее и касающееся тех объектов или событий, которые еще не наступили.
Особую ценность имеют номологические объяснения и предсказания, или объяснения и предсказания на основе научных законов. Такого рода объяснения и предсказания достижимы, однако не во всех науках, а только в науках, говорящих о вечном повторении одних и тех же событий, состояний и процессов и не принимающих во внимание «стрелу времени» и «настоящее». В науках, утверждающих постоянное изменение исследуемых ими объектов, объяснения и предсказания опираются на общие истины, не являющиеся законами природы. Особую роль среди таких истин имеют утверждения о тенденциях развития, в частности утверждения о тенденциях социального развития. В науках о мире, рассматриваемом в процессе изменения, большая часть объяснений и предсказаний основывается не на общих утверждениях, а на утверждениях о причинных связях.
Далее будут подробно рассмотрены проблема обоснования научных положений и теорий и проанализированы две основные операции, с помощью которых теория делает мир прозрачным и понятным и тем самым рациональным, – операции объяснения (предсказания) и понимания. Будет показано, что в сложных отношениях теории и описываемой ею реальности не только внешняя реальность меняет теорию, постоянно стремящуюся найти максимально твердые эмпирические основания, но и теория изменяет реальность, точнее, теоретическое видение последней.
Анализ исследуемых объектов и их отношений – исходный пункт построения и обоснования теории. Теория находится в процессе постоянного приспособления к этим объектам и всегда опасается утратить связь с ними. С другой стороны, существующая теория, даже если она элементарна, является теми очками, через которые исследователь воспринимает мир и без которых он попросту ничего не видит. Объяснение и понимание мира на основе теории является в известном смысле его изменением, а именно изменением его видения и истолкования.
Исследуемая реальность заставляет меняться теорию, теория принуждает нас менять наше видение мира, давать происходящим явлениям новое объяснение и истолкование. Эта простая картина усложняется тем, что научная теория существует не в вакууме, а в системе других научных теорий своего времени, с которыми она должна считаться и которые способны как поддерживать ее, так и порождать сомнения в ее приемлемости.
Эмпирическое обоснование, черпаемое теорией из ее согласия с исследуемой реальностью, всегда дополняется теоретическим обоснованием, проистекающим из взаимных отношений обосновываемой теории с другими научными теориями и из всей атмосферы научного творчества. Теория существует, далее, не только в чисто научном контексте, но и в контексте культуры своего конкретного времени и своей исторической эпохи. Из контекста науки в целом и контекста культуры теория черпает свое контекстуальное обоснование. Это касается не только социальных и гуманитарных теорий, особенно тесно связанных с культурой своей эпохи, но и естественнонаучных теорий, в случае которых влияние культуры гораздо менее заметно.
Противопоставление обоснования и рационализирования оказывается, таким образом, относительным. Оно относительно в еще одном смысле. Удачное объяснение и глубокое понимание изучаемых объектов позволяет не только представить изучаемый фрагмент действительности как систему отношений научных понятий, но и является в определенном смысле важным элементом процесса обоснования теории. Теория, позволяющая объяснять и понимать новые и тем более неожиданные объекты и их связи, представляется более обоснованной, чем теория, не дающая интересного и глубокого объяснения и понимания исследуемых ею объектов.
Последний момент, подчеркивающий относительность противопоставления обоснования и рационализирования, связан с тем, что утверждения теории взаимно поддерживают друг друга. Как говорил Л. Витгенштейн, в хорошей теории утверждениям трудно упасть, поскольку они держатся друг за друга, как люди в переполненном автобусе. Этот аспект обоснования научной теории не касается, конечно, рационализирования.
Рационализирование как истолкование предметов, свойств и отношений реального мира в терминах некоторой теоретической системы представляет собой движение от теоретического мира к предметному, теоретизацию последнего. Рационализированию противостоит обоснование – обратное движение от предметного мира к теоретическому, наделение теории предметным содержанием. Оба движения – от теории к реальности и от реальности к теории – тесно взаимосвязаны. Об обосновании говорится в тех случаях, когда мир, описываемый теорий, считается исходным и более фундаментальным, чем мир самой теории. О рационализировании можно вести речь, если мир, задаваемый теорией, берется как более фундаментальный, ясный, чем описываемый теорией фрагмент реального мира.
Например, перед средневековой культурой стояла двуединая задача: рационализирования и обоснования религиозного учения. Его понимание могло быть достигнуто путем постижения предметного мира, связывания недоступного самого по себе умозрительного, небесного мира с миром реальным, земным. С другой стороны, сам предметный мир становился понятным и обжитым в той мере, в какой на него распространялась сеть понятий и отношений умозрительного мира. Укоренение религии являлось постижением предметного мира и его религиозным рационализированием; постижение мира означало набрасывание на него сети отношений, постулируемых религией.
Средневековой церкви предстояло, пишет Л. П. Карсавин, развивая «небесную жизнь» в высших сферах религиозности, нисходить в мир и преображать его в Град Божий, живя «земной жизнью». Поэтому в церкви одновременно должны были обнаруживаться два видимо противоположных движения, лишь на мгновение раскрывающих свое единство: движение от мира к небу и движение от неба к миру[6 - Карсавин Л. П. Культура Средних веков. Общий очерк. Пг., 1918. С. 137.].
Движение к миру означало восприятие его культуры, частью внешнее освоение, т. е. обмирщение, и возможность падений с высот «небесной жизни». Движение к небу, наиболее энергично выражавшееся в религиозном умозрении и мистике, грозило устранением от всего мирского, вело к аскетизму и пренебрежению земными целями. Обоснование религиозной теории (теологии) и рационализирование с ее помощью мира были необходимы для жизненности друг друга, они, переплетаясь, создавали одно неразложимое в своих проявлениях противоречивое целое. Особенно наглядно это выразилось в средневековом искусстве: оно аскетично и всецело наполнено «неземным содержанием», но не настолько, чтобы совершенно оторваться от земли и человека, пребывающего, хотя и временно, на ней.
Угроза «приземления небесного», постоянно витавшая над средневековой культурой, реализовалась только на рубеже средних веков и Нового времени. В этот период рационализирование земного мира получило явный приоритет над обоснованием религии, в результате чего божественные предметы оказались приземленными, нередко сниженными до вполне житейских и будничных, а человеческое начало приобретать черты возвышенно-божественного. Небесный мир как бы сдвинулся с места и устремился в здешний, земной мир, пронизывая его собою.
В современной науке, конструирующей высоко абстрактные теоретические миры и устанавливающей сложные их связи с предметным миром, процессы обоснования (движения от предметного мира к теоретическому) и рационализирования (обратного движения от теоретического мира к предметному) переплетены особенно тесно. В философии науки некоторое внимание уделяется, однако, только процедурам обоснования, что чревато опасностью объективизма и возникновением иллюзии полной понятности мира на основе существующих теорий. Сходная ситуация существовала в естествознании в конце XIX в., когда рационализирование явно преобладало над обоснованием, и казалось, что развитие естественных наук завершено и никаких крупных открытий ожидать уже не приходится.
Понятие рационализирования (рационализации) употребляется в социологии, и перенос его в философию науки является расширением его первоначального значения. Процесс рационализации, как его определяет А. С. Панарин, – это последовательное преодоление стихий природы, культуры и человеческой души (психики) и замена их логически упорядоченными системами практик, следующих принципу эффективности. Первоначальными источниками рационалистической мотивации являлись страх перед безднами хаоса и стремление отвоевать у него пространство упорядоченности и предсказуемости. «Только с возобладанием социоцентирических установок, вызванных к жизни выпадением человека из природной гармонии, противопоставлением природы и культуры возникает устойчивая ориентация на упорядочивание “неразумных” стихий окружающего мира. Поэтому процесс рационализации включает психологию насилия над этим миром, статус которого занижается и ставится под вопрос. Процесс рационализации предполагает дихотомию активный субъект – пассивный объект; в ранге последнего может выступать и природная среда, которую предстоит «покорить», и собственные инстинкты, которые надлежит обуздать, и культура, которую необходимо модернизировать. Процесс рационализации предполагает, с одной стороны, постоянную критическую рефлексию, стимулируемую недоверием к внешне заданным и унаследованным формам, а с другой – веру в безграничные возможности усовершенствования себя самого и окружающего мира посредством логически ясных процедур, а также процессы модернизации человеческого менталитета, общественных отношений и практик»[7 - Панарин А. С. Рационализации процесс // Философия: энциклопедический словарь. М., 2004. С. 717.].
А. С. Панарин выделяет две модели процесса рационализации, выработанные европейской традицией. Первая, тоталитарная модель наиболее полно реализуется в марксистском проекте, приписывающем иррациональность индивидуальному сознанию и связывающая процесс рационализации со всеупорядочивающей деятельностью государства, назначение которого – преодолеть анархию общественной и личной жизни, подчинив их вездесущему рациональному планированию. Вторая, либеральная, модель, напротив, находит источники иррационального как раз в надындивидуальных структурах, порождающих ложные цели и провоцируемые ими ненужную жертвенность и коллективную расточительность.
Аналогами этих двух моделей рационализирования социальной жизни в научном познании являются рассматриваемые далее методологизм и антиметодологизм. Выделение только двух крайних типов рационализирования социальной жизни является таким же упрощением реальной картины этой жизни, как и сведение всех возможных отношений к научному методу к методологизму и антиметодологизму. О разнообразии возможных моделей рационализирования общества речь пойдет, однако, только в заключительной главе книги.
Глава II
НАУЧНЫЙ МЕТОД
§ 1. Общая, частная и конкретная методология
Особенностью излагаемого здесь подхода к науке и, соответственно, к научному методу является рассмотрение научного познания как одной из областей человеческой деятельности, осуществляемой определенным, достаточно устойчивым кругом людей – научным сообществом. Такой подход диктует широкое истолкование методологии, при котором в нее включаются не только способы обоснования, применяемые в науке, но и анализ критериев приемлемости научных теорий, а также исследование тех категорий, в системе которых всегда протекает научное исследование.
Широко понимаемая методология, характеризуемая обычно как «общая», или «философская», говорит не только о методах науки, но и о той среде, в которой протекает их применение; о тех ценностях, которые должны быть достигнуты; о тех ограничениях, которые налагаются на исследователя, и т. д. Обсуждение проблем саморегуляции науки, открытости научного исследования, научного критицизма, запрета в науке некорректных приемов убеждения, пропаганды и проч. сближает общую методологию с этикой, или моралью, науки. В число методов обоснования научного знания включаются не только эмпирические и теоретические, но и контекстуальные методы, предполагающие обращение к традиции, авторитетам, здравому смыслу, интуиции. Обсуждение последних предполагает сближение методологии наук о культуре с философской герменевтикой.
Социальные и гуманитарные науки, ориентированные на ценности, существенно отличаются от естественных наук своими частными методами. Однако своеобразие познания общества и человека определяется прежде всего той системой категорий, в рамках которой протекает это познание и которая определяет его основные координаты. С точки зрения общих характеристик научного метода различие между науками о природе и науками о культуре является несущественным. И те и другие руководствуются одними и теми же общими методологическими соображениями.
Под методом обычно понимается любая процедура, используемая для получения определенного результата. Метод в широком смысле включает не только предписания или правила определенной деятельности, но и те критерии и идеалы, которыми она руководствуется, образцы удачного применения метода, требования к тому, кто пользуется данным методом, и т. д.
Под научной методологией, как правило, понимается систематический анализ тех рациональных принципов и процессов, которые должны направлять научное исследование. Методология занимается не только наукой в целом, но и отдельными проблемами и их группами в рамках изучения процесса научного познания.
В XIX в. методологию науки нередко рассматривали как ветвь логики или как своего рода прикладную логику: методология, как тогда казалось, изучает приложение логических принципов и операций в сфере научного познания. Сложилась даже так называемая расширенная логика, сторонники которой резко сдвинули центр тяжести логических исследований с изучения правильных способов рассуждения на разработку проблем теории познания, причинности, индукции и т. п. В логику были введены темы, интересные и важные сами по себе, но не имеющие к ней прямого отношения. Собственно логическая проблематика отошла на задний план. Вытеснившие ее методологические проблемы трактовались, как правило, упрощенно, без учета динамики научного познания. С развитием современной (математической или символической) логики это направление в логике, путающее ее с поверхностно понятой методологией, постепенно захирело.
Методология науки не является прикладной логикой. Как станет ясно из дальнейшего, то содержание методологии, которое тем или иным образом связано с проблематикой логики, незначительно (дедуктивное обоснование, фальсификация, индуктивные приемы обоснования и т. п.). Это не означает, конечно, что идеи и аппарат логики не смогут использоваться при исследовании отдельных конкретных проблем методологии.
Методологические исследования можно разделить на общие, частные и конкретные. Общая методология занимается проблемами обоснования научного знания, независимо от того, в какой из конкретных научных дисциплин оно получено, проблемой роли опыта в научном познании реальности, различиями между науками о природе и науками о культуре, структурами таких универсальных операций научного мышления, как объяснение и понимание, проблемой единства научного познания и др.
Частная методология исследует методологические проблемы отдельных наук или их узких групп. Можно, например, говорить о методологии физики, о методологии биологии, о методологии наук исторического ряда. И в физике, и в биологии применяется операция объяснения. Вместе с тем многие биологические объяснения используют понятие цели, которое теряет смысл применительно к физическим объектам. Что представляет собой целевое, или телеологическое, биологическое объяснение, и почему оно может использоваться только в биологических науках, но не в физике, космологии или химии? Можно ли заменить телеологическое объяснение обычным для других естественных наук объяснением через научный закон? Эти и подобные им вопросы относятся к частной методологии биологических наук.
В социальных и гуманитарных науках сравнительно хорошо разработаны частные методологии социологии, экономической науки, психологии, наук исторического ряда и др. Особенностью всякой частной методологии является то, что она, будучи интересной для какой-то отдельной науки или узкой группы наук, почти не представляет интереса для других наук.
Объекты исследования социальных и гуманитарных наук находятся в процессе постоянного изменения, и каждый из них не может быть вполне понят в отвлечении от его истории. Основываясь на этом обстоятельстве, иногда говорят, что история является в некотором смысле «общей наукой», поскольку к ней вынуждены обращаться все другие науки о культуре. И вместе с тем своеобразная методология исторического исследования вряд ли может вызвать интерес у лингвиста, психолога или экономиста.
Конкретная методология, называемая иногда методикой, занимается методологическими аспектами, связанными с отдельными исследовательскими операциями в рамках конкретных научных дисциплин. К сфере этой методологии, меняющейся от науки к науке, относятся, например, методика проведения физического эксперимента, методика эксперимента в биологии, методика опроса в социологии, методика анализа источников в истории и т. п.
§ 2. Понятие научного метода
Научный метод представляет собой систему категорий, ценностей, регулятивных принципов, способов обоснования, образцов, которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество. Научный метод предполагает:
• достаточно устойчивую и ясную систему категорий, служащих координатами научного мышления;
• определенную систему тех идеалов, на которые ориентируются в своей деятельности ученые;
• систему норм научного познания, требующих обоснованности научного знания, его логической последовательности и т. д.;
• специфический отбор способов обоснования полученного знания;
• ряд общих регулятивных принципов, соответствие которым желательно, но не обязательно;
• особые, специфические для каждой научной дисциплины правила адекватности;
• особые принципы упорядочения, или иерархизации, многообразных истолкований истины, типов научных теорий, применяемых в науке приемов обоснования, видов научного объяснения;
• использование определенных философских представлений о мире, позволяющих прояснить философские основания науки и использовать метафизику в анализе роста и развития научного знания;
• определенные образцы успешной исследовательской деятельности в конкретной области.
В числе научных категорий – бытие (существование), становление, время, пространство, изменение, причинность, детерминизм, рациональность, ценность, истина, убеждение, знание и т. д.
Среди ценностей, направляющих научную деятельность, первостепенную роль играет реализм – убеждение в реальном (чаще всего материальном) существовании исследуемых объектов, в том, что они независимы от ученого, не являются его конструкцией, иллюзией, фантазией и остаются в силу этого одинаковыми для всех исследователей. Иногда вместо термина «реализм» используется термин «объективность»: «Краеугольным камнем научного метода является постулат о том, что природа объективна» (Ж. Моно). Однако, как отмечает К. Лоренц, в «постулате объективности» содержатся на самом деле два разных постулата, один из которых относится к объекту научного поиска, а другой имеет в виду самого ученого. Прежде всего, очевидно, следует допустить материальное существование самого объекта исследования, если исследование рассчитывает иметь какой-нибудь смысл. В то же время объективность предполагает определенные, лежащие на ученом обязанности, требующие непредвзятого анализа исследуемого объекта. Эти обязанности нелегко поддаются явному определению.
Другой основополагающей научной ценностью является эмпиризм – уверенность в том, что только наблюдения и эксперименты играют решающую роль в признании или отбрасывании научных положений, включая законы и теории. В соответствии с требованием эмпиризма аргументация, не являющаяся эмпирической, может иметь только вспомогательное значение и никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории. В методологическом плане эмпиризм гласит, что различные правила научного метода не могут допускать «диктаторской стратегии»: они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами; природа должна быть способна хотя бы иногда наносить нам поражения.
К ценностям, предполагаемым научным методом, относятся далее:
– теоретичность – стремление придать итогам исследования особую систематическую форму, а именно форму теории, способной обеспечить объяснение (предсказание) и понимание исследуемых явлений;
– истинность – соответствие научных идей и теорий описываемым ими фрагментам реальности;
– объективность – требование избавляться от индивидуальных и групповых пристрастий, непредвзято и без предрассудков вникать в содержание исследования, представлять изучаемые объекты так, как они существуют сами по себе, независимо от субъекта, или «наблюдателя», всегда исходящего из определенной «точки зрения»;
– совместимость – убеждение, что новое знание должно в целом соответствовать имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям или, если такого соответствия нет, объяснять, в чем состоит ошибочность ранее принятых представлений;
– адекватность – требование давать соответствующую исследуемому фрагменту реальности картину изучаемых объектов, т. е. такую их картину, которая способна обеспечить объяснение, предсказание и понимание этих объектов;
– критичность – готовность подвергнуть полученные выводы критике и проверке в надежде найти ошибки, чему-то научиться на этих ошибках и, если повезет, построить более совершенную теорию;
– открытость – возможность свободного обмена информацией в рамках научного сообщества;
– воспроизводимость – повторяемость проведенных другими исследователями наблюдений и экспериментов, причем с теми же результатами, что и полученные ранее.
Множество основных ценностей, которыми руководствуется ученый, не имеет отчетливой границы, и данный их перечень не является исчерпывающим. В дальнейшем все ценности науки делятся на идеалы науки и нормы науки. Нет оснований сводить эти ценности к какой-то одной или немногим из указанных, например, к критичности, как это делает, например, К. Поппер, полагающий, что критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, или опровержимость.
Соответствие указанным ценностям гуманитарных и подобных им наук носит иной характер, чем соответствие этим же ценностям естественных наук, подобных физике или химии, и социальных наук. Это касается в первую очередь требований эмпиризма, теоретичности, объективности, критичности, адекватности. Данные требования гораздо труднее реализовать в науках первого типа, чем в науках второго типа. В частности, та степень теоретичности и объективности, которая является обычной в естественных и социальных науках, использующих временной ряд без «настоящего» и оценочный ряд без «хорошо», никогда не достигается в гуманитарных и подобных им науках, опирающихся на временной ряд с «настоящим» и предполагающих (явные или неявные) абсолютные оценки.
Допускаемые научным методом способы обоснования образуют определенную иерархию, вершиной которой является эмпирическая аргументация. Далее следует теоретическая аргументация: дедуктивная и системная аргументация, методологическая аргументация и др. Что касается контекстуальной аргументации (ссылки на традицию, авторитеты, интуицию, веру, здравый смысл, вкус и т. п.), она считается менее убедительным, а иногда и просто сомнительным способом научного обоснования. И вместе с тем без контекстуальных, зависящих от аудитории аргументов не способны обходиться ни гуманитарные, ни нормативные науки, поскольку «все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков – а не только понятого на разумных основаниях – над нашими поступками и делами» (Х. Г. Гадамер).
Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщения. Но из этого не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются.
Научный метод предполагает, что новое научное положение должно находиться в согласии не только с эмпирическими данными и хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными регулятивными принципами, складывающимися в практике научных исследований. Эти принципы разнородны, обладают разной степенью общности и конкретности. Наиболее известными из них являются принцип простоты (требование объяснения изучаемых явлений при минимальном числе независимых и как можно более простых допущений); принципы привычности или консерватизма (рекомендация избегать неоправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов); принцип универсальности (пожелание проверять выдвинутое положение на приложимость его к классу явлений, более широкому, чем тот, на основе которого оно было первоначально сформулировано); принцип красоты (требование, чтобы хорошая теория отличалась особым эстетическим впечатлением, элегантностью, ясностью, стройностью и даже романтичностью).
В каждой области знания есть свои правила (стандарты) адекватности. Они являются не только контекстуальными, но и имеют во многом конвенциональный характер. Эти стандарты, принимаемые научным сообществом, касаются общей природы объектов, которые должны быть исследованы и объяснены, той количественной точности, с которой это должно быть сделано, строгости рассуждений, широты данных и т. п.
Научный метод не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследования. Даже самые очевидные из его правил могут истолковываться по-разному и имеют многочисленные исключения. Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным их содержанием является не кодифицируемое, вырабатываемое в самой практике исследования, мастерство – умение проводить конкретное исследование и делать вытекающие из него обобщения. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил так же невозможно, как кодифицировать мастерство художника или мастерство политика.
Тема философских оснований науки, хорошо разработанная в отечественной философии науки, отдельно рассматриваться не будет. Можно лишь отметить, что именно философские идеи нередко являются тем источником, из которого вырастают фундаментальные научные теории, и эти идеи часто стимулируют научный поиск и указывают путь к новым научным открытиям. «…Ошибочно проводить демаркационную границу между наукой и метафизикой так, – пишет К. Поппер, – чтобы исключить метафизику как бессмысленную из осмысленного языка»[8 - Popper K. Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. N.-Y., 1968. P. 257.].
И. Лакатос включает философские принципы в состав ядра научных исследовательских программ и относит их к эвристике, заложенной в каждом таком ядре. Вся наука предстает, таким образом, как огромная исследовательская программа, опирающаяся на «метафизические принципы»[9 - Lakatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes // Criticism and the Grouth of Knowledge. Cambridge, 1970. P. 125–127.]. М. Вартофский, последовательно выступавший против неопозитивистской философии науки, отмечает, что метафизические термины обладают такой же ценностью, как и научно-теоретические термины, и любая попытка разделения философии и науки не приводит к успеху. «У нас не может быть сомнения в том, что в истории науки «метафизические модели» играли важную роль при построении научных теорий и в научных спорах по поводу альтернативных теорий. Достаточно сослаться на понятия материи, движения, силы, поля, элементарной частицы и на концептуальные структуры атомизма, механицизма, прерывности и непрерывности, эволюции и скачка, целого и части, неизменности в изменении, пространства, времени, причинности, которые первоначально имели «метафизическую» природу и оказали громадное влияние на важнейшие построения науки и на ее теоретические понятия»[10 - Вартофский М. Эвристическая модель метафизики в науке // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 63.]. Борьба неопозитивизма против «дурной метафизики» закончилась, таким образом, возрождением старого убеждения, что философские идеи и принципы являются необходимой составной частью контекста научного поиска.
§ 3. Методологизм и антиметодологизм
Методологизм и антиметодологизм – две крайние позиции в истолковании значения методологии в развитии научных теорий. Методологизм считает следование научному методу решающим условием приемлемости научной теории и нередко отождествляет соответствие методу с соответствием теоретической конструкции реальности, т. е. с истиной, или, по меньшей мере, с объективностью. Антиметодологизм отрицает возможность использования методологических соображений при оценке теории и в крайних своих вариантах даже утверждает, что научного метода как такового не существует.
Методологизм начал складываться в XVII–XVIII вв. вместе с формированием науки в современном ее понимании. Он естественным образом вытекал из фундаментальных предпосылок мышления Нового времени и из его оппозиции средневековому мышлению, тяготевшему к умозрительным спекуляциям. Зарождающейся науке предстояло научиться вести систематическое наблюдение за природными явлениями, не искажаемое предвзятыми допущениями.