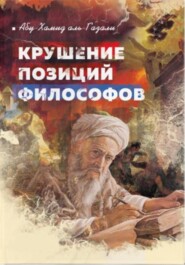скачать книгу бесплатно
[19] Если некто заявит: «Мы, исходя из логической необходимости, знаем, что невообразимо существование полноценной причины без неизбежного следствия. Допущение этого противоречит логической необходимости»,
[20] тогда нам следует возразить так: «Какие неопровержимые доводы вы используете в полемике с вашими оппонентами, если они скажут вам: “Неправы те, кто утверждает всезнание одной сущности, если в ней не присутствует множественность, если знание не является неотъемлемой ее частью, если множественность и разнообразие объекта познания не приводят к множественности и разнообразию ее знания”? Таково суждение вашей школы об Аллахе. Но, согласно нашим взглядам и нашим наукам, такое является абсолютно невероятным. Тут вы возражаете: “Между знанием предвечным и последующим (акцидентальным) нельзя проводить аналогий”.
Некоторые из вас поняли абсурдность данного утверждения, потому и предположили: “Аллах знает только Себя Самого. Он же является и Разумеющим, и Разумом, и Разумеваемым; по сути, все это – единое понятие”. Кто-то даже может сказать: “Категорически невозможно единство Разума, Разумеющего и Разумеваемого, так как абсолютно невозможно для Творца вселенной отсутствие знаний о сотворенном”. Вечный, будь Он Знающим только Себя Самого, – Аллах бесконечно превыше всех людских домыслов и догадок! – не знал бы тогда Свое творение вообще».
[21] Нам следует переступить через выводы, извлекаемые из рассуждений вокруг данного вопроса [об извечности мира], и ответить: «Какие контраргументы вы предъявите оппонентам, если те скажут: “Извечность мироздания невозможна, потому что это приводит к признанию того, что небесными сферами было проделано бесконечное количество оборотов, которые невозможно выразить ни суммарно, ни по отдельности, и это при том, что [один оборот все же исчислим], так как содержит в себе одну шестую, одну четвертую, половину…” И чем вы это опровергнете? Например, Солнце совершает круг по орбите за год, а Сатурн (Зухаль) делает оборот за тридцать лет. Таким образом, обороты Сатурна по орбите будут равняться трем десятым от общего количества оборотов Солнца. Число совершенных Юпитером (Муштари) оборотов по своей орбите составляют одну двенадцатую от общего числа оборотов Солнца, потому что он совершает полный круг за двенадцать лет. Подобно тому как бесконечны обороты Сатурна и обороты Солнца, несмотря на то что они составляют три десятых от суммарных оборотов [Сатурна], бесконечным является и количество оборотов Солнца, которые начинаются с востока и в результате которых происходит смена дня и ночи, и обращение звездной сферы, которая делает полный круг по орбите за 36000 лет, также бесконечно[22 - Здесь движение небесных тел рассматривается в свете геоцентрической модели мироздания. (Примеч. пер.)]. Если некто возразит: “Невозможность этого признается как логическая необходимость”, что вы сможете противопоставить этому доводу? Более того, если некто спросит: “Числа этих оборотов четны или нечетны? Или же четны и нечетны одновременно? Или они не являются ни четными, ни нечетными?” – тогда, если вы ответите так: “[Данные числа] четные и нечетные одновременно либо не являются ни четными, ни нечетными”, – ваш ответ будет очевидным абсурдом. Если же вы ответите: “Нечетные”, то следует напомнить, что нечет становится четом при добавлении или вычитании [лишь] единицы».
[22] Если же кто-то возразит: «Категории “чет” и “нечет” применяются по отношению к конечным величинам, а не к бесконечным»,
на это мы заявим: «Любое число есть сумма единиц, которые складываются в полудюжины и десятки, как было сказано ранее. Почему же к любому числу неприменимы понятия “чет” и “нечет”?! Даже без проведения анализа очевидно, что это абсурд. Что вы можете возразить на это?»
Если возразят: «Вы допустили ошибку, сказав, что “сумма состоит из единиц”, в реальности же данных оборотов не существует – прошлое уже истекло, а будущее еще не возникло, сумма же – это обозначение существующих на данный момент объектов мироздания»,
[23] то нам следует ответить: «Числа подразделяются на четные и нечетные, и вне этого деления не может существовать ни одно число, независимо от того, является ли исчисляемое постоянной или изменяющейся величиной. Например, предположив [существование] некоторого числа коней, мы вынуждены осознавать, что это число неизбежно будет либо четным, либо нечетным, независимо от того, реально ли существуют данные кони или только в нашей фантазии, и даже если они совсем исчезнут, суть утверждения не изменится».
[24] При этом мы говорим им: «Согласно вашим представлениям, существование реальных объектов мироздания вообще невозможно – вы мыслите их только как бесконечные единицы, отличающиеся друг от друга лишь описательно. К примеру, души людей, покинувшие тела после смерти, являются реальными объектами, к которым не применяются категории “чет” или “нечет”. Как же вы сможете опровергнуть претензию того, кто утверждает: “Несостоятельность этого утверждения признается [логической] необходимостью, аналогично тому, как вы заявляете о необходимой недопустимости зависимости предвечной воли от бытия, возникшего во времени”? Такую позицию в вопросе о душе занимал Ибн Сина; вероятно, она восходит к воззрениям Аристотеля».
[25] В случае возражения: «Верна лишь позиция Платона, согласно которой душа – предвечна и едина, в телах она разделяется, но после выхода из них возвращается в свое изначальное состояние и объединяется»,
мы ответим: «Это еще более омерзительно, отвратительно и еще более противоречит логической необходимости. Тогда получается, что душа [некоего] Зейда – та же самая, что и у Амра, и у прочих?! Если она одна и та же, значит, это суждение лживо по логической необходимости, ибо каждый осознает себя самого и знает, что не является другим. Будь они едины, то сравнялись бы в знаниях, которые являются индивидуальными свойствами душ, образующими душу наряду со всеми ее прочими составляющими».
Если же вы на это возразите: «Они (души Амра и Зейда) не одно и то же, просто, находясь в телах, они разделены»,
тогда мы заявим: «Разделение единого, не обладающего ни качественными, ни количественными величинами, характеризующими его, невозможно по логической необходимости. Как возможно такое, чтобы одно стало двумя и даже тысячью, а затем вновь вернулось в прежнее состояние, став единым? Это логично [лишь] в отношении обладающего величиной и количественными параметрами, – например, морская вода разделяется арыками и реками, а затем возвращается в море. Но как же может разделяться то, что не подлежит описанию количественными параметрами?»
[26] Суть всего этого в том, чтобы ясно продемонстрировать им, что им не удалось загнать в тупик своих оппонентов, доказав несостоятельность их убеждения в зависимости предвечной воли от вещей, произошедших в [определенный момент] времени. Они постоянно апеллируют к логической необходимости; мы желали показать и то, что они не могут спорить с теми, кто призывает их следовать логической необходимости в суждениях, противоречащих их убеждениям. Отсюда нет выхода.
[27] Если кто-либо возразит: «Это оборачивается против вас самих, когда вы утверждаете, что Аллах до сотворения мира обладал могуществом создавать за год или два; но ведь Его могуществу нет конца. Получается, что Он вроде бы терпел и не создавал, но потом создал. А период воздержания [от создания] конечен или бесконечен? Если вы ответите: “Конечен”, тогда бытие Творца оказывается лишенным начала. Если же вы ответите: “Бесконечен”, то признаете, что период, в котором для [творения] имелись бесчисленные возможности, уже завершился», –
[28] мы ответим: «Период[23 - В другой копии здесь вместо «период» (мудда) стоит «материя» (м?дда). (Прим. пер.)] и время расцениваются нами как сотворенные. Ответ на это возражение мы предъявим, когда речь пойдет о критике второго доказательства философов».
[29] Если же кто-то скажет: «Что вы можете противопоставить тем, кто отрицает необходимость и приводит в доказательство следующее положение: “По отношению к Божественной воле время протекает однообразно”? Чем же в таком случае обусловлен выбор момента времени [для сотворения бытия] между моментами “до” и “после”? Как при этом сотворение раньше или позже может не быть умышленным? Более того[24 - То есть: «Более того, мы переводим русло полемики от равенства времен к равенству объектов», ибо тут в действительности изучается специфика воли и определяется ее роль. (Прим. ред.)], это обстоятельство может быть применено и к белому и к черному, и к движению и к покою. Вы говорите: “Объект способен быть как белым, так и черным, и благодаря предвечной воле он стал белым”. Почему же предвечная воля оказалась связана с белизной, а не с чернотой? Что заставило волю избрать именно этот вариант? Ведь мы, исходя из необходимости, знаем, что одна вещь отличается от другой только в силу некоей особенности, присущей только ей. Если бы было возможно отличие без такой особенности[25 - То есть отличие какого-либо объекта от подобного ему, не имеющего отличительных специфических параметров. (Прим. ред.)], то стало бы возможным и возникновение мира без нее. Тогда вероятность бытия была бы равна вероятности небытия, а особенность одной из сторон бытия, вероятно, ничем не отличалась бы от одной из сторон небытия»,
мы ответим: «Если вы скажете: “Благодаря воле выявляется [бытие]”, тогда возникает вопрос о том, почему это случается. Если вы ответите: “В отношении вечного не спрашивают “почему?”, тогда мир следует считать предвечным, и все попытки объяснить действия Творца при сотворении мира, как и мотивы, побудившие Его сделать это, бессмысленны».
[30] Но если бы был возможен выбор Вечного из двух равновероятных возможностей (бытие и небытие мира), тогда вашему оппоненту следовало бы сказать так: «Мир, наделенный особенностями, мог бы существовать и с иными особенностями» – и обосновать [это] следующим: «Это произошло согласованно, подобно тому, как вы [сами же] сказали, что воля выбрала одно время, а не другое и одни особенности, а не другие».
Ну, а если вы заявите: «Этот вопрос не обязательно рассматривать, ибо он может быть обращен ко всему, чего хочет Творец, и упирается во все, что Он может»,
тогда мы ответим: «Нет! Этот вопрос уместен, потому что он упирается в каждое время и неразрывно привязан ко всякому, кто придерживается отличной от нашей позиции в любой из оценок».
[31] Мы скажем: «Мир возник тогда, когда возник, обладая такими параметрами, с которыми он возник, в том месте, где он возник, – все согласно Воле. Воля же – это свойство, для которого характерно выделение чего-либо [одного] из чего-либо сходного. Если бы не эта необходимость [выбора], было бы достаточно одного лишь могущества; однако когда могущество находится в равном отношении к противоположностям, обязательно должен существовать критерий, благодаря которому становится возможным предпочесть одну вещь из сходных. Отсюда делается вывод: Вечный – помимо могущества и сверх него – обладает качеством, благодаря которому Он избирательно выделяет вещь из сходных ей. Поэтому вопрос: “Почему воля предпочла одну из двух идентичных вещей?” – можно отклонить другим вопросом: “Почему знание приводит к познанию [объекта] именно таким, какой он есть?” На что последует ответ: “Потому что знание – это обозначение свойства, обладающего предназначением”. Аналогично, воля – это выделение свойства, обладающего предназначением. Собственно, ее сущность – предпочтение из идентичного».
[32] Если же некто возразит: «Наличие свойства, предназначение которого – в предпочтении чего-либо чему-либо идентичному, немыслимо, более того – исключено, так как “идентичное” означает, по сути, что оно неотличимо, а если оно отличимо, значит, не идентично. Не следует полагать, что два черных [пятна] в двух разных местах идентичны друг другу по всем параметрам, потому что первое в одном месте, а второе – в другом, [и уже это] неизбежно приводит к их различию. И в одном месте не могут существовать два черных [пятна], абсолютно идентичных друг другу, так как они должны были появиться в разное время. Как же они могут быть абсолютно идентичны? Говоря “два одинаковых черных пятна”, мы имели в виду, что “чернота” характеризует их по отдельности, но не вместе. В противном случае, если бы место и время объединились и уже не было бы возможности для изменения, тогда существование двух одинаковых черных пятен стало бы немыслимым, как и существование понятия “двойственность”. Это доказывает, что термин “Воля” рассматривается как нечто сходное с нашей волей. Однако невозможно представить себе, чтобы наша воля обладала способностью делать одинаковые вещи отличными друг от друга. Ведь если под рукой у жаждущего окажутся два стакана с водой, схожие по всем параметрам, то его цель [напиться] не позволит ему [просто] взять один из них, а возьмет он тот, что покажется ему красивее, легче [по весу] или ближе к его правой руке, если он правша, или же по иной причине, явной или скрытой. В противном случае невозможно предпочесть что-либо».
[33] На это возразим по двум позициям: «Первое: “Вашему заявлению “это невообразимо” вы даете определение как логической необходимости или теоретического предположения? Его невозможно рассмотреть ни как одно, ни как другое. Приведенная вами ссылка, опирающаяся на аналогичность [Божественной Воли] нашей человеческой воле, некорректна; она схожа с аналогией между Божественным знанием и человеческим, а ведь знание Аллаха абсолютно несравнимо с нашим по многим уровням. Почему же вы не исключили саму возможность сходства Божественной Воли и человеческой? Ведь о Нем говорится: “Сущность пребывает не снаружи мира и не внутри его, не связана с миром и не отделена”. Для нас ведь это немыслимо! А кто-то говорит: “Потому что ты в плену своего воображения. Ведь логическое доказательство всегда вело всех разумных к подтверждению этого утверждения”. Тогда по какому праву вы отвергаете тот факт, что именно логическое доказательство привело к закреплению за Всевышним Аллахом свойства, предназначение которого заключается в выделении чего-либо из идентичного? Если термин “воля” не адекватен данному свойству, нареките оное иначе! Но истинность настоящих имен Всевышнего неоспорима, так как мы заимствуем их из Шариата. Да, конечно, значение слова “воля” состоит в “определении цели вещей”, тогда как понятие “цель” неприменимо в описании сущности Аллаха. Кроме того, здесь подразумевается не словарное значение, а смысловое.
[34] Вместе с тем мы вынуждены принять невозможность этого [выбора из идентичного] в отношении нас. Правомерно привести следующее сравнение: предположим, два одинаковых финика предложены человеку, который вправе взять только один, и он неизбежно возьмет один из них, потому что сработает способность выбора из идентичного. И даже при отсутствии упомянутых вами специфических преимуществ (таких как привлекательный вид финика, более близкое расположение, удобство его взятия и т. п.) это не лишит его возможности взять лишь один из них. Тем самым вы окажетесь перед вынужденным выбором между двумя позициями. Либо вам следует настаивать на том, что абсолютное равенство невообразимо исключительно применительно к Его целям, – но это глупо, хотя и допустимо; либо – в случае допущения абсолютной идентичности – этот человек будет глазеть на два финика бесконечно долго, будучи не в силах остановить свой выбор на одном из них, следуя лишь одной воле и выбору, не зависящему от цели. Подобное также невозможно, и ложность этого предположения показывается логической необходимостью. Отсюда следует, что каждому выбирающему – как реальному, так и предполагаемому – неизбежно присуще свойство, предназначение которого заключается в выделении из идентичного.
[35] Второе возражение. Мы утверждаем: “Ваше учение неизбежно нуждается в выделении чего-либо из ряда идентичного. Ведь мир возник благодаря первопричине и неотвратимо повлиявшему на него фактору, и он обладает особыми формами, идентичными их противоположностям. Почему же были избраны лишь некоторые из сторон данных форм? Ведь невозможность предпочтения идентичного, будь оно реализуемо действием или последствием, естественно или вынужденно, все равно остается одинаковой”».
[36] Если вы возразите: «Универсальный порядок мироздания возможен только в таком виде, в каком он возник и существует. Например, если бы мир был чуть больше или чуть меньше нынешних размеров, данный порядок просто не смог бы установиться. То же справедливо в отношении и количества [небесных] сфер, и количества звезд. Вы утверждали, что понятия “большое” и “малое”, “множественное” и “малочисленное” не подобны, более того – противопоставлены, да вот только сил у человека для полного познания всех сторон Божьей мудрости в ее объемах и частностях не хватает. Нашей силы достаточно для познания лишь некоторых сторон Его мудрости, к примеру, мудрости заложенной в отклонении сферы созвездий от дневного показателя, мудрости и в апогее, и в выходящей за центр сфере. Постичь же Божий умысел в большинстве случаев вне наших возможностей. Все, что нам известно – это что она присутствует во всем и по-разному. Необходимо, чтобы что-либо отличалось от противоположного ему для сохранения порядка в системе мироздания. Времена же абсолютно идентичны по отношению к возможности (возникновения бытия) и к данной системе. Невозможно заявить: “Если бы Он создал после момента создания или же за мгновение до того, тогда система мироздания оказалась бы совершенно иной”. Абсолютная идентичность Его состояний диктуется логической необходимостью»,
[37] то мы ответим так: «Несмотря на то что мы в состоянии ответить вам тем же, прибегнув к аргументам типа “Он приступил к созиданию в самое пригодное для созидания время”, все же мы не ограничиваемся данным ответом на ваши вопросы, но по вашему же примеру обратимся к рассмотрению двух тезисов, в отношении которых разногласия немыслимы. Первый касается разницы в движении сфер, а второй – определения [Творцом] осей каждой сферы [т. е. полюсов].
[38] Полюса [философы описывали следующим образом]: небеса – это сферическое тело, которое движется относительно двух фиксированных полюсов. Строение небесных сфер простое, и они похожи друг на друга; наивысшая же, девятая сфера не является сочлененной[26 - В другой копии вместо «сочлененной» (мураккяб) стоит «наделенной собственной звездой» (мукяукяб). (Прим. пер.)] и движется вокруг двух полюсов – Северного и Южного. В этом случае мы говорим: “Они полагают, что каждые две противолежащие точки из бесконечного множества точек [сферы] образуют два полюса. Почему же тогда в качестве постоянных полюсов определены именно северная и южная точки? Если две противоположные точки составляют полюса, то почему орбита Солнца (хаттуль-минтака) не проходит по тем двум точкам? Ибо если в размере и форме неба была заложена некая мудрость и все части неба равны, а все точки сходны друг с другом, то что в таком случае выделяет полюс среди других мест и что определяет их в качестве полюсов? На этот вопрос не существует ответа”».
[39] Кто-нибудь может предположить: «Вероятно, точка полюса отличается от прочих некими особыми параметрами постоянства. Судя по всему, она неразрывно связана со своей позицией, неким пространством, координатами или же с чем-то, нарекаемым иначе. Расположение прочих сфер по отношению к Земле и небесным объектам изменяется при вращении, полюс же остается неподвижным. Возможно, существующее место полюсов более предпочтительно именно для сохранения незыблемости».
[40] На это мы ответим: «Здесь содержится четкое и прямое заявление о различии частей первичной сферы, что противоречит естественности ее формы, а также о том, что все ее составляющие не схожи, а это противоречит вашей позиции, так как принцип, по которому вы построили доказательство сферичности неба, гласит, что она проста, самоидентична и в ней нет различия. Самой простой формой является шар, так как построение в форме куба, шестигранника или же иного тела неизбежно приводит к выступанию углов, а значит, к отличию между частями, поскольку такого состояния можно достигнуть только путем добавления чего-то к простому. В связи с этим, даже если это противоречит вашему учению, вам бы не следовало упорствовать [в отрицании], ибо вопрос об этих особенностях остается открытым. И неясно, отвечали ли изначально прочие части [сферы] этим особенностям? Если вы ответите: “Да”, то возникает вопрос: на основании чего были выделены [две] конкретные [точки полюсов] среди множества [точек на поверхности сферы]? Если же они ответят: “Эта особенность (способность быть полюсами) присуща только конкретным местам, а не всем точкам [сферы]”, тогда мы возразим: “Поскольку прочие части являются телами, форму которых можно представить, то по логической необходимости неизбежно должны быть одинаковыми. Точки полюсов выделены вовсе не потому, что находятся на небе или являются небесными телами, – таких много. Придание этой особенности этому месту должно было произойти в результате умышленного властного расчета [Творца], либо благодаря [Его] свойств у выделять одну вещь среди множества одинаковых. В противном случае, если вслед за философами можно говорить, что “состояния [Творца] с точки зрения их приемлемости для возникновения мира одинаковы”, то уместно и заявление их оппонентов о том, что все точки неба потенциально могли быть полюсами. Из этого положения нет выхода».
[41] Второй неотвратимый контраргумент заключается в следующем: движение небесных сфер заметно и невооруженным глазом: одни – с востока на запад, другие – в обратном направлении, и это несмотря на то, что все направления, по сути, равны между собой. В чем причина существующих направлений движения? Ведь равенство направлений подобно равенству времен.
[42] Предположим, что некто ответит: «Если бы все вращалось в одном направлении, тогда их расположение по отношению друг к другу перестало бы изменяться, и тогда уже не было бы астрологических соответствий, и не было бы трех- и шестизначных позиций, и звездных знамений, и всего прочего. Все небесные объекты занимали бы одну и ту же точку, и не происходило бы никаких изменений. А ведь данные событийные соответствия являются истоком событий в мире!»
[43] На это мы скажем: «Мы отнюдь не придерживаемся утверждения об отсутствии различия между направлениями движений, а просто говорим: “Высшая орбита движется с востока на запад, а та, что под ней, – в противоположную сторону, хотя возможно и наоборот – высшая орбита может двигаться с запада на восток, а та, что под ней, – в противоположном направлении. В результате возникает внутренняя неодинаковость. Направления движения, несмотря на то что они кругообразны и противонаправлены, равны. Почему же [Богом] было выделено одно направление, а не другое, хотя оно идентично первому?»
[44] Если они возразят: «Два направления противоположны, а движения противонаправлены. Разве можно называть их равными?» –
тогда мы ответим так: «Данное высказывание сходно со следующим: “Возникновение мира до определенного момента, как и его возникновение после, взаимно противоположны”. Как можно заявить, что они равны друг другу? Раньше они заявили о доказуемости сходства времен по отношению к возможности возникновения бытия и по отношению к любому иному принципу бытия; столь же “обоснованным” следует считать и тезис о равенстве объемов, позиций, мест и направлений по отношению к движению. Любой параметр бытия связан с ним. Если они будут рассматривать их как различные, несмотря на это сходство, тогда их оппоненты тоже заявят о различии состояний и специфических форм».
[45] Возражение. Оно исходит из вашего собственного доказательства. Вы исключили возможность возникновения акциденции от Вечного; но вам следует признать это, так как мир полон акциденций, рожденных первопричинами. Если же возникновение акциденций рассматривать как следствие цепочки предыдущих бесконечных следствий, тогда это абсурд. Подобная догма не может составлять вероубеждение разумного человека. Будь это возможным, у вас бы не возникло нужды признавать Творца и неотвратимо повлиявший на возникновение бытия фактор, который и становится исходным импульсом всех вероятностей. А так как у цепочки следствий есть начало, то, значит, данным началом и является Вечный. Таким образом, вы на основании ваших же позиций и принципов неизбежно должны допустить вероятность происхождения следствий от Вечного!»
[46] Если же они скажут: «Мы не исключаем вероятность следствий от Вечного, какими бы они ни были; мы только лишь исключаем возможность исхода от Вечного самого первого посыла, так как состояние [Творца] после такого посыла ничем не должно отличаться во времени, инструментарии, условии, природе, цели и каком-либо другом аспекте от предшествующего состояния.
Если же ни один из упомянутых факторов не был первой акциденцией, тогда резонно допустить, что от Него при возникновении могло произойти нечто иное, например, возникновение “встречной станции” (аль-махалль аль-мукабиль), наступление соответствующего времени и прочего подобного»,
[47] то мы ответим: «Вопросы о возникновении посыла, наступлении определенного времени, появлении нового состояния остаются [нерешенными], поэтому либо цепочка причин будет продолжаться до бесконечности, либо же [придется признать, что] первое следствие исходит от Вечного. Если же кто-то возразит, [что] ни одна из материй, способных обретать образ, трансформироваться в субъекты и характеризоваться различными параметрами, не является следствием (акциденцией). Акцидентальные параметры – это движение сферических слоев. Я имею в виду круговое движение и его периодически обновляющиеся описательные параметры, такие как построение их в трехзначные, четырехзначные и шестизначные фигуры, что является соотношением частей сфер и звезд между собой и соотношением некоторых из них с Землей. Кроме этого, регулярно происходят восходы, закаты, восхождения на собственные высшие небесные позиции, отдаления от Земли, восхождение звезд в апогей и перигей, периодическое приближение и удаление их от каких-то точек… Все это – результат кругового движения. Таким образом, неотвратимым фактором, повлиявшим на возникновение данных следствий, является круговое движение. Что же касается акциденций, протекающих в нижнем слое лунной сферы, то все это стихии, со всеми происходящими в них процессами построения и разложения, смешения и разделения, трансформации от одного параметра к другому. Все это следствия, последовательно влияющие друг на друга. Иначе говоря, происходящие процессы берут начало из небесного кругового циклического движения, взаимного расположения звезд между собой и по отношению к Земле.
[49] Из всего этого вытекает, что циклическое движение является причиной возникновения всех форм бытия. Небеса приводятся в круговое движение небесными душами. Истоком всех следствий, иными словами – движителем неба по кругам являются души, населяющие небеса. Они живы и обладают статусом, сходным со статусом наших душ по отношению к нашим телам. Однако небесные души – вечные. Поэтому несомненно, что круговое цикличное движение, вызываемое ими, тоже вечно, а поскольку состояния вечных душ одинаковы, таковыми же будут и состояния движения, – то есть они будут циклическими вечно.
[50] Тогда появление [возникшей позже] преходящей вещи (акциденции) из Вечного может мыслиться только посредством циклического движения. С точки зрения вечности и постоянства это движение идентично Вечному, но с точки зрения возникновения ранее не существовавших частей оно идентично возникшей потом вещи (акциденции). Данные движения, части и отношения, с одной стороны, являются первоосновой этих вещей, а с другой – появились от вечной Души. Если в мире происходят различные события и процессы, значит, обязательно должно существовать циклическое движение; а поскольку в мире действительно происходят события, значит, существование циклического движения признается реальностью».
[51] На все это мы отвечаем так: «Такие пространные рассуждения вам никак не помогут. По-вашему, круговое движение являющееся основой, возникло [в какой-то момент] или было всегда? Если оно безначально, то как оно могло стать первоосновой первой вещи? А если возникло само, то для этого должна быть своя причина, и так до бесконечности. Говоря, что, с одной стороны, оно сходно с Вечным, а с другой – идентично возникшим вещам, вы тем самым подтвердили, что считаете каждый его миг постоянно обновляющимся, то есть его обновление стабильно, а стабильность (бытие кругового движения) постоянно обновляется; тогда мы спросим, считаете ли вы его началом возникших вещей по причине его постоянства или обновления? Если из-за постоянства, тогда как могло нечто произойти от постоянного, характеризующегося схожими состояниями, в строго определенное время, а не когда-то иначе? Если же из-за того, что оно обновляется, тогда какова причина, изменяющая его самое? Ведь тогда у него возникает потребность в другой причине, и так до бесконечности. Это более чем неопровержимый контраргумент». [52] Для выхода из тупика, в который их загнал сей аргумент, они воспользовались лазейкой, о которой мы упомянем далее, дабы не затягивать здесь схоластические рассуждения вокруг данного вопроса, отвлекаясь на рассмотрение мелких вопросов калама. В частности, мы покажем, что круговое движение небесных тел не может являться причиной появления вещей, так как они все до единой являются изначально сотворенными Аллахом. Мы докажем лживость их утверждения о том, что небо является живым, движущимся по собственной свободной воле существом, и что это движение осуществляется душами, подобно тому как мы управляем своими телами.
Второе доказательство извечности мира
[53] Они заявили, что человек, утверждающий, будто мир возник после Аллаха, а Аллах предшествует ему, хочет сказать, что Он предшествует по сущности, а не по времени, допуская, что мир мог сосуществовать вместе с Ним, подобно предшествию причины следствию, подобно предшествию движения человека движению его тени, подобно предшествию движения руки движению перстня; подобно движению воды от движения руки. Эти движения одновременны, но одни из них – причина, а другие – следствие. Ведь именно так и говорится: «Тень двинулась из-за движения человека. Вода пришла в движение от движения руки», но не говорится, что человек пришел в движение из-за движения собственной тени или же рука зашевелилась из-за движения воды.
Итак, если под предшествием Творца миру подразумевалось именно это, тогда оба они неизбежно должны быть либо вечными, либо появившимися потом (акциденциями). Отсюда делается вывод, что не может быть такого, чтобы один из них был вечным, а другой – акциденцией.
[54] Если же под этим подразумевалось, что Творец предшествует миру и времени, но не по сути, а по времени, то в этом случае до возникновения мира и времени было [некое] время, когда мир был ничем, так как небытие предшествовало бытию, а Аллах предшествовал миру на протяжении долгого временного промежутка, который имеет начало, но не имеет конца. То есть перед временем было [другое] бесконечное время – но это противоречие! Именно по этой причине невозможно утверждать, что произошло возникновение времени. Если же извечность времени, являющегося, по сути, мерой движения, рассматривать как неизбежность, тогда придется признать и вечность движения, и тогда неизбежно признается вечность движителя, продолжающего время благодаря постоянству движения.
[55] На это мы возразим: «Время – это сотворенная акциденция, и до него не было никакого времени вообще. Суть нашего высказывания “Аллах предшествует миру и времени” в том, что Он был, а мира не было, после чего вместе с Ним [стал] мир. Фраза “Он был, а мира не было” означает, что существовала только сущность Творца и не было сущности мира; фраза “Вместе с Ним [стал] мир” означает существование двух сущностей и только. Под предшествием мы подразумеваем только Его существование, а мир можно сравнить с неким человеком; ведь если бы мы сказали, например: “Был Аллах, а Исы не было; затем Он был, и Иса вместе с Ним”, тогда из данного выражения следовало бы, что вначале была одна сущность и не было второй, а затем существовали обе [сущности]. Для адекватности данного заявления отнюдь не обязательно существование чего-либо треть его; а если воображение не ограничивается [этим] и предполагает нечто третье, чем является время, в этом случае на воображение не стоит обращать внимания».
[56] Нам могут возразить: «Ваша фраза “Был Аллах, а мира нет” имеет третье значение, помимо существования сущности и небытия мира. Это доказывается тем, что если предположить небытие (исчезновение) мира в будущем, тогда в итоге было бы существование сущности и небытие сущности. Заявить, что “Аллах был, а мира нет”, неправильно. Верным же будет сказать: “Пребывает Аллах, а мира нет”. О прошлом следует сказать: “Был Аллах, а мира нет”. Глаголы “был” и “пребывает” существенно различаются, так как не могут заменять друг друга при употреблении их в речи. Давайте рассмотрим, к чему приводит данное различие. Несомненно, оба не отстоят [далеко] друг от друга ни в бытии сущности, ни в небытии мира. Но эта разница есть в третьем извлекаемом из нее смысле. Так, если мы, говоря о небытии мира в будущем, скажем: “Был Всевышний Аллах, а мира нет”, то нам возразят: “Это ошибка, так как “был” используется для описания прошлого, что указывает на наличие в глаголе “был” третьего смысла, а именно прошлого. А прошлое, по сути, является временем. Прошлое в отношении прочего – это движение, проходящее параллельно прохождению времени. Отсюда неизбежно вытекает, что до мира должно было существовать время, которое завершилось при возникновении мира“».
[57] Тогда мы ответим: «В основе понимания обоих слов лежит понятие о бытии и небытии сущности. Третье же понятие, благодаря которому различаются первые два, нужно нам лишь для сравнения. Если мы предположим в будущем исчезновение мира, а после этого – его возрождение, то скажем: “Аллах был, а мир – нет”. И это утверждение будет верно, независимо от того, подразумевали ли мы первое небытие или же небытие второе, наступившее после бытия. Относительность данного суждения подтверждается тем, что даже само будущее становится прошлым, и тогда его можно будет выразить глаголом прошедшего времени. Все это проистекает от бессилия воображения перед пониманием происхождения начала. Оно способно представить себе начало (“от”) исключительно вкупе с “до”, а с этим “до” воображение не может поделать ничего. Нам кажется, что оно – нечто реальное и существующее и что, мол, этим “нечто” является время. Данное бессилие сродни бессилию вообразить предел физического мира над головой человека – мы способны представить себе лишь то, что над ней есть крыша, имеющая внешнюю поверхность, затем нам представляется, что над миром есть другое место, не заполненное и не пустое; если же кто-то скажет: “Выше крыши мира нет выси, и нет дали отдаленнее ее”, тогда воображение стушуется, будучи не в силах покорно подчиниться этому утверждению. А если кто-то скажет: “До возникновения мира нет “до”, существование которого имело бы место”, – воображение опять-таки трусливо убежит прочь и ни за что не примет этого.
[58] Аналогично допустимо расценивать как не отвечающее действительности и представление о том, что над миром есть бесконечная пустота. Можно сказать: “Слово “пустота” непонятно, а понятие “величина” применимо только к телам, имеющим размер. Поэтому если тело конечно, то и его величина тоже будет конечной”. И вновь воображение бессильно представить, что означают “пустота” и “заполненность”. Отсюда неизбежно следует, что за пределами мироздания нет ни пустоты, ни заполненности, даже если воображение и не может этого представить. Говорят: “Как связанная с пространством величина (т. е. размер) прилагаема к телу, так и связанная со временем величина прилагаема к движению. Как величина, связанная с пространством, выражает размеры тел, точно так же временная величина является показателем движения и обеспечивает непрерывность движения, подобно тому как физическое пространство обеспечивает продолжение границ тела. И как доказательство предельности расстояния между полюсами сферы бытия не допускает возможности существования иного физического пространства, так и доказательство конечности движения не позволяет допустить [возможность] существования иного временного пространства, даже если воображение не в силах представить этого. Нет различия между величиной времени, выражаемой параметрами “до” и “после”, и величиной пространства, выражаемой, соответственно, параметрами “верх” и “низ”. Если же допустить существование “верха”, над которым нет “верха”, тогда резонно допустить и существование “до”, до которого нет реального “до”. Это неизбежно, вдумайтесь сами! Ведь они (философы) сходятся в том, что за пределами мироздания нет ни пустоты, ни заполненности».
[59] Быть может, некто возразит: «Данное сопоставление некорректно, потому что у мира нет “верха” и “низа”, ибо он – шар, а у шара нет ни верха, ни низа. Предположим, одну сторону ты назовешь “верх”, потому что она находится у тебя над головой, а другую – “низ”, ввиду ее расположения под твоими ногами; но эти ориентиры будут постоянно меняться в зависимости от твоего движения, и действительны они только применительно к твоему месторасположению. То, что ты называешь “низом”, для другого человека будет “верхом”, если представить его стоящим на противоположной стороне Земли против твоих ступней. Более того, та сторона, которую ты воспринимаешь верхом небосвода днем, на обратной стороне Земли становится ночью. Все, что “внизу” Земли, станет “верхом” благодаря вращению, однако невозможно представить, чтобы перешли друг в друга пространство и время. Предположим, есть бревно, у которого один конец толстый, а другой – тонкий, и если мы назовем всю тонкую половину вплоть до конца “верхом”, а другую половину – “низом”, то здесь не возникнет никакой путаницы в отношении составляющих мира; это просто названия, представленные на примере бревна. Если бревно перевернуть, изменятся и [понятия “верх” и “низ”], но само бревно останется неизменным. “Верх” и “низ” – относительные понятия, адекватные только для одного тебя, а основы мироздания остаются неизменными, как бы ты их ни называл.
[60] Что касается изначального небытия мира и последующего его появления, то это небытие является его неотъемлемой составляющей, поэтому невозможно представить, что оно может измениться и стать другим, как невозможно представить, что предполагаемое после окончания мироздания небытие, являющееся последующим небытием, может стать предыдущим небытием. Оба предела бытия мироздания – первый и второй – это два автономных стабильных предела, и невозможно вообразить, что они могут занять место друг друга из-за смены точки зрения, подобно тому как взаимозаменяемы “низ” и “верх”. Таким образом, философы [якобы] имеют право сказать, что у мироздания нет верха и низа, а каламисты [якобы] не имеют права сказать, что у бытия мира нет периода “до” и “после”. Если же существование “до” и “после” будет доказано, тогда у [понятия] времени нет смысла, помимо случаев применения его [в житейских ситуациях]».
[61] На это мы отвечаем: «[Для мироздания] нет никакой разницы между “верхом” и “низом”, и поэтому нет понятий, определяющих их. Нам пристало, оставив их, перейти к использованию терминов “внутренность” и “наружность” и говорить так: “У мира есть внутренность и наружность”. Так будет ли снаружи мира хоть какая-то “пустота и заполненность”? Разумеется, философы ответят: “За пределами мироздания нет ни пустоты, ни заполненного пространства. Если под “наружностью” вы (каламисты) подразумевали его внешнюю поверхность, тогда у него есть наружность. Если же под этим словом вы имели в виду нечто иное, тогда у него нет “наружности”. Аналогично этому, если кто-то спросит: “Имеет ли бытие мира период “до”?” – мы ответим: “Если имеется в виду вопрос “имеет ли бытие мира начало?” – то, признавая последующее существование мира, [говорим: ] у него есть период “до”. Если же под словом “до” вы подразумевали нечто иное, тогда у мироздания нет периода “до”, так же как мы пришли к мнению, что у мира нет “наружности”. Если же вы скажете, что немыслимо возникновение бытия без периода “до”, на это последует такой ответ: “Немыслим конец бытия тела, у которого нет наружности (т. е предела)”. А если вы скажете, что его “наружность” – это не что иное, как оболочка, ограничивающая мироздание, тогда и мы скажем: “Его период “до” – это не что иное, как начало его бытия, а именно его начальный предел”».
[62] Нам остается сказать: «Есть Аллах, и нет со-вечного с Ним мира”. Данная фраза не утверждает ничего иного. То, что необходимость бытия другой вещи – лишь игра воображения, доказывается тем, что оно (бытие) связано с порожденными воображением понятиями времени и пространства. Даже если философ убежден в извечности тела, его воображение соглашается с предположением, что данное тело должно было возникнуть. В свою очередь, когда мы (каламисты) настаиваем на акцидентальности (сотворенности) тела, наше воображение все же склонно допустить вероятность его извечности. Но если мы обратимся ко времени, наш оппонент (философ) уже не сможет допустить сотворенность времени, не имеющего периода “до”. В отличие от веры, сила воображения может представить это как допустимое и вероятное; однако, как и в случае с пространством, представить себе это[27 - Указание на конфликт между философами по вопросу времени. (Прим. пер.)] воображение не в состоянии. Каждый из тех, кто верит в конечность вещей, не способен понять вещь, вне которой существуют пустота и полнота, и все же его рассудок вынужден допустить вероятность этого.
Но, несмотря на это, звучит заявление: “Если ясный разум не исключает бытия конечной вещи на основании доказательства, в этом случае на воображение не нужно обращать внимание”. Аналогично этому разум не исключает существование первого бытия (предбытия), до которого не было ничего, и если воображение не может этого представить, значит, на него тем более не следует обращать внимание. В связи с тем, что воображение, являющееся пленником привычек, приучилось к тому обстоятельству, что один объект всегда окружен либо другим объектом, либо воздухом, принимаемым за пустоту, оно не может постичь метафизические категории. Точно так же воображение способно воспринять сотворенное бытие только как последующее после предыдущего бытия; поэтому оно не может считать существующей преходящую сотворенную вещь, которой не предшествовало “до”. Это и есть причина их заблуждения. Этой дискуссией дается ответ [философам).
[Второй аргумент [философов] об извечности времени]
[63] Они заявили: «Несомненно, Аллах, как следует из ваших представлений о Нем, был способен сотворить мир раньше момента его сотворения на год, на сто лет, на тысячелетие, на бесконечное количество лет. Эти предполагаемые периоды отличаются друг от друга величиной. В таком случае необходимо признать существование до возникновения мира какой-то вещи, одна часть которой может быть длиннее другой.
Вероятно, вы (каламисты) скажете: “Применение понятия “год” справедливо только после возникновения сферы и ее вращения”. Поэтому мы откажемся от термина “год” и сформулируем тезис иначе: “Предположим, что за время от начала возникновения и до сего дня мировая сфера совершила, к примеру, 1000 оборотов. Тогда был ли Аллах способен создать прежде второй такой же мир, который совершил бы 1100 оборотов?” Если вы ответите: “Нет!”– то фактически это будет означать, что Всемогущий внезапно обрел могущество после немощности, а мир перешел из возможности в невозможность. Если же вы скажете: “Да”, как вам и надлежит ответить, мог ли Он тогда сотворить третий мир с таким расчетом, чтобы тот завершился до нашего времени за 2200 оборотов? Ничего другого, как только сказать: “Да”, вам не остается. Здесь мы (философы) говорим: “А было ли возможно создание сего мира, который мы определили как третий, – даже в случае, если он был ранее, – вместе с миром, который мы назвали вторым и который завершается до возникновения нашего мира за 1100 оборотов, а предыдущий – за 2200 [оборотов], так, чтобы размеры их сфер и скорость их вращения были одинаковыми? Если вы ответите: “Да”, это будет неверно, так как полного совпадения параметров движения двух столь разных объектов быть не может, вследствие чего невозможно их завершение по истечении одинакового периода, и это при том, что параметры обоих миров были неизбежно различны. Если же вы скажете: “Третий мир, существование которого завершается до возникновения нашего за 2200 оборотов, не может быть сотворен вместе со вторым миром, прекратившим существование за 1100 оборотов до нашего: [Бог] должен был создать один [мир] раньше другого на количество [оборотов], равное количеству, на которое второй мир предшествует первому. Первым же мы считаем мир, который ближе прочих к нашему воображению, в случае, если мы двигаемся от нашего времени в рамках предложенного расчета[28 - Здесь имеется в виду, что опережение третьим миром первого в 2 раза превосходит опережение второго мира по отношению к первому. Можно допустить и существование четвертого мира, опережение которого по отношению к первому миру будет двукратно превосходить опережение третьего мира по отношению к первому. (Прим. пер.)]. В результате предположенная вероятность существования одного [мира] становится кратной вероятности бытия другого мира. В свою очередь, последняя должна в 2 раза превосходить вероятность возникновения всех [предыдущих миров]. Данная вероятность, измеряемая количественно, одна часть которой протяженнее другой на конкретную величину, по своей сути есть не что иное, как время.
[64] Все эти величины не являются ни описанием сущности Творца, Который превосходит все количественные оценки, ни атрибутом небытия мира. Небытие – это вообще ничто, и оценивать его в количественных параметрах нелепо; количество же – это описание того, что обладает мерой, а это только движение. Количество – это исключительно время, являющееся мерой движения. Таким образом, по вашему (каламистов) мнению следует, что до мира было нечто, обладающее варьирующимися количествами, чем является именно время. То есть, по-вашему, до мира было время”,
[65] то мы возразим на это: «Все это является следствием влияния воображения. Чтобы выйти из-под власти данного наваждения, эффективнее всего прибегнуть к встречному противопоставлению времени месту. Поэтому мы спрашиваем: “Было ли Аллаху по силам создать сферу на локоть больше, чем ее современный диаметр?” Если они ответят: “Нет”, тогда это следует рассматривать как обвинение в немощности, а если скажут: “Да”, может, тогда Он мог создать ее больше и на два локтя? А на три, и четыре, и так до бесконечности? Тут мы скажем им: “Здесь содержится признание существования за пределами мира дали, которая имеет размер и количество, так как большее на два или три локтя не займет места большего, чем место, занимаемое большим на локоть. Тогда за пределами мира существует количество, что означает существование обладателя данного количества, а именно наличие тела или пустоты. Итак, за границами мироздания пустота или заполненное пространство? Каким будет ваш ответ? Аналогично, был ли Аллах в состоянии создать сферу мироздания меньше, чем Он создал ее, на локоть или два? И есть ли между двумя предполагаемыми объемами разница по занимаемому пространству и объему? Заполненного пространства становится меньше при уменьшении диаметра на два локтя, чем при уменьшении диаметра на один локоть. В результате пустота становится больше объемом. Но ведь пустота – это ничто, поэтому как может она выражаться объемными показателями?! Наш вывод после обращения к воображению за оценкой временных возможностей до возникновения мира соответствует вашему выводу после обращения к воображению за оценкой пространственных возможностей за пределами бытия мира. Разницы между двумя нет”».
[66] Если же некто скажет: «Мы не говорим, что не являющееся возможным есть гипотетически допустимое. Существование мира в большем или меньшем по сравнению с его настоящим размером объеме не является возможным, а значит, изначально не допускается гипотетически»,
[67] то это оправдание недействительно по трем позициям. Во-первых, данное заявление противоречит доводам разума, ибо представить мир больше или меньше хотя бы на 1 зира гораздо проще, чем вообразить единство черного и белого цвета, единство бытия и небытия. Невозможным является само совмещение отрицания и утверждения, и именно отсюда и берут начало все невозможности, потому это заведомо ложная и несостоятельная посылка.
[68] Во-вторых, если мир, обладая настоящими размерами, не может стать больше или меньше, потому что его бытие необходимо именно в существующих размерах, то необходимость не зависит от первопричины. Тогда уж, подобно материалистам (дахритам), отрицающим Аллаха и причину всех причин, вы придете к утверждению, что Творца вовсе нет. Но в данном случае это будет уже не ваше мировоззрение.
[69] В-третьих, данное утверждение не может поставить оппонентов в тупик – они просто ответят на него идентичным контраргументом. Поэтому-то мы и заявляем: «Возникновение мироздания до того момента, когда оно обрело бытие, невозможно. Его возникновение абсолютно точно совпало с возможностью его возникновения, и не случилось ни раньше, ни позже данной возможности». Если же вы (философы) скажете, что тогда выходит, будто Вечный перешел из состояния немощности в состояние могущества, мы ответим: «Нет», потому что бытие не могло быть способным на применение силы; то есть: если нет чего-то невозможного для существования, то это не является показателем слабости и отсутствия могущества. Если на это вы возразите: «Как это [бытие] было невозможным, а затем вдруг стало возможным?» – тогда мы ответим: «А почему вы считаете невозможной недопустимость его возникновения в одном состоянии и допустимость – в другом состоянии? Аналогично, если нечто связано с одной противоположностью, тогда невозможно охарактеризовать его другой противоположностью». Если вы возразите: «Состояния равны», то мы ответим: «Тогда и параметры равны! Как может тогда один параметр быть возможным, а другой, чуть меньший или больший предыдущего, хотя бы на ноготок, уже невероятным? Если уж первый не является невероятным, значит, и второй нельзя считать невероятным». Это принцип, на котором следует выстраивать диспут с ними на данную тему.