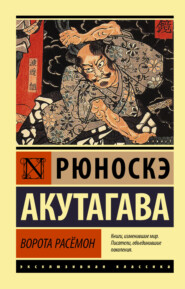скачать книгу бесплатно
– Да… Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого что очень тепло, страшно хочется спать.
Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил Томимо?ри Скээмо?н после трёх чарок новогоднего вина:
Весна сегодня,
И даже самураю
Соснуть не стыдно.
И эти строки дышали такой же удовлетворённостью, какую он сейчас чувствовал.
– Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.
– Да, пожалуй.
Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.
– Мы ведь никак не думали, что сможем ещё проводить такие мирные дни.
– Да, мне и во сне не снилось, что я встречу ещё один Новый год.
– У меня всё время такое чувство, будто мы – настоящие счастливцы.
Оба с довольной улыбкой переглянулись.
Если бы в этот миг на сёдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул сёдзи, и вместо неё в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щёк, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.
– Там, внизу, кажется, было весело?
С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.
– Сегодня дежурный – Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.
– Ну и правильно! Он всё боялся опоздать.
Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, всё время что-то писавший, поднял голову, как будто о чём-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.
– Ну и что же? Было что-нибудь интересное?
– Нет, как всегда – одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.
– Кто бы мог подумать!
Тюдзаэмон недоумённо посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завёл этот разговор.
– Нам рассказали о двух-трёх таких случаях. Один очень забавный – тот, что произошёл на улице Минатомати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Всё вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»
Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.
– Но это же настоящее буйство!
– Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и ещё где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?
Тодзаэмон и Тюдзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвёл на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только Кураноскэ, приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворённости. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершённого ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.
По правде говоря, он был несколько удивлён тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворённости, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворённости было приятным для него, приятным настолько, что – при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой – оно как-то утверждало и самый его поступок, и всё то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.
Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона – вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всём, сказал Тюдзаэмону что-то вроде – «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.
– Спасибо, что потрудились зайти к нам, – улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.
Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ним и его подопечными установились тёплые отношения, словно у старых друзей.
– Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашёл. Вот я и пришёл, хоть и помешал вам.
Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвёл взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», вежливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Кихэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.
– Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.
Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди всё ещё разлито было прежнее тёплое чувство удовлетворения.
– Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.
– Как я сейчас услышал, там у вас рассказывали о чём-то очень интересном, – вмешался Тюдзаэмон.
– О чём-то интересном? То есть?
– О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно… – сказал Тодзаэмон и с улыбкой взглянул на Дэнъэмона и Кураноскэ.
– Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Ещё неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.
Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.
– За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдаётся мне, что нам прежде всего должно быть стыдно. – Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: – «Почему?» – спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на полдороге он изменил своё решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Си?ндо Гэ?нсиро Кавамура Дэмбэ?й, Комура Гэнюэмо?н. По положению они выше Xаpa Соэмона. И ещё Саса?ки Кодзаэмо?н – он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если всё это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.
При этих словах Кураноскэ вся атмосфера – атмосфера весёлости, царившая в комнате, – исчезла, и сразу её место заступила серьёзность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.
Услышав эти слова, Тодзаэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:
– Вся эта компания – не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.
– Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он ещё хуже скота.
Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:
– Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, – явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»
– Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Ояма?да Сёдзаэмо?н, тот действительно хорош, – сказал, ни к кому особо не обращаясь, Ма?са Кюдайю?, и тут принялись в один голос бранить отступников и Ха?ра Соэмо?н и Оно?дэра Дзюна?й. Даже молчаливый Хадзама Кихэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал своё согласие со всеми.
– Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики – и те их ругают: собаки, дармоеды! Окобая?си Мокуно?скэ-до?но в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнёсся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдётся человек, который возьмёт да и убьёт их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости – значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гневе на них.
Дэнъэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбуждённые разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Хаями Тодзаэмон и Хорибэ Яхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей.
Среди всего этого только один человек, только Оиси Кураноскэ, положив руки на хибати, всё более и более мрачнел, всё меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.
Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привёл к тому, что стали всё больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, своё сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтоб повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика». Кураноскэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэнъэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться ещё одной последней чертой.
Дэнъэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить своё преклонение, круто перевёл разговор на эту тему и произнёс целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.
– Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Кураноскэ против всякого желания вёл разгульную жизнь, это не так уж трудно.
После такого предисловия Дэнъэмон начал длинно-длинно излагать всякие россказни о том, что произошло год назад, когда Кураноскэ устраивал всевозможные кутежи; как тяжелы были ему, Кураноскэ, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным клёнам в Такао и Атаго; как мучительны были ему, Кураноскэ, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни в Симаба?ра и Гион.
– Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку: «Оиси не камень, он не твёрд, он лёгок, словно он бумажный»[5 - Оиси – большой камень.]. Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Недавно сам Амано Ядзаэмон и тот похвалил: «Вот это настоящее мужество». И это совершенно правильно.
– Что вы! Ничего особенного тут нет, – принуждённо отозвался Кураноскэ.
Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Дэнъэмона. Однако он увлекался всё более и более. Поэтому он отвернулся от Кураноскэ, к которому до сих пор обращал свою речь, и, оборотившись к Онодэра Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся ещё горячее выражать своё восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюная, пользовавшегося во всей их группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам, в тон Дэнъэмону, во всех подробностях рассказал, как Кураноскэ, с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Юги?ри из Ма?суя.
Кураноскэ, такой серьёзный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы её не распевали. В ней говорилось, как Кураноскэ в чёрной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Гиону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири и Укиха?си – все знаменитые куртизанки в Симабара и Сюмо?ку-мати, когда приходил Кураноскэ, не знали, как получше его принять.
Кураноскэ слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай:
Оиси не камень,
Он не твёрд, он лёгок,
Словно он бумажный…
– вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повёл эту разгульную жизнь – ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и привольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.
И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрёк, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив ещё и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства всё шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отмщения, о его товарищах и, в конце концов, о нём самом, вероятно, так и перейдёт в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.
* * *
Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживлённые голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с лёгким ароматом сливы всё его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.
Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твёрдые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.
Сентябрь 1917 г.
Рассказ о том, как отвалилась голова
Начало
Хэ Сяо-эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» – и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо-эр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздёрнул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо-эра они донеслись, как во сне.
Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо-эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи чёрную кровь. Но голова его неспособна была осознавать всё это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчётливостью стоял только один простой факт – зарезан. «Зарезан! Зарезан!» – твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.
Хэ Сяо-эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделённой от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо-эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И может быть, ещё: убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.
А дальше… Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяо-эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло – этого он почти не помнил. Во всяком случае, всё это время Хэ Сяо-эр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадью вынырнуло искажённое лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезающими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посредине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова. Увидев его, Хэ Сяо-эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчётливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо-эра и описал широкий круг… И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилось ему в шею.
* * *
Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяо-эром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржание, лязг скрещивающихся шашек – всё уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуне сияло так же, как в Японии.
Хэ Сяо-эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нём выражалось более сложное ощущение: Хэ Сяо-эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки – от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.
Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того… Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!» – то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны – настолько раненый ослабел.
«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня всё равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько ещё хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, – какой же я дурак!»
Вот что выражали стоны Хэ Сяо-эра, пока он, вцепившись в шею коня, нёсся всё дальше и дальше по полям гаоляна. Время от времени то там, то сям вспархивали выводки перепуганных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь, с клочьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине.
Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Сяо-эр, неумолчно стеная и жалуясь небу на своё несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гаоляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэ Сяо-эра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды.
В момент падения Хэ Сяо-эру почему-то привиделось в небе пылающее жёлтое пламя. Такое же ярко-жёлтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А огонь пылает!» – подумал он и тут же потерял сознание.
Продолжение
Совсем ли потерял сознание Хэ Сяо-эр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лёжа на пустынном берегу, выпачканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое гладят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую тёмно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив.
Значит, Хэ Сяо-эр не совсем потерял сознание? Однако между его глазами и синим небом как тени проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребёнком он в радости и горе цеплялся за эту юбку! Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь неё, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков.
Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми, будто в ожидании сумерек. Хэ Сяо-эр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули.
Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой «драконов фонарь», с каким ходят по улицам в ночь на пятнадцатое января. В длину он был, пожалуй, около пяти-шести кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. С зажжённой, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, – удивительная вещь! – этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами… Пока Хэ Сяо-эр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез.
Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трёх сун. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ноготки. В душе Хэ Сяо-эра вызвало печаль, лёгкую и смутную, как укус блохи во сне, воспоминание о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их ещё раз!.. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках.
Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяо-эра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростёрлось огромное синее небо. Под этим небом, под лёгким веяньем ветерка люди вынуждены влачить своё жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти – как это странно! Хэ Сяо-эр глубоко вздохнул.
В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронёсся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом. И так же стремительно исчез. Ах, и им, наверно, так же грустно, как и ему! Не будь они призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно.
На глаза Хэ Сяо-эра всё время набегали слёзы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на неё глазами, полными слёз, – об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить.
«Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю своё прошлое», – плача, повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, всё ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало, – должно быть, звёзды, которые видно и днём. Прежние призраки уже не заслоняли неба. Хэ Сяо-эр ещё раз вздохнул и, с дрожащими губами, медленно закрыл глаза.
Конец
Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошёл год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Ки?мура и только что приехавший из Японии инженер министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринуждённо беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат.
Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Ситайхоу, затем перешёл на воспоминания о японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенёс на стол подшивку газет «Шэньчжоу жибао», лежавшую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности: впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так:
«Владелец парикмахерской на улице… некий Хэ Сяо-эр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время японо-китайской войны. Тем не менее после своего славного возвращения он вёл себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами; …числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого: она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в японо-китайскую войну, причём, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатилась по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, всё же, если в «Странных историях» Ляо Чжая повествуется о том, как у некоего человека из Чжучэня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэ Сяо-эром?» и т. д.
– Что это значит? – изумлённо произнёс инженер Ямакава, прочитав заметку.
Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся:
– Любопытная история! Такая вещь только в Китае и может случиться.