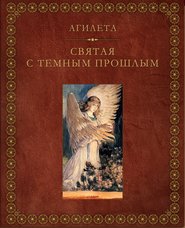скачать книгу бесплатно
Святая с темным прошлым
Агилета
«…Женщины в истории всегда в тени. Если и упадет на какую-нибудь из них отсвет известности, то следует оглядеться по сторонам в поисках мужчины, щедро озаряемого славой. <…> Однако есть и те, чью роль в судьбе великого человека трудно описать привычными словами. Такой была Василиса Покровская. Кем приходилась она тому, кто озарил ее имя? Она подарила ему жизнь, не будучи его матерью. Она любила его, не став, однако, той, кого привычно именуют «любовница». Она была его спутницей, но спутницей «святой», как ее недоуменно величали. Однако к лику святых ее никто не причислял. И наверняка можно сказать только одно – она была удивительной женщиной!..»
Агилета
Святая с темным прошлым
По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться.
Марк Твен
* * *
Женщины в истории всегда в тени. Если и упадет на какую-нибудь из них отсвет известности, то следует оглядеться по сторонам в поисках мужчины, щедро озаряемого славой. И мало кому приходит в голову, что слава эта соткана зачастую именно женскими руками. Воспитательницы, музы, верные спутницы, они незаметно вращают миром, то мудро наставляя, то вдохновляя, то утешая. Насколько высоко смог бы взлететь Наполеон, если бы накануне своего первого похода он не обвенчался с Жозефиной и не пообещал ей будущее величие? И, как знать, сколь ярко светило бы потомкам «солнце русской поэзии» без его Натали и роковой дуэли? Кем остался бы в истории реформатор церкви Генрих VIII, не воспылай он страстью к Анне Болейн, им же впоследствии казненной? У каждого Робин Гуда своя Мэрион, а у Перикла своя Аспазия.
Кто же они, эти женщины за спиной прославленных мужчин, чудом избежавшие извечной женской участи – забвения? Всегда – любимые, порой – «беззаконные кометы», но, как правило, жены. О матерях традиционно забывают (их роль в истории исчерпана культом Богородицы), но порой удается сверкнуть теткам, как в случае с Цезарем, бабушкам или даже няням. Дочь же вспоминается только одна – Суворочка – ради нее одерживал победы отец-генералиссимус.
Однако есть и те, чью роль в судьбе великого человека трудно описать привычными словами. Такой была Василиса Покровская. Кем приходилась она тому, кто озарил ее имя? Она подарила ему жизнь, не будучи его матерью. Она любила его, не став, однако, той, кого привычно именуют «любовница». Она была его спутницей, но спутницей «святой», как ее недоуменно величали. Однако к лику святых ее никто не причислял.
И наверняка можно сказать только одно – она была удивительной женщиной! О чем, возможно, догадывалась, иначе едва ли оставила бы потомкам свои воспоминания. На их страницах сверкает имя ее блистательного возлюбленного и гремят его подвиги, но не менее ярко светится и ее собственная необыкновенная личность. Словно солнце и луна восходят на одном небосклоне, и от их двойного сияния невозможно оторвать взгляд.
Ее портрет, передаваемый в семье из поколения в поколение, удивляет спокойной мудростью во взгляде. Светло грустят чуть опущенные уголки глаз, но неожиданно полные, чувственные губы сложены в полуулыбку. Эта женщина познала и страсть, и страдание, но нашла в себе силы преодолеть и то, и другое, не сломавшись и не растеряв себя.
И потому, раскрывая страницы ее мемуаров, я испытываю трепет, как если бы эта полная достоинства дама в строгом платье с нежной шалью, обнимающей шею и плечи, вдруг подала мне руку и, подобрав юбки, сошла с портрета, чтобы поведать о том времени, когда она была молода, смеялась и горевала, теряла и обретала, терпела поражения и праздновала победы. И любила, конечно, любила. Как могла она не любить?
Часть первая
I
«…И прибрал Господь матушку, зане на небесех лучшее ей уготовил житие, чем на земли…»
А ведь и верно – лучшее! Еще пять-десять лет – и согнулась бы матушка от трудов, сгорбилась; все сильнее тянула бы ее к себе земля, все больше остывало бы не знающее радости в вечных заботах сердце и изнашивалось от бесконечных родов тело. И посетовать не на что: куда от женского естества деться? Как обвели тебя в пятнадцать лет трижды вокруг аналоя и заставили поменяться кольцами с едва знакомым человеком, так и трудись: носи детей в утробе, рожай, корми, поднимай, а то и хорони, да все это между делом: перво-наперво поспевай по хозяйству да мужа не забывай обихаживать. А хозяйские дела не кончаются, да младенцы с рук не сходят – только встанет один на собственные ножки, а тут уж новый у груди – на них все силы и кладешь. Все и счастье бабье, если муж тебя жалеть станет да приласкает иной раз. Но и при добром муже к сорока годам ты старуха с изнуренным телом и потухшим взглядом, ничего-то в жизни и не видевшая, кроме трудов, трудов, трудов. И велика ли радость, что ты не крестьянского сословия, а духовного, и муж твой не землю пашет, а обедню служит? Сельскому батюшке одной службой без земельного надела да скотины не прокормиться; вот и впрягается молодая жена, едва переступив порог мужниного дома, в тяжкий воз бесконечных хлопот и тянет его, пока достанет сил. Кормит, поит, в чистоте содержит, лечит, утешает, ободряет и обо всех на свете помнит и заботится, помимо самой себя. А как иссякнут силы, уходит, вздохнув в последний раз будто бы с облегчением.
И посчастливилось еще матушке Серафиме уйти молодой (старшей ее дочери, Василисе, едва семь лет сравнялось), еще красивой, еще статной, еще веселой, то и дело поющей за работой. Такой осталась она в памяти дочери, а в памяти мужа еще и нежной, чуткой, трепетной. Такой, что ни одна другая ни при жизни, ни после смерти не могла с ней сравниться. И верность ей, ушедшей, хранить было не трудно, тем паче, что старшая дочь росла живым напоминанием о матери. Тот же светлый, всегда устремленный в какие-то иные дали взгляд, так же тихо радуется и остро страдает от любой несправедливости, пусть и самой малой. Так же тонка и телом и душой, а в движениях легка, как птица. Точно василек во ржи подрастала девочка – нечаянной радостью – и часто смеялась во сне. Видно, в те часы, когда душа витает в потусторонних пределах, встречалась с ней матушка и играла со своей любимицей.
II
«…Батюшка мой, отец Филарет, был самой благочестивой и строгой жизни. При нем живя, и самый малый грех совершить было мудрено…»
Блаженны отдающие себя целиком своему делу! У них спокойна душа, они снискали всеобщее уважение, и в глазах собственных детей они всегда на пьедестале.
Отец Филарет был словно рожден для того, чтобы стоять между Богом и людьми и соединять их в таинстве Причастия. Нравом спокойный, к словам внимательный – такому легко открывать душу на исповеди. Не стяжатель – беря пятак за панихиду, служил ее на двугривенный. Со смирением переносящий утраты – помимо матушки Серафимы, лишился он и нескольких детей, появившихся на свет прежде Василисы, но умерших во младенчестве. Отец Филарет никогда не роптал на судьбу, к водке прикладывался разве что на свадьбах, поминках да по большим праздникам, мужественно нес свой крест вдовца, не срамил священного сана и ни с кем не жил во грехе.
Проповеди он читал так, что казалось: никаких иных слов и подобрать было нельзя. Фразы из них частенько всплывали потом у Василисы в памяти, когда сама она не находила, что сказать, и, повторяя батюшкины слова, с гордостью ощущала себя причастной его мудрости. В ее представлении отец всегда возвышался над людьми, как на амвоне, и в наставлениях его была особая сила.
Не самой располагающей внешности (высокий бугристый лоб нависал над глазами, точно всегда нахмуренный), батюшка становился прекрасен во время службы и исполнения треб, как и все люди, стоящие в жизни на своем, верно определенном месте. Горел его взгляд, буйные, как струи мельничного водопада, волосы золотилась в сиянии свечей, выделяя из полумрака преображенное лицо, а звучный, низкий, выразительный голос, уж на что Василиса была к нему привычна, даже ее заставлял иной раз трепетать. На взгляд дочери, что-то роднило батюшку с Иоанном Предтечей, каким того изображают на иконах: облик диковатый, но внушительный. Только вот Предтеча на образах темноволос, а батюшка, напротив, был светел: голова его и борода напоминали цветом начинающее колоситься, еще не пожелтевшее поле. Такой же была коса и у самой Василисы, и глаза – светлыми, как у отца, прозрачно-серыми, не скрывавшими ничего, что на душе.
Помимо двух дочерей, старшей, Василисы и Аглаи, полутора годами младше, не осталось у батюшки в живых никого из детей. Деревенские жалели его за то, что нет у него наследника-поповича. Прислуживал бы сейчас батюшке в алтаре, а затем и место его занял… Правда по кончине отца Филарета приходу должно остаться за Василисой, а место попа перейдет ее мужу, но наверняка ли? Не вмешается ли родня с их безместными попами – племянниками, да двоюродными братьями? Завалят архиерея жалобами, приправят жалобы подарками – и уйдет от Василисы место. Поскорей бы отец Филарет замуж дочь выдавал, да ставил зятя вторым священником. Правда, дворов у них в приходе двадцати не наберется, ну да ничего, как-нибудь прокормятся!
III
«…По смерти матушки призвал батюшка тетку, Лукерью Савельевну, и поставил ее на хозяйство…»
На хозяйство поставил, а в душу не пустил. В душе жила матушка Серафима, жили дочери. И большая половина под кровом души отца Филарета была отведена старшей, Василисе.
Младшая, Аглая, будто нарочно ничего не унаследовав от отца и матери, пошла в ту родню, к коей у отца Филарета сильно не лежала душа. Телом ладная, лицом румяная, а в глазах даже не пустота – муть беспросветная. Превыше всего любила Аглая лузгать с теткой семечки и перемывать кости всем деревенским и всем сродникам, ближним и дальним. Глядючи на них, дивился батюшка, сколько же у них в огороде подсолнухов, если каждый божий день тетка с племянницей целую гору налузгивают. Как выйдут подсолнечные, берутся за тыквенные, а разговоры все те же: «Кум Федот с женой не живет, а кума Ульяна потонула спьяну». Казалась тогда отцу Филарету младшая дочь похожей на хавронью, благо ноздри у нее загибались точно пятачок у свиньи.
Когда бы ни собрались парни с девками на посиделки, откупив для того у старших избу на вечер, Аглаю звали непременно. Так была она горазда молоть языком, столько сплетен приносила, как сорока на хвосте, что было с ней не до скуки. И так умела Аглая сладко взглядом поманить, что парней тянуло к ней, как рукой за шиворот.
Василису же на посиделках не жаловали, да и звали редко. Не ко двору она там приходилась: тихая, задумчивая, и приобнять рука не тянется, и слово бойкое на ухо не молвишь. Сиди с ней бок о бок и кисни. Хоть с лица и не дурна, да с лица не воду пить. Точно не от мира сего была поповна, а в мир ее как будто и не влекло.
Зато завсегда ее видели на подводе рядом с батюшкой, коли тому случалось отлучиться по делам. Словно бы не замечая, как трясет телегу, вела она с отцом Филаретом неспешный, теплый разговор, а тот, хоть и не охотник был до улыбок, подле дочери светлел лицом. И чудилось тогда, что едут эти двое не в соседнее село и не к отцу благочинному, а в такие удивительные дали, куда всем остальным дорога заказана.
* * *
Современному жителю мегаполиса, с рожденья видящему мир как набор неограниченных возможностей и расходящихся во все стороны путей, трудно даже представить себе, насколько строго очерченным было будущее человека, рожденного, как и Василиса, в XVIII веке. Единицы выбирали свою дорогу сами (подобно Ломоносову и Тредиаковскому); подавляющее же большинство устремлялось в то русло, по которому надлежало течь их сословию.
Крестьяне, мещане, купечество, дворяне. Трудно определить для духовенства должное место в этом идущем по нарастающей списке. Все духовные лица были свободны от государственных податей, рекрутчины и телесных наказаний, но при этом архиереи и настоятели крупных городских церквей по уровню жизни и весу в обществе стояли почти наравне с дворянством, а сельские батюшки располагались лишь немногим выше крестьян.
Принадлежность к сословию (с соответствующей записью в метрических книгах) определялась по отцу. Поэтому к духовенству автоматически причисляли всех детей священников, и мальчики в дальнейшем должны были занять место отцов у алтаря.
Однако алтари доставались далеко не всем. Количество сыновей в семьях духовенства, отнюдь не равнялось количеству вакантных священнических мест. И тогда безместные клирики (коих насчитывалось великое множество) устраивали свою судьбу как могли. Одним из наилучших вариантов был старый верный способ – брак. Брак с дочерью священника, у которого нет сыновей, с тем, чтобы стать его наследником.
Да, дела духовные, как и корона со скипетром, передавались почти исключительно по наследству. Нет, конечно, и мещанину, и купцу, и дворянину, и, в редких случаях, крестьянину, не возбранялось избрать себе духовную карьеру, вопрос был только в том, где им потом служить, если многочисленные дети белого духовенства – женатых батюшек – получали приходы практически в наследство за своими отцами. Браки также заключались в своей среде. Задумывалась Василиса о том, или нет, ее судьба была предрешена: сватовство того или иного поповича, представление его кандидатуры архиерею для одобрения, в случае одобрения – свадьба, далее – рукоположение мужа в священнический сан – и свежеиспеченный батюшка становился вторым священником в церкви отца Филарета, а по смерти последнего – настоятелем храма. Сама же девушка после венчания из девицы духовного сословия превращалась в матушку Василису, попадью. Судьба же Аглаи, напротив, казалась не завидной. Так называемая «невеста без места» (именно отсюда пошло это выражение), она не приносила будущему мужу желанной должности. Третий батюшка на село, где нет и двадцати дворов? Это уж чересчур! Дай Бог, чтобы двум-то попам хватило тех пожертвований за требы, что понесут их немногочисленные прихожане!
А будущий муж Василисы, мог ли выбирать он? Едва ли. По сердцу девушка или нет, но, ведя ее под венец, ты выходишь на подобающее тебе место в жизни, в противном случае, куда податься семинаристу, окончившему курс наук? Разве что в мелкие чиновники, или, если повезет, управляющим в дворянском имении. Но на такие должности, как известно, предпочитали брать немцев.
А не задастся семейная жизнь, что тогда? Да ничего, терпи и молись! В дворянских семьях не поладившие супруги могли разъехаться; для духовенства это было не мыслимо. Разошедшегося с женой батюшку дальше служить не благословят. Даже вдовым во второй раз жениться нельзя, иначе поминай как звали священнический сан. Для женщин же выбора и вовсе не имелось: вышла замуж – будь при муже, вот и весь сказ.
И выходило так, что, с рождения ступив на проторенную дорогу, Василиса не должна была сходить с нее до могилы. Однако во все времена существовали люди, вокруг которых упорядоченное течение жизни вдруг начинает закручивать немыслимые водовороты, и неприметная поповна, как ни удивительно, оказалась одной из них.
IV
«…То диковинное свойство мое становилось явным не токмо во время молитвы, но и по другим случаям…»
О странности этой не ведал никто: ни батюшка, ни сестра, Аглая, ни тетка Лукерья, не говоря уже о ком-то из деревенских, а для самой Василисы происходящее с нею до конца дней оставалось загадкой. Впервые испытала она такое во время службы в батюшкином храме: сперва ощутила, что не чует больше под собою ног, точно парит в эфире, а затем и все свое тело перестала чувствовать. Умолкли для нее произносимые батюшкой слова ектеньи[1 - Призыв к молитве.], голоса певчих на клиросе и покряхтывания да шорохи прихожан. В небывалую тишину погрузилась поповна, в безмолвие, коего и на свете-то не бывает. Растворились мысли, точно соль в быстрой воде, пролился в них горний свет, и в миг наивысшей незамутненности души, что-то вдруг охватило ее, словно обняло, и стало колыхать из стороны в сторону. После не смогла бы описать Василиса, что вершилось внутри нее в те мгновения, помнила только, что непроницаемое будущее вдруг явилось перед глазами прозрачным. И, очнувшись, твердо знала, чему суждено случиться.
Начало происходить с ней такое с самой матушкиной смерти. С похорон унесли девочку ослабевшей от крика и горячей от поднявшегося жара; долго не могла прийти она в себя. Все не понимала, как матушку с нежными теплыми руками можно было оставить в ледяной ноябрьской земле, где она продрогнет до костей, просила принести покойницу домой и обогреть. К девятому дню девочка оправилась, но вплоть до сороковин ходила, как тень, и спала много дольше обычного. А во время панихиды на сороковой день впервые охватило ее то, чему не находилось названия. Едва на клиросе запели «Со святыми упокой», так отчаянно сжалось ее сердечко, что разом отхлынуло от Василисы все мирское, оставив девочку как на безлюдной песчаной отмели. А когда вернулся мир с его шумом и голосами, то было ей почему-то радостно, а не горько, как до сих пор, будто успела за это время приласкать ее матушка и шепнуть: «Не горюй по мне – я жива. У Господа все живы. Жива и буду с тобою, как прежде, только незримо».
В другой раз к батюшке беда пришла. Донесли на него благочинному, что якобы отпевал он того, кто сам на себя руки наложил. А покойник, хоть и молод был, на деле тронулся рассудком, о чем всем в приходе было ведомо. Через это и с обрыва шагнул. Ежели не ведал он, что творил, как не отпеть его, несчастного? И нету в том батюшкиной вины! Его же грозятся от служения отстранить, а на место его ох как много охотников! Что такое поп без прихода? Невесть кто, невесть зачем существующий, невесть где принужденный искать средства на пропитание. Батюшка ничем не выказывал страха перед решением своей участи, но дочь его явственно ощущала, как терзается у отца душа. И ноги сами привели ее на песчаный косогор, под которым злосчастный Емельян, батюшкой отпетый, смерть принял. Встала там Василиса, сама не понимая, зачем пришла, глянула вниз на быстро летящую, обмелевшую к осени реку (зрелище это затягивало) и перестала вдруг чувствовать песок под ногами. Померк полуденный свет, а когда перед глазами все вновь прояснилось, и душе пришло облегчение – поселилась в ней уверенность, что зла отцу не причинят. И после, желая ободрить его, девушка сказала, улучив минуту: «Вы, батюшка, не пужайтесь, ничего не будет – помогут вам». Батюшка взглянул на нее так, как не глядел никогда, но вышло точно по ее словам – помогли. Помещица их, камергерша Белозерова, отписала отцу благочинному письмо с твердым пожеланием не тревожить более отца Филарета, присовокупив пожертвование на нужды организуемой в Калуге семинарии. После чего батюшку действительно никто не тревожил. Но на дочь он с тех пор частенько посматривал не то с испугом, не то с сомнением.
А Василиса скорее радостно дивилась необычному своему дару, чем боялась его или сомневалась. Редко когда приоткрывалось перед ней грядущее, но каждый раз в те минуты, когда особенно сильно билось из-за чего-то сердце. Так было и во время ее сватовства. Тетка Лукерья с помощью сродников подыскала шестнадцатилетней племяннице жениха и ходила гордая, как индюшка. Ну, всем взял будущий Васенькин суженый! Семья самая что ни на есть уважаемая: батюшка в Калуге – настоятель Троицкого собора, а дядя и вовсе епископ. Обучался же Никон в самой Киевской духовной академии; красноречив, рассудителен, степенен, голосом зычен – лучше попа не сыскать! «Да и собой хорош, была б я девкой, загляделась бы!» – добавляла она в ответ на пытливые взгляды племянницы.
Отец Филарет знавал и отца жениха, и дядю, и был чрезвычайно доволен тем, что те не погнушались породниться с его неприметным семейством. Назначили день смотрин, и Василиса в новой рубахе и подновленном кобеднишном[2 - «Кобеднишной» называли праздничную одежду, надеваемую в церковь, к обедне.] сарафане поджидала, когда ее позовут на смотрины. Было ей до невозможности тревожно, сердце било как в колокол. За дверью журчала частая речь свахи, и чем чаще и слаще сыпались слова, тем большая тревога овладевала девушкой. Неожиданно звуки иссякли, все покрылось мраком, и свет, прежде лившийся из окна, стал исходить неведомо откуда. Василиса не разумела, сидит ли она по-прежнему, парит ли в пространстве, или вовсе на время перестала существовать, и очнулась лишь оттого, что услышала свое громко произносимое имя.
Поднялась он, как неживая, и, выйдя к сватам, лишь поклонилась, а улыбнуться приветственно не смогла. Потому как открылось девушке: не будет ей жизни с этим видным и ученым, но донельзя самоуверенным и скорым на расправу парнем. Жизни не будет, одно горькое терпение, да мучение.
Отец Филарет не стал укорять дочь, но отказ ее принял с большим расстройством. Тетка рвала и метала. Аглая же крепко задумалась: всего полутора годами младше она сестры – этой дуры блаженной – не удастся ли ей самой заполучить такого завидного жениха?
А Василиса на рассвете, когда все хозяйки по деревне доили коров, выскальзывала из дома. По глинисто-песчаным откосам спускалась она к реке, скинув исподнюю рубашку, окуналась с головой и, захлебываясь от холода и восторга, плыла. Из студеной июньской воды выходила как заново рожденная и, снесенная быстрым течением, возвращалась к своей одежде. По дороге с улыбкой наблюдала, как ласточки мельтешат в воздухе и, садясь на края своих вырытых в косогоре нор, кормят птенцов. Будь ее воля, сама бы летала, как ласточка, плескалась бы, как волна, тянулась ветвями по ветру, как ива на берегу. Свободы и радости искала душа и, покамест, беспрепятственно их находила.
V
«…С тех пор и по сей день ненавистно мне было лицедейство, и порога театра более я не переступала…»
Селом их, Соколовкой, владела вдова камергера Белозерова, Елизавета Сергеевна. Ей же принадлежало еще несколько окрестных деревень, весьма доходных, потому как стояли они на суглинистых землях, и мужиков было выгодно отпускать на оброк. Отца Филарета она почитала как своего духовника и человека редкого благочестия, любила приглашать в усадьбу после престольных праздников, а то и вовсе безо всякого повода и вести с ним душеполезные беседы. Большое утешение находила она в отце Филарете, оттого и вызвалась быть восприемницей его дочери.
Василису она ласкала при каждой возможности, своих деток не имея и уж не надеясь стать матерью; и всегда желала видеть в усадьбе вместе с батюшкой. Щедро одаривала гостинцами, сажала к себе на колени, спрашивала о чем-нибудь, с улыбкою заглядывая в лицо. А девочка глаз не могла оторвать от воздушных кружев на барынином капоте. Что за диво: точно паука выучили цветы плести! И хохотала же барыня, про ученого паука услышав! И тут же одарила крестницу, коей и пяти лет тогда не исполнилось, кружевами на подвенечное платье.
Была у барыни Белозеровой новомодная причуда – театр. Сын ее соседей по имению, Иван Антонович Благово, обучавшийся в Москве, в Хирургическом госпитале, заезжал к ней как-то с родителями во время вакаций и все уши прожужжал про театральные представления, до коих студенты были большими охотниками. Сами ставили, исполняли, а порой и пиесы сами сочиняли. Одну из них, по просьбе соседки, Иван Антонович затем привез, специально для нее переписанной, и столь она барыне по сердцу пришлась, что повелела та немедля набрать в своих деревнях парней и девок, к лицедейству способных, и принялась обучать их. Много в том театральном деле было премудростей, ну да помещицы в Калужской губернии чай не глупей, чем студенты в Москве! До всего своим умом дошла: и куафёра выписала – актеркам волосы чесать, и художника-богомаза наняла – декорации расписывать, и мужиков рукастых сыскала в своих деревнях – внутренность сцены обустраивать. И, в гордости и радости за свое детище, пригласила отца Филарета помещение театра освятить.
Не радостно было батюшке: не лежала у него душа кропить святой водой помещение для лицедеев, но не откажешь ведь своей помещице! Чувствуя это, Елизавета Сергеевна увлекла его в гостиную, где предложила отведать домашней настойки, и повела разговор о том, что «полно, батюшка, театры и при семинариях открывают, да не токмо в Киевской духовной академии, но и в Новгороде, Астрахани, Твери…». Василиса тем временем не удержалась от расспросов:
– Что за пиесу вам, барыня, привезли?
– «Комедию о графе Фарсоне».
– Чаю, занимательная?
– Чрезвычайно занимательная! Французский граф Фарсон отправляется в Португалию – изучать науки…
– Что же понесла его туда нелегкая? Нешто во Франции выучиться нельзя?
Елизавета Сергеевна не могла не улыбнуться:
– Он пожелал узнать чужеземные обычаи. К тому же батюшка его умер, а наследства он оказался лишен через злую мачеху. Живя в Португалии, граф случаем, попадает в фавор к королеве. Та, зная о плачевном его положении, предлагает поступить к ней в солдаты и обещает платить по сто червонцев в месяц. Но Фарсон отказывается: он не хочет, как это сказано в пиесе, «при девице быти и самому девицею слыти».
– Вишь, какой гордый! – задумчиво промолвила Василиса. – На что же он жить-то будет?
– Между ним и королевой начинается амур, и, благодаря этому…
Елизавета Сергеевна принялась пересказывать ей содержание пиесы. Тем временем отец Филарет закончил возлияния, и все трое вместе направились во флигель барского дома, отведенный под театр. Василиса была разочарована: она ожидала увидеть невесть что, а оказались во флигеле всего-навсего ряды стульев, да дощатый помост. Правда, на помосте стояло несколько актеров, наряженных по-иноземному в несусветно высоких париках. Из них одна была женщиной, по видимости, той самой португальской королевой. Лицо ее скрывала хитроумно украшенная маска, которую другой актер порывался с нее снять. Королева же обращалась к нему жалостливым голосом:
Друг мой прелюбезный,
Ты бо еси кавалер честный, —
Не желай видети лица моего красоту
И зрака моего доброту.
Аще лице мое узриши,
То вскоре живот свой сгубиши.
– Она и взаправду его сгубила? – шепотом спросила Василиса у барыни-крестной.
– Да. Хоть и сама того не желала.
Лицо королевы, наконец, открылось, повернулся к зрителям и торжествующий граф Фарсон с маской в руке. Несказанно удивил Василису их вид: вроде бы, такие же люди, как и все, ан нет, не назовешь их обычными! Лица – точно вода: волнами ходят по ним чувства, хоть и видно, что не свои. А собственная душа, как дно реки, столь глубоко под этой внешней подвижностью лежит, что и не увидишь.
И, зачарованно глядя на сцену, ощутила вдруг Василиса знакомое: голоса перестали звучать для нее, а тело подхватили невидимые волны. Когда же очнулась, то – странное дело! – испытала неизъяснимый страх. Голова ее сама собой повернулась в сторону батюшки, доставшего уже святую воду и готовившегося кропить.
– Батюшка, – прошептала она не своим голосом, как если бы кто-то другой шептал за нее, – не освящайте театр, не надо!
Отец Филарет, уже слегка разомлевший от настойки, лишь качнул головой:
– О чем говоришь? Пустое! Как барыню не уважить?
– Не надо, заради Христа! – молила Василиса, но вместе с тем, со все нарастающим ужасом чувствовала: не умолит. Чему быть, того не миновать.
Батюшка поднялся на помост, благословил склонившихся к нему актеров и с молитвою начал кропить. Его черная ряса сливалась с тяжелой черной тканью, подвешенной у задника сцены и скрывавшей деревянную грубость сооружения. Сверху возились мужики, прилаживая балки, на которых будут держаться декорации. Прервав работу, они ждали, чтобы брызги святой воды долетели и до них.
Словно треклятой пиесой был предусмотрен такой финал! Тяжелый топор, которым только что орудовал один из мужиков наверху, и который затем был отложен в сторону, сорвался от неосторожного движения. Батюшка рухнул на оструганные доски как-то по-детски, точно мальчишка, ненароком сбитый в игре. Тут же бросились к нему все, кто был вокруг: разряженные лицедеи и Елизавета Сергеевна с обезумевшими глазами. Одна Василиса не тронулась с места, цепенея и леденея, и зная наверняка, что бежать уже ни к чему.
VI
«…Так и решилась моя судьба без моего участия…»
Помещица Белозерова приняла в своей крестнице участие, поелику могла. Выпоров, сдала в солдаты того мужика, что без умысла погубил батюшку, и снеслась с епископом, дабы определить судьбу поповской сироты. Потому как не была Василиса просватана, требовалось сей же час подыскать ей жениха, обвенчать с ним, рукоположить его в священники и определить в ту церковь, где служил Василисин батюшка. Однако жениху надлежало быть «с умом», то бишь, иметь образование, богословское либо философское. Посему епископ наказал отправить девушку к нему в Калугу, а там уж он сам устроит ее судьбу. Того ради предоставила Елизавета Сергеевна Василисе свой возок с кучером.
Тетка Лукерья, сопровождавшая племянницу, нарадоваться не могла: сидишь себе, как барыня в избушке на полозьях, укрываешься меховым пологом, и не дубеет лицо от студеного ветра, как на санях. А правит-то кучер, не сама вожжами руки уродуешь! От удовольствия тараторила она без умолку, наперед увещевая племянницу:
– Ты, Васёна, как жениха тебе сыщут, нос не вороти да не кобенься! Кто первый взять захочет, тот и хорош. Второго-то, может, и не будет вовсе.
Василиса молчала. Почти не раскрывала она рта все сорок дней после батюшкиной кончины, как морозом, прихваченная горем, да и нынче говорить ей было тошно. Завернулась в пуховой платок, накинутый поверх тулупа, и глядела перед собою на санный путь, уводящий ее невесть куда.
И в палатах у епископа осталась безучастна, не заметила ни пышности, ни убранства, подошла под благословение и встала, опустив глаза, точно не ее судьбу владыка намеревался решить, а какой-то другой девицы.
– Что ж, Василиса, – сказал епископ деловито, хоть и с участием, – царствие небесное твоему батюшке, а церковь без попа надолго оставлять нельзя. Мясоед-то на исходе; кто Великим постом служить будет? Да и самой тебе замуж пора – сколько лет уже сравнялось?
– Осьмнадцать. Девятнадцать в апреле будет.
Епископ покачал головой.
– Засиделась ты, матушка, в девках! Ну да ничего, пристроим! Дам я тебе провожатого – пойдешь с ним в духовную семинарию. Там женихов пруд пруди, а невеста ты с местом – должно твое дело сладиться.
Крепко обхватив себя руками и пригнув голову под порывами сырого февральского ветра, шла Василиса вслед за грузным и важным дьяком, ведущим ее к ее новой судьбе, и не несла в голове ни единой мысли. Вершилось над ней что-то помимо ее воли, как вершится на земле зима или весна, никого о дозволении не спрашивая и ни о чьих желаниях не беспокоясь. В пустом семинарском коридоре какое-то время ждала, сидя на лавке, а затем отворилась дверь класса, и тот самый дьяк, что вел ее, поманил внутрь. Василиса заробела войти и встала у дверного косяка.
Во всей последующей жизни ни разу не было ей так страшно, горько и неприкаянно, как в те минуты. Разом повернулись к ней семинаристы, и каждый вцепился в нее взглядом, точно пес. Каждый оценил про себя, будто курицу на базаре. Каждый либо ухмыльнулся, либо покривился, либо поднял брови. Залили ее стыдом, как помоями, а она и убежать не смела – стояла, точно в землю вросшая от удара.
Вдруг изо всех любопытствующих физиономий выделилась одна. Крепкая была и наливная, точно яблоко. Еще бросалось в глаза то, что кожа на лице красновата, а румянец, как утюгом к щекам приложили. И, при русых волосах – вызывающе рыжая бородка. Краснело это лицо промеж остальных – ни дать ни взять, первое спелое яблоко на ветке.
– А что? Почему бы и не взять! – донеслось до Василисы.
* * *
Если современной невесте задать вопрос, чего она ждет от будущего мужа, то список обещает быть длинным. Любви и внимания, защиты и опоры, доверия и уважения. Не в последнюю очередь будут упомянуты материальная поддержка, помощь по хозяйству и участие в воспитании детей. Супружеская верность вряд ли будет озвучена, поскольку она просто подразумевается, равно как и отсутствие рукоприкладства.
Но если бы тот же самый вопрос был задан невесте во второй половине восемнадцатого столетия, когда под венец шла Василиса, то девушка просто не поняла бы, о чем идет речь. И действительно, чего можно ждать от мужа помимо самого факта его существования? Куда податься женщине, как не замуж? В перестарках куковать – приживалкой при родне? Незавидная доля! Что да монашества, то это удел немногих, а с тех пор, как Екатерина II разорила монастыри, конфисковав их земли и переведя иноков на казенное жалование (разумеется, нищенское), о постриге думать уже не приходилось. Да и монастырей уцелело – раз, два и обчелся: сделали обители приходскими церквями.
И оставалась, по сути дела, единственно возможная дорога – с женихом к алтарю, чтобы муж обеспечивал тебя так, как это подразумевает твое сословие: пахал, торговал, владел мужиками или служил обедню. Не у одной Василисы судьба решилась без ее участия, а едва ли не у каждой. Удивительно еще, что девушка вообще над этим задумалась – над возможным участием в своей судьбе.