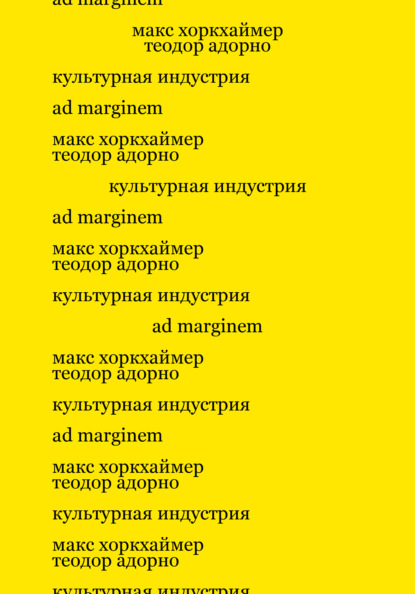
Полная версия:
Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс

Макс Хоркхаймер
Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс
Originally published as: «Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug» from «Dialektik der Aufklärung»
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1987
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
Организованная жестокость
(Кирилл Чепурин)
Эссе Хоркхаймера и Адорно «Культурная индустрия», глава из их знаменитой «Диалектики просвещения» (1947), стало уже настолько классическим и настолько основополагающим для всей так называемой «критической теории», что уже по одной этой причине оно заслуживает внимательного прочтения. Сегодня, во времена триумфа соцсетей и кажущихся не менее триумфальными перспектив искусственного интеллекта, анализ Хоркхаймера и Адорно остается релевантным при всей своей погруженности в промышленную эпоху задолго до повсеместной цифровизации и интернетизации. Главные объекты этого анализа – радио и кино – могут на первый взгляд показаться устаревшими, поскольку подразумевают совершенную пассивность потребления культурного контента. Эта пассивность радиослушателя или кинозрителя способствует, по мысли Хоркхаймера и Адорно, полному погружению не просто в отдельный продукт, но и в саму логику и идеологию капитала, воспроизводимую всеми продуктами культурной индустрии. Доведенная до логического завершения, эта тотальная, даже тоталитарная иммерсивность (тоталитаризм и капитализм, согласно авторам, имеют общие просвещенческие корни и черты) стирает любую «негативную» дистанцию мыслящего субъекта по отношению к культуре и миру в целом. Между тем, в соответствии с гегельянской оптикой авторов, только такая дистанция, только напряжение между единичным и всеобщим, между отдельным произведением искусства или индивидуальным сознанием и общественным устройством, делает возможным как обнажение в искусстве того «хаоса страдания», на котором выстроен капиталистический миропорядок, так и сопротивление этому миропорядку. То, что они называют ложным тождеством между единичным и всеобщим, закрывает саму возможность сопротивления. Именно этому закрытию служат продукты, технологии и спецэффекты индустрии культуры.
Это возвращает нас к вопросу об актуальности «Культурной индустрии». Постиндустриальное общество во многом лишь усилило культуриндустриальные тренды. С одной стороны, культура непрерывного стриминга и бесконечные ленты социальных сетей совершенствуют погружение потребителя в зачарованное круговращение одного и того же, диагностируемое авторами. С другой – кажется, что социальные сети, такие как ТикТок, сделали каждого из нас (по крайней мере, потенциально) не просто пассивным потребителем, но и активным субъектом производства себя самого как единичного и монетизируемого продукта, как более или менее нишевого инфлюенсера. От этого, впрочем, единичное сделалось только более тождественным со всеобщим: с шаблонами определенных типов поведения и потребления, чьи формулы успеха подчинены логике капитала. Искусственный интеллект, при всей своей полезности и инновационности как технологии, на сегодняшний день также предстает огромной машиной по производству шаблонных изображений, текстов и реакций. «Формульность» культурной индустрии, критикуемая Хоркхаймером и Адорно, по-прежнему с нами.
Тотальная опосредованность единичного машинерией капитала, маскируемая тотальной непосредственностью и иммерсивностью индустрии культуры – такова главная опасность, обнажаемая текстом Хоркхаймера и Адорно. Неспособные сопротивляться культурному потоку, индивиды становятся не более чем узловыми точками всеобщей коммодификации, извлечения данных и извлечения прибыли, в конечном счете воспроизводства мира как он есть. Тем самым извращенно реализуется идеал эпохи Просвещения: полная технологическая прозрачность субъективной и объективной реальности, где все единичное на своем месте служит функционированию всеобщего. При такой прозрачности тоталитарно стирается и подавляется все, что ей противоречит, включая темный хаос страдания. Так просвещенная прозрачность оборачивается своей противоположностью: полным сокрытием общего отчуждения и всепроникающего идеологического принуждения.
Куда бежать от просвещенной прозрачности мира? «Любой побег, – пишут Хоркхаймер и Адорно, – заранее обречен привести беглеца к отправной точке», и это проблема не только политическая, но и этическая. Как и работа Адорно «Minima Moralia» («Малая этика»), «Культурная индустрия» пронизана импульсом поиска счастья и избавления, равно необходимым и неосуществимым при данном порядке вещей. Движимый смутным желанием найти что-то истинное среди ложной жизни, в пределе – утопическим желанием рая без голода и страдания, человек позднего капитализма ищет развлечения как отвлечения от невыносимого бремени неправды мира. Но само развлечение, в виде культурной индустрии, лишь сильнее подчиняет человека миру, ложно отождествляя счастье не с истинной организацией совместной жизни, но с саморастворением в капиталистических отношениях: «каждый может стать счастливым, если только целиком отдастся во власть общества, откажется от притязаний на счастье». Сама организация желания в позднем капитализме – это (по выражению авторов) «организованная жестокость», которая обманывает как раз в том, что обещает, сродни тому, что теоретик культуры Лорен Берлант назвала cruel optimism, или режимом доминирования, в котором само желание избавления эксплуатируется в целях воспроизводства существующего порядка.
Именно поэтому, возможно, Хоркхаймер и Адорно не предлагают никакого готового «положительного», «оптимистичного» выхода из тупика индустрии культуры. Любой позитивный рецепт, любой оптимизм содержит элемент теодицеи – оправдания мира как он есть, несмотря на все его зло – как будто бы могло быть данностью, что мир может стать и станет лучше. В конце концов, если есть простой выход, то, может быть, все не так уж и плохо и можно так жить и дальше. Задача таких текстов, как «Культурная индустрия» или та же «Minima Moralia», одновременно более фундаментальна и минимальна. Это именно настойчивое утверждение негативности ради того, чтобы сохранить, пронести через господство индустрии культуры сам императив сопротивления, зазора, несовпадения. Эту минимальную негативную дистанцию по отношению к насилию мира Хоркхаймер и Адорно стремятся имманентно разглядеть в тех моментах внутри культуриндустриальной тотальности, которые могут показаться чересчур мечтательными, абсурдными или незначительными – таких как уединение домохозяйки в темном кинозале как своего рода «убежище, пространстве, в котором она может позволить себе провести пару часов, не подчиняясь ничьему контролю». Только через такие, пусть незначительные трещины в логике мира просвечивает утопическое, сохраняя то в человеке, что тотальность капитала не может целиком нивелировать. И если весь механизм индустрии культуры направлен на то, чтобы скрыть и забыть страдание, то задача искусства по Хоркхаймеру и Адорно, как и задача критической теории культуры, состоит в том, чтобы найти выражение для страдания и удержать мысль в разладе с любой попыткой сгладить противоречия. И если осознание этого разлада, равно как и сам вопрос о том, как вообще могло бы выглядеть подлинно свободное общество, возникнет в уме читателя по прочтении предлагаемого текста, значит, Хоркхаймер и Адорно выполнили свою задачу.
Культурная индустрия
Просвещение как способ обмана масс
Каждый новый день демонстрирует несостоятельность позиции социологов, утверждающих, будто утрата точки опоры в объективной религии, исчезновение последних пережитков докапиталистического прошлого, социальная и техническая дифференциация и преобладание узкой специализации в конце концов вылились в культурный хаос. Сегодня в культуре любые явления равняют под одну гребенку. Кинематограф, радио, иллюстрированная пресса образуют единую систему. Каждая область сама по себе единообразна, как единообразны и все они в совокупности. В той же степени и эстетические проявления политических разногласий неукоснительно следуют заданному ритму. Едва ли можно заметить разницу в том, сколь декоративно исполнены ансамбли промышленных выставочных комплексов и зданий, в которых размещается аппарат управления, – как в авторитарных, так и в прочих государствах. Торчащие повсюду бледные монументальные сооружения призваны воплощать собой изобретательность концернов, распределенных по всей стране, на штурм которых после снятия всех ограничений устремились предприниматели. Памятниками эпохи становятся окружающие эти концерны мрачные и серые дома и магазины, образующие столь же беспросветно унылые города. Спустя какое-то время здания, кучкующиеся в бетонные массивы в центре города, начинают казаться трущобами, а новенькие коттеджи на окраинах и легковесные конструкции экспоцентров – апологией технического прогресса, подразумевающего, что после кратковременного пользования их можно будет элиминировать как пустые консервные банки. Однако те градостроительные проекты, что призваны увековечить кажущуюся независимость существования отдельного человека в стерильном пространстве малометражек, на самом деле лишь прочнее связывают его узами прямо противоположного толка – оковами абсолютной власти капитала. Точно так же как жители – производители и потребители – стекаются в центр в поисках работы и развлечения, их жилища плавно трансформируются в упорядоченные комплексы. Очевидное единообразие микрокосма и макрокосма наглядно демонстрирует человечеству его собственную культурную модель: ложную тождественность стандартного и уникального. Вся монополизированная массовая культура единообразна, следовательно, более явно начинает проступать ее скелет – состряпанный теми же монополистами понятийный каркас, в сокрытии которого они более не заинтересованы. Чем откровеннее и четче он просматривается, тем сильнее его воздействие. Кино и радиовещанию больше нет смысла претендовать на статус искусства. Тот непреложный факт, что в действительности они всего лишь бизнес, был возведен ими в статус идеологии, призванной оправдать всю ту бессмыслицу, которую они совершенно сознательно производят. Сами себя они именуют индустрией, и те цифры, которые всплывают в обнародованных декларациях о доходах их генеральных директоров, не позволяют ни на секунду усомниться в том, насколько востребованы обществом подобные полуфабрикаты.
Заинтересованные лица часто объясняют феномен культурной индустрии с позиции технологии. То, что к ней стали причастны миллионы людей, вынуждает прибегать к массовому воспроизведению, а при нем, соответственно, неумолимо возникает ситуация, в которой множащиеся одинаковые потребности будут удовлетворяться при помощи стандартизированного товара. В результате технического дисбаланса между немногочисленностью центров производства и рассредоточенностью реципиентов возникает необходимость в организации и планировании процесса со стороны уполномоченных лиц. По их словам, в основе производственных стандартов изначально лежали потребности потребителей, и именно это способствовало их безоговорочному принятию. На самом же деле это замкнутый круг, состоящий из манипуляции и потребностей, имеющих свое обратное воздействие, и круг этот еще плотнее смыкает систему. При этом умалчивают, что предпосылки к тому, чтобы технология обрела власть над обществом, создаются, когда властью в обществе обладают его наиболее экономически состоятельные члены. Сегодня технически обусловленная рациональность – это рациональность самой власти. Она – то обязательство, которое накладывает на себя общество, отчужденное от самого себя. До тех пор, пока их нивелирующий потенциал не восстанет против несправедливости, на службе у которой они сами же и находились, всё зиждется на сдерживающей силе бомб, автомобилей и кино. Пока же механизация культурной индустрии приводит лишь к стандартизации и массовому производству, жертвуя тем, что составляло разницу между логикой труда и логикой социальной системы. Тем не менее это нужно рассматривать не как следствие какого-либо закона технического прогресса, но как следствие того, какую функцию подобный закон сегодня выполняет в экономике. Потребность, которая могла бы ускользнуть из-под гнета централизованного контроля, подавляется контролирующим импульсом, исходящим от индивидуального сознания. Переход от телефона к радио способствовал четкому разделению ролей: если либеральность телефона еще позволяла участнику выступать в качестве субъекта, то демократичность радио всех превращает в слушателей, предоставленных во власть радиостанций, передачи которых в принципе не отличаются друг от друга. Способы выражения несогласия так и не получили должного развития, а частные каналы вещания не обладают необходимой свободой. Их поле деятельности ограничивается сомнительной областью «радиолюбительства», к тому же еще и иерархически организованной. Любое спонтанное проявление активности публики в официальном радиовещании подчинено профессиональному отбору и поглощается теми, кто ищет таланты, проводит конкурсы и разного рода спонсируемые мероприятия. Талант включается в производственную схему задолго до того, как будет представлен публике, иначе бы он не мог с такой тщательностью вписаться в систему. Психология публики, не только предположительно, но и реально поощряющей существование культурной индустрии, является частью системы, а вовсе не ее оправданием. Если в одной области искусства руководствуются теми же принципами, что и в области, совершенно не сходной с нею ни по форме, ни по содержанию, если драматургия «мыльной оперы» на радио используется как руководство по преодолению технических сложностей джазового исполнения, как на уровне джем-сейшена, так и в игре музыкантов высочайшего класса, если к так называемой адаптации фрагмента из произведения Бетховена подходят так же, как к экранизации романа Толстого, то отсылки к произвольно высказанным пожеланиям публики кажутся не более чем пустой отговоркой. Гораздо более правдоподобно выглядят аргументы, основывающиеся на весомости самого технического инструментария и квалификации рабочей силы, которые, несомненно, в любом отношении должны пониматься как часть механизма экономического отбора. К этому присовокупляется договоренность – или, по крайней мере, общее намерение – управляющих органов не производить или не пропускать ничего, что не соответствует их планам, их представлениям о потребителях или, прежде всего, их представлениям о самих себе.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

