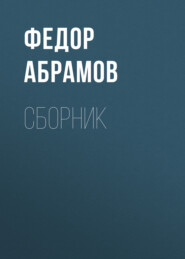скачать книгу бесплатно
– А ночью-то не струсишь с бабой встретиться?
– Чего плетешь? – крикнула на Варвару Марфа. – Знай, с кем шутить.
– Ты, Марфинька, не думай. Он из молодых, да ранний. На днях идем к реке с тобой, Дарка? – что за диво? Кавалера да барышню только что впереди видели, а повстречали – одна Дунярка. Куда девался кавалер? Смотрим, а кавалер наш сидит в ляге. Голову в землю уткнул, одна рубаха белеет. Верно говорю, Мишка?
Мишка стоял, сжимая кулаки в карманах, и ненавидящим взглядом провожал женщин, проходивших мимо него по меже.
Вдруг он с ужасом увидел: к нему по полю бежит Дунярка… Топ, топ, топ…
– Чего тебе? – прохрипел Мишка.
– Миша, знаешь чего, кино сегодня. Так ты приходи. А как кончится кино, подожди меня за клубом. Знаешь, у братской могилы. Ладно? Я завтра уезжаю.
Дунярка, доверчиво взглянув Мишке прямо в глаза, сунула ему что-то в руку:
– Это тебе… сама вышивала…
Зашуршала солома под убегающими ногами.
Мишка разжал руку. На ладони лежал крохотный, как цыпленок, пестренький платочек.
Заливаясь краской, он повертел головой: «Ну и ну, вот так штука…»
– Что, Дунярка, поговорила с дролечкой? – Это опять Варвара.
«Ну, погоди у меня, – стиснул зубы Мишка. – Тресну где-нибудь из-за угла, небось язык-то сразу покороче станет».
Глава тридцать девятая
Кончив работать, Мишка быстро выгнал лошадей на свежую отаву и, радостно крикнув им: «До завтра!» – выбежал на полевую тропинку.
Солнце уже опускалось на верхушки леса. В низинах поднимался туман.
Рысью, рысью, Мишка!
В придорожных кустах лениво вспархивают потревоженные птахи, отогнутые голенища сапог хлопают, как крылья.
…Надо будет рубаху надеть сатиновую, а то как трубочист. И как это она при всех подошла давеча?.. Платочек подарила. А чего с ним делать, с этим платочком? Увидят ребята – обсмеют. Отец-то у нее черт догадливый. Как в воду глядел. Наверно, придется жениться на Дунярке. Ну и что, все женятся…
Терпко запахло конопляниками. Вот и болото. За болотом серая крыша гумна с молотилкой, бани, первые дома, а там и их дом.
Тропинка, огибая старую насыпь камешника, сворачивала на широкий разъезженный большак. Мишка приостановился, посмотрел на петляющую стороной дорогу. Э, давай прямо, раза в два ближе.
По голенищам захлестало росяной травой, сыро… Трещат сучья под ногами. Кусты, кусты… Вязнут ноги, хлюпает вода. Бывает же такая пакость на земле! Потом клочья, клочья… Раз прыжок, два прыжок… Выбрался! Сухое болото, редкие сосенки-мутовки. Нестерпимо запахло багульником, из-под ног дробью посыпались мелкие лягушата. Вот где приманки-то для щук… И как это он раньше не догадался?
На деревне хлопнул движок. Мишка вздрогнул. Неужели началось кино? Еще хлопок, еще – и смолкло. Нет, это моторчик пробовали.
Ах, Дуняра, Дуняра! И как это – после кино за клубом? А ну как увидят? Ну и пускай… Вот возьмет да сядет в кино рядом назло всем.
Быстро надвигается стена гумна. Жми, жми, Мишка! Ух, вот и дорога, гумно… Надо хоть немножко сапоги о траву вытереть.
Что это там? Крик на гумне?
– Под суд захотела? – Да ведь это же голос Анфисы Петровны. Кого она так разделывает?
В несколько прыжков он достиг стены гумна, припал глазами к щели.
Мамка?.. Чего это она сидит у вороха зерна и лицо руками закрыла? Над матерью – Анфиса Петровна, тычет ей рукой в колени:
– Ты подумала, что сотворила? Подумала?
Страшная догадка мелькнула у Мишки: ему показалось, что на переднике у матери зерно.
– Да за такое дело знаешь что? На десять лет сажают.
Рука его скользнула по стене, и он ткнулся коленом в землю. Встал, медленно побрел прочь. Вдогонку ему голос Анфисы Петровны, всхлипывания матери.
Он вздрогнул, спотыкаясь побежал.
У колодца шум, говор, смех. Его как подбросило. Наверно, все, все знают…
Он кинулся с дороги в сторону и, нагнувшись, побежал картофельниками. Потом перелезал через какие-то изгороди, жался к стенам домов, чтобы избежать встречи с людьми, опять перелезал через изгороди. Темной стеной встал перед ним кустарник. Он оглянулся – ничего не видно; сел в траву.
– Робятища, жмите, жмите ее…
Да ведь это Лизка с ребятами овцу загоняет. Откуда Лизка? Почему Лизка? Приподняв голову, он поглядел вокруг себя и в темноте справа различил амбар. Так он в своем огороде…
Голубым чудесным виденьем вспыхнуло перед ним жаркое июньское утро… Отец… прощание с ним…
Затрещал движок у клуба. Мишка вскочил на ноги, сделал несколько шагов и опять сел. Нет, нет…
Глухое отчаяние придавило его к земле. Ему было жалко себя, жалко Дунярку. Наверно, опять подумала: надул Мишка…
В кустах что-то зашуршало, забарабанило. На лицо ему упало несколько капель. Дождь… Но он даже не пошевелился.
Потом дождь перестал, и на черном небе высыпали холодные, бесконечно далекие звезды.
Громко хлопал движок у клуба.
А он все сидел в мокрой траве – один на один с этим огромным непонятным миром – маленький, несчастный, и молча плакал…
Глава сороковая
Весь вечер – разговаривала ли Анфиса с людьми в правлении, доила ли дома корову – из головы у нее не выходил случай на молотилке. Анну Пряслину – за таким делом застала… Да что она, с ума сошла? Не себя, так хоть бы ребят-то пожалела…
Ей вспомнился давнишний случай. Года за три до войны вот так же захватили с колосом Марфу Яковлеву. И всего-то с килограмм было. А вскоре дом заколотили, детей забрала к себе сестра. Нет, нет… – говорила себе Анфиса. Чтобы она да своими руками… Этаких-то малышей… Мало их война осиротила…
В полном отчаянии, не зная, на что решиться, она села ужинать. Кусок не лез в горло. Гнев и обида душили ее. Разве не могла она, та же самая Анна, попросить добром? Да разве она, Анфиса, не заботилась о ней? Кажись, кому-кому, а ей не отказывала.
Хлопнули ворота, стук в дверь.
– Что там еще за стуки? Входи.
Дверь отворилась, и порог переступил кто-то мокрый, сгорбившийся. Мишка!..
В сердце Анфисы вдруг что-то кольнуло.
– Ты чего не в кино? Где тебя носило? Весь мокрый – как из воды. Садись со мной ужинать.
Мишка отрицательно мотнул головой, сел к печке.
– Да что с тобой? Ты здоров, парень?
– Отправь меня в ремесленное… – глухо сказал Мишка, не поднимая головы.
– Тебя? В ремесленное?
Она взяла со стола керосинку, подошла к нему, осветила.
Он сидел с опущенной головой. С мокрых, взъерошенных волос капала вода, одежда и сапоги захлестаны грязью, травой, – как, скажи, по земле катали его.
Она сунула керосинку на печку, наклонилась над ним, взяла за подбородок:
– Где тебя так?.. – и осеклась. В лицо ей глянули измученные, исстрадавшиеся глаза – и она без слов поняла: все знает…
– Дай справку, а то сам убегу.
Она медленно выпрямилась:
– А ты подумал… о ней-то?..
Мишка остервенело взмахнул кулаком:
– Раз так – к черту! Пущай как знает…
– Ты что говоришь? Что говоришь? – вскипела Анфиса. – Это о матери-то? Это мать-то родную к черту? Молокосос! Мать о них убивается, света белого не видит. Ты смотри, на кого она похожа – как щепка высохла.
– А мне, думаешь… Я сам… я сам… Папа на фронте… а она…
Мишка схватился руками за голову и затрясся в рыданиях.
Она смотрела на его костлявые вздрагивающие лопатки, обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой, на его худые красные руки с большими кистями…
Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок. Вишь, и шея – каждый позвонок наперечет. А мы навалились, как на мужика, замучили парня. На днях на час выехал позже в поле – проспал, наверно, так она же его и разругала. А сколько ему – это в его-то годы? – пришлось пережить, перестрадать? Отца убили, семья – мал мала меньше. А тут еще с матерью…
– Ну что ты, Миша, не надо. Сейчас всем тяжело… А ты пойми мать-то, ее тоже понять надо. Разве она… от хорошей жизни? Разве она для себя? Жизнь, Мишенька… Ох, как тяжело… А куда она без тебя? Ну посуди ты сам, куда она без тебя? Нехорошо ты надумал, Михаил.
Мишка, вздрагивая всем телом, еще ниже наклонил голову.
– А мы-то как, колхоз!.. Ты ведь работник – золото! Вчера женки говорят, ну кабы не Мишка, пропадать на Синельге до самого снегу. А домашние луга? Не Татьяну же Рудакову благодарить.
Мишка, ширкая носом, недоверчиво приподнял заплаканное лицо.
– А о матери ты не думай. И слова никому не говори. Приди домой и виду не показывай. Ты ведь мужик, смотри какой! – мать-то небось до плеча будет…
Раскрытый рот у Мишки опять задрожал.
Ей было жалко, ох как жалко этого славного, работящего паренька, которого так рано ушибла жизнь!
Она сняла с головы платок, протянула ему:
– На-ко, вытрись. Ты думаешь, она что?.. – снова заговорила Анфиса, собираясь с мыслями. – Помнишь, весной семян хватились – а их нету… Вот кого под суд отдавать надо. А твою матерь… Да за что же? – обратилась она с вопросом не столько к Мишке, сколько к самой себе.
Потом она придвинулась к нему ближе, обняла за мокрые плечи. Он попытался отодвинуться, но рука ее, теплая, ласковая, удержала его. На печке слабо потрескивал фитилек керосинки, чуть-чуть раздвигая избяную темень. Она глядела на осунувшееся, носатое лицо Мишки и, еще крепче прижимая его к себе, шептала:
– Ничего, ничего, Миша. Все пройдет, пройдет это… А как кончится война, вот заживем… Дома выстроим новые, в каждом доме коровы, овцы будут… и хлеба – сколько хошь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станем. И ты – большой, сильный, как отец… И Лизка вырастет, и ребята вырастут. Да как все-то вшестером на пожню выйдете… Целая бригада Пряслиных. А сейчас ты им заместо отца – понимаешь?
Мишка вышел от Анфисы Петровны, когда в клубе уже не было огня. Темень, хоть глаз выколи. Он брел посередине дороги, хлопая по лужам, по грязи. Сверху надоедливо моросило.
Дома – крохотный огонек. На дороге – тень матери. Его ждет…
Он потихоньку подошел к окошку. Мать сидела, приткнувшись к столу, прикрыв рукой лицо. Голова ее то клонилась вниз, то снова поднималась.
Сидя спит, а ждет… Сердце его дрогнуло от жалости.
Он кинулся к воротцам, с трудом нащупал крючок. Но у крыльца опять остановился. По крыше монотонно шуршал дождь, натужно пыхтела во дворе корова. И то, что еще недавно, после разговора с Анфисой Петровной, казалось таким простым и легким, снова тяжелым камнем легло ему на сердце.
Глава сорок первая
Сводки с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Что ни день падали новые города. Черные клинья на юге все глубже врезались в тело страны.
По вечерам теперь редко кто подходил к карте. Люди торопливо справляли свои дела и, неразговорчивые, угрюмые, избегая взглядов друг друга, словно они сами во всем были виноваты, выходили из правления. От тяжелых дум спасались только в работе. Трудились молча, с ожесточением, и редко-редко вспыхивала на поле шутка. Даже дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым.
В полдень деревня казалась нежилой: лишь у какой-нибудь избы на завалинке можно было увидеть одинокую дряхлую старуху, которая непослушными старческими руками творила крестное знамение да шептала молитвенные слова о ниспослании победы над ворогом…
И вдруг в эти тяжелые дни газеты принесли потрясающую новость: наши наступают!
«От Советского Информбюро. В последний час… – по складам, с трудом веря тому, что написано, читала Анфиса. – Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40–50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи…»
Через час эта новость облетела всю деревню. А к вечеру, несмотря на то что дождило, у правления колхоза собралась толпа женщин и ребят. Всем не терпелось своими ушами услышать радостные вести из Москвы. Надежду Михайловну, заменявшую теперь Настю в роли комсорга, засадили за радиоприемник: не пропусти, улови известия.
У крыльца, под новым навесом, шутили, смеялись. Ребята, чтобы не прозевать начала известий, мокли под раскрытым окном, на подоконнике которого был выставлен радиоприемник.
Толпа еще больше оживилась, когда на дороге показался Трофим Лобанов. Он топал прямо посередке дороги, не разбирая ни луж, ни грязи, и время от времени что-то выкрикивал своим утробным голосом.
По сторонам за ним, не смея приблизиться вплотную, бежали босоногие ребятишки, донельзя довольные этим зрелищем.
– Ну как в старое времечко, – усмехнулась Варвара. – А я уж думала, война и Троху доконала. После смерти Макаровны темнее тучи ходил, а он, вишь, вот снова воскрес.