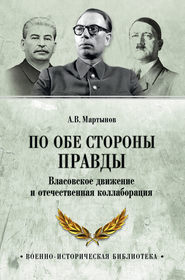скачать книгу бесплатно
Вышедший из машины человек поразил нас свои видом, абсолютно сходным с нашим представлением о легендарном герое»[117 - Черкассов К. Генерал Кононов: Ответ перед историей за одну попытку. Т. 1. С. 115–116.].
Также следует выделить работы, напрямую не связанные с историей военной коллаборации.
Историк Александр Даллин в книге «Германское управление в России 1941–1945» проанализировал генезис и функционирование военной и гражданской немецкой администрации на оккупированных территориях. Различные формы военной коллаборации представлены в контексте их взаимодействия с властным аппаратом. Что же касается собственно коллаборационистских формирований, то, согласно Даллину, «история Восточных войск была полна трагических парадоксов»[118 - Dallin A. German Rule in Russia 1941–1945. London: MacMillan, New York: St. Martins Press, 1957. P. 551.]. Тема Даллина была продолжена Джеральдом Рейтлингером в монографии «Дом, построенный на песке. Конфликты немецкой политики в России»[119 - Reitlinger G. The House built on Sand, the conflicts of German policy in Russia, London: Weidenfeld and Nicolson, 1960. Русский перевод: Рейтлингер Дж. Цена предательства. Сотрудничество с врагом на оккупированных территориях СССР. 1941–1945. М.: Центрполиграф, 2011.]. Давая общую оценку коллаборации, Рейтлингер считал ее «не просто трагичной», но и «потрясающе дикой»[120 - Рейтлингер Дж. Цена предательства. С. 31.]. К сожалению, последняя книга также не лишена существенных ошибок. Так, например, согласно Рейтлингеру, бригадный комиссар РККА, генерал-лейтенант Георгий (в книге Григорий) Жиленков попал в плен, когда самолет с ним «был подбит в августе 1941 г. во время полета над германскими фронтовыми позициями в районе Смоленска»[121 - Рейтлингер Дж. Цена предательства. С. 408–409.]. В реальности Жиленков был взят в плен 14 октября с группой военнослужащих под Вязьмой[122 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 399–400. Возможно, Рейтлингер пользовался ошибочной датировкой, взятой из книги Двинова (Двинов Б. Власовское движение в свете документов. С. 55).]. РОНА никогда не была «белогвардейской армией»[123 - Рейтлингер Дж. Цена предательства. С. 36.].
Много аналитических статей и ценных, в том числе архивных, материалов также содержатся в тематических сборниках, вышедших под редакцией Михаила Шатова, Александра Окорокова, и Андрея Мартынова[124 - Шатов М.В. (ред.). Материалы и документы ОДНР в годы 2-й мировой войны. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1966; Окороков А.В. (ред.). Материалы по истории Русского освободительного движения 1941–1945 гг. Вып. 1. М.: Грааль, 1997; Вып. 2. М.: Архив РОА, 1998; Вып. 4. М.: Архив РОА, 1999; Мартынов А.В. (ред.). История отечественной коллаборации: Материалы и исследования. М.: Старая Басманная, 2017.].
Также большой корпус материалов (14 российских и зарубежных архивов) содержится в книге «Генерал Власов: история предательства»[125 - Артизов А.Н., Христофоров В.С. (отв. ред.). Генерал Власов: история предательства. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2015.]. Помимо документов, связанных с сотрудничеством главы КОНР с немцами, в сборнике приводятся допросы фигурантов процесса 30 июля – 1 августа 1946 г. и других коллаборантов (полковника Николая Бушманова, подполковника Василия Жуковского, майора Михаила Тарновского) и родственников подсудимых (Елена Жиленкова-Литвинова). В конце опубликованы мемуары, дополняющие приведенные ранее документы. В частности, читатель может ознакомиться с беседой историка и журналиста Юргена Торвальда со штандартенфюрером Гюнтером д’Алькеном о встрече Власова и Гиммлера, а также с воспоминаниями адъютанта генерала капитана Ростислава Антонова, повествующими об участии власовцев в освобождении Праги в мае 1945 года.
Вместе с тем редакторы книги (Андрей Артизов и Василий Христофоров) некритически отнеслись к публикуемым источникам. Так, касаясь материалов досудебного следствия, следует обратить внимание, что допрос Власова 16–25 мая 1945 г. занимает 24 страницы, на каждой из которой есть еще и примечания публикаторов. А допрос командира 1-й дивизии ВС КОНР генерал-майора Сергея Буняченко от 18 сентября 1945 г., который был начат в 11.40, а окончен в 13.20 составил неполную страницу текста.
Не исправлены (или не откомментированы) ошибки в переводах. Так, на первом допросе Власова в немецком плену говорится, что он учился в «монастырской школе»[126 - Генерал Власов: история предательства. Т. 1. С. 86.]. В реальности здесь речь идет о духовной семинарии. Не оговорены в соответствующих комментариях ряд ошибок, содержащихся в самих документах. В частности, первый глава Локотской оккупационной администрации Константин Воскобойник назван Воскобойниковым, а капитан ВС КОНР граф Григорий Ламсдорф – Лямцдорфом[127 - Генерал Власов: история предательства. Т. 2. Ч. 1. С. 168, 189; Т. 2. Ч. 2. С. 516; Т. 1. С. 486.].
Следует назвать критические работы таких отечественных историков и публицистов, как Леонид Решин, Александр Колесник, Анатолий Бахвалов, Олег Смыслов, Сергей Чуев и Николай Коняев, введших в научный оборот ряд документов из российских архивов. Они связаны как с общим анализом коллаборации, так и с биографией генерала Власова до пленения его немцами, в том числе и в период командования им 2-й ударной армией, а также с судебным процессом над лидерами КОНРа[128 - Решин Л. Коллаборационисты и жертвы режима // Знамя. № 8. 1994. С. 158–179; Колесник А. РОА – власовская армия. Судебное дело генерала А.А. Власова. Харьков: Простор, 1990; Колесник А. Грехопадение? Генерал Власов и его окружение. Харьков: Простор, 1991; Колесник А. Генерал Власов – предатель или герой? М.: Техинвест, 1991; Бахвалов А.Л. Генерал Власов. Предатель или герой? СПб.: ВШ МВД России, 1994; Смыслов О. «Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова. М.: Вече, 2004; Чуев С. Проклятые солдаты. М.: Эксмо; Яуза, 2004; Чуев С. Власовцы – пасынки Третьего рейха. М.: Эксмо; Яуза, 2006; Коняев Н. Власов. Два лица генерала. М.: Вече, 2003.]. Как правило, в данных книгах и статьях отсутствует атрибутация публикуемых источниов или их фрагментов, что снижает научную ценность упомянутых работ. Также они некритично воспринимают рассматриваемые источники. Есть и более серьезные ошибки. Например, тема книги Бахвалова не до конца соответствует названию. Работа в основном посвящена различным аспектам коллаборации на северо-западе (в основном Ленинградская и Псковская области). Располагавшиеся там военные структуры формально входили в состав РОА, но реально Власову не подчинялись. Также Бахвалов некритически относится к приводимым им документам, в частности показаниям коллаборантов, данных сотрудникам советских контрразведывательных органов. Исследователь практически не пользовался исследованиями по теме РОД. Содержит работа и прямые фактические ошибки. В книге Бахвалова генерал-майор Ассберг назван бывшим командиром танковой бригады РККА, в то время как в структуре автобронетанковых войск он последовательно занимал должности преподавателя тактики, а затем помощника начальника снабжения бронетанковых курсов усовершенствования командного состава, начальника автобронетанкового снабжения войск 15-й армии, начальника бронетанковых войск Архангельского военного округа, начальника отдела автобронетанковых войск полевого управления сначала 28-й, 43-й, а затем 57-й армии, заместителя командующего 57-й армии по тылу. Последняя должность Ассберга – замкомандующего 57-й армии по танковым войскам[129 - Бахвалов А.Л. Генерал Власов. Предатель или герой? С. 70.].
Есть ошибки и в статье Решина. В ней было сказано, что Гиль-Родионов «погиб в бою с преследователями» при переходе «Дружины» на сторону партизан[130 - Решин Л. Коллаборационисты и жертвы режима. С. 171. Решин почему-то везде фамилию командира «Дружины» писал как Гилль вместо Гиль.]. В реальности Гиль-Родионов погиб 9 месяцев спустя, возглавляя 1-ю антифашистскую бригаду, основу которой составили бывшие «дружинники».
Настоящее исследование не является общей историей отечественной коллаборации. Цель книги критически разобрать некоторые устойчивые мифы, как правило, созданные самими коллаборантами или их недобросовестными критиками, которые вошли не только в мемуарную, но и научную литературу.
Также на основе ранее не публиковавшихся материалов дополняется история различных коллаборационистских формирований.
Первая часть книги опровергает мифы о коллаборации. Вторая часть посвящена истории и становлению коллаборации в довласовский период. Третья часть восстанавливает малоизученные аспекты истории Вооруженных сил Комитета освобождения народов России и политической эволюции КОНР.
В настоящей работе на основе архивных источников впервые реконструирована история ранее практически неизвестного коллаборационистского формирования в составе 9-й полевой армии вермахта «Белые кресты», а также дополнены сведения по уже известным формированиям (1-й РНА, РОНА, РОА). В частности, приводится неизвестное письмо генерала Сергея Буняченко, приводятся ранее неизвестные материалы о встречах Петра Краснова и Андрея Власова.
В конце глав в приложении приводятся документы по рассматриваемой в ней тематике. Наряду с малоизвестными (или вообще неизвестными) источниками для удобства читателя републикуются и ранее введенные в научный оборот материалы.
Все документы цитируются в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Разрядка и подчеркивания в цитатах даются курсивом, авторские сокращения раскрываются полностью.
Архивные материалы предоставлены Гарвардским университетом, Гуверовским институтом войны, революции и мира (США), Федеральным архивом, Федеральным военным архивом, Институтом современной истории (ФРГ), Государственным архивом (Княжество Лихтенштейн), Центральным государственным архивом высших органов, Государственным архивом Витебской области (Беларусь), Центральным государственным архивом общественных объединений (Украина), Российским государственным архивом социально-политической истории, Домом Русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Центром новейшей истории Брянской области (Россия), а также частными лицами.
В тех случаях, когда оригинал рукописи отличается от издания, отсутствующие фрагменты цитируются по материалам архива. Так, не вошедшие в книгу генерал-майора Митрофана Моисеева «Былое. 1894–1980»[131 - Моисеев М. Былое. 1894–1980. Сан-Франциско: Глобус, 1980.] эпизоды воспроизводятся по рукописи «Зондерштаб. Воспоминания из прошлого 2-й Отечественной войны – сороковые года», которые хранится в архиве Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына[132 - Моисеев М. Зондерштаб. Воспоминания из прошлого 2-й Отечественной войны – сороковые года // Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына. Ф-1/Ав-1.].
Англоязычные версии книг (В. Штрик-Штрикфельдта, С. Стеенберга) имеют отличия от русского перевода[133 - Strik-Strikfeldt W. Against Stalin and Hitler. New York: John Day Company, 1973; Steenberg S. Vlasov. New York: Alfred A. Knopf Inc., 1970.]. В случае если в русском тексте отсутствуют факты, содержащиеся в английском варианте, цитируется последнее издание. Точно также используется английское издание, если русский перевод содержит ошибки (Е. Андреева[134 - Andreev C. Vlasov and the Russian Liberation Movement: Soviet Reality and Emigrе Theories. Cambridge: University Press, 1987.]).
Полная библиография приводится в конце книги.
Автор считает своим долгом и приятной обязанностью выразить искреннюю признательность за помощь в работе и строгую критику Берте Азарновой, Сигизмунду Дичбалису (Австралия), Юрию Мордвинкину (США), Валентине Благово, Ольге Волкогоновой, Наталье Давыдовой, Екатерине Ивановой, Ларисе Долбиной, Любови Цукановой, Светлане Шешуновой, Юлии Щербининой, Владимиру Александрову, Олегу Бэйде, Сергею Василенко, Михаилу Высоцкому (Беларусь), Дмитрию Жукову, Ивану Ковтуну, Игорю Кондакову, Сергею Нехамкину (Беларусь), Игорю Петрову, Сергею Сапожникову, Константину Семенову, Борису Соколову, Михаилу Талалаю, Леониду Чекину, Олегу Шевцову, Владимиру фон Шлиппе, Олегу Шикову, Арону Шнееру (Израиль).
Часть I
Глава 1. Социология коллаборации
История Русского освободительного движения (РОД), возникшего в годы Второй мировой войны, и его лидера генерал-лейтенанта Андрея Власова тесно связана с большим количеством мифологем.
Анализируя Русское освободительное движение, необходимо учитывать, что оно возникло до сдачи Власова в плен (12 июля 1942 года) и с самого начала приняло довольно широкий характер. Согласно официальным данным, потери личного состава Северо-Западного фронта пленными и пропавшими без вести в 1941 году составили 142 190 человек, то есть 52,64 % от числа общих безвозвратных потерь. Западный фронт потерял 798 465 (61,52 %), Юго-западный фронт – 607 860 (71,36 %), Южный фронт – 188 306 (60,3 %), Брянский фронт – 138 417 (69,79 %), Ленинградский фронт – 74 280 (22,54 %), Карельский фронт – 18 685 (24,02 %), Калининский фронт – 18 866 (15,92 %)[135 - Кривошеев Г. (ред.) Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М.: Воениздат, 1993. С. 234, 236, 240, 242, 246, 248, 250, 252.]. Естественно, не все из попавших в плен сдались добровольно, а из пропавших без вести дезертировали. Часть погибла, но в ходе отступления не была учтена. Также часть штабной документации была уничтожена в ходе боев, что привело к определенным лакунам в статистике.
Всего же за годы войны, по разным подсчетам, в плен попали от 4,5 млн человек, из которых погибло свыше 1 млн, до почти 6 млн (4 млн погибших)[136 - Кривошеев Г. (ред.) Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. С. 338; Дугас И., Черон Ф. Вычеркнутые из памяти. С. 409.].
Для сравнения: во время войны Судного дня (6–26 октября 1973 г.) египтяне и сирийцы пленили 365 военнослужащих Армии обороны Израиля. Большинство из них (около 300) было захвачено в боях за приграничные позиции (линия Суэцкого канала, Хермон) на второй-третий день боев ранеными, без боеприпасов, воды и связи. Никто из солдат не сдался без боя. Следственная комиссия после войны признала действия всех пленных легитимными и не противоречащими положениям АОИ (лишь один офицер был осужден за разглашение top secret неприятелю).
Зададимся вопросом, на каком основании подразделение – во главе с офицерами, с достаточным вооружением – может прекратить сопротивление и сдаться в плен? И не только сдаться, а перейти на сторону противника. Так 22 августа 1941 года поступил 436-й пехотный полк майора Ивана Кононова (по другой версии – часть полка)[137 - Thorwald J. Wen Sie Verderben Wollen. S. 70–80; Окороков А.В. Казаки и Русское освободительное движение // Материалы по истории Русского освободительного движения 1941–1945 гг. Вып. 1. С. 234–235; Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 240.По мнению Кирилла Александрова, переход был совершен лишь одним батальоном 436-го полка (Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова. С. 493, 504). В протоколе допроса Кононова, сделанного немцами на следующий день после его сдачи, отмечено, что он «решительно и добровольно с тремя ротными командирами перешел к нам» (Новые документы к биографии генерал-майора И.Н. Кононова // Русское прошлое. № 12, 2013. С. 264). Вместе с тем, фотокопия страницы из дневника Кононова содержит следующий текст: «Сегодня 22 августа 1941 г., добровольно со своим полком перешел в открытую борьбу против советской власти» (Черкассов К. Генерал Кононов: Ответ перед историей за одну попытку. Т. 1. Между С. 115–116).], включая часть политработников[138 - «Впоследствии, комиссар полка Дмитрий Панченко (также перешедший с полком) часто рассказывал, что у него волосы стали дыбом от слов командира полка», объявившего о своем решении (Черкассов К. Генерал Кононов: Ответ перед историей за одну попытку. Т. 1. С. 123).].
Правда, бывший офицер РККА, ставший в плену служащим Отдела пропаганды вермахта (OKW WPr), Владимир Валюженич (Берг, Валин, Волошин, Кержак)[139 - Имя установлено по письму Кержака Николаевскому (декабрь 1949 г.). Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky Collection, Box 472, Folder 31.] относил начало массовой коллаборации к октябрю – ноябрю 1941 года, когда стало ясно, что объяснить поражения Красной армии «изменой» невозможно[140 - Кержак В. Шталаг 13Д // Новое русское слово. 28.08.49.].
В принципе, события лета – осени 1941 года имели некоторые аналоги (массовая сдача в плен) с ситуацией второй половины 1917 года, а точнее – с разложением армии непрофессиональным руководством Временного правительства (печально знаменитый приказ № 1) и германо-большевистской пропагандой. Так, в частности, в ходе операции Albion (29 сентября – 20 октября 1917 года) по захвату Моонзундского архипелага немцы в ходе высадки десанта и установления контроля над островами, потеряв примерно 400 человек, взяли в плен около 20 тыс. военнослужащих[141 - Luntinen P. The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808–1918. Helsinki: SHS, 1997. P. 350.].
Справедливости ради следует отметить, что в начале войны имели место и переходы военнослужащих противника на сторону Красной армии. Именно так в ночь с 21 на 22 июня поступил унтер-офицер вермахта Альфред Лискоф (Лисков). Он, в частности, сообщил о готовящемся нападении Германии. А 25 июня перелетел на киевский аэродром экипаж бомбардировщика Ю-88 (командир унтер-офицер Ганс Герман). На следующий день опустился еще один экипаж люфтваффе. Правда, подобные переходы, в отличие от сдачи в плен немцам, никогда не носили массового характера, в том числе и в конце войны. Тогда вермахт предпочитал капитуляцию перед союзниками.
К «довласовскому» периоду относятся и предложения пленных старших офицеров и генералитета предоставить свои услуги немцам. Так, например, 17 июля 1941 года командир 48-й стрелковой дивизии генерал-майор Павел Богданов сдался в плен. Спустя 2 месяца, 18 сентября, он заявил о готовности сформировать из военнопленных отряд для действий на Восточном фронте. 26 августа 1941 года перешел на сторону противника командир 102-й стрелковой дивизии комбриг Иван Бессонов. В апреле следующего года он выступил с предложением создания антипартизанского корпуса, а в сентябре, в рамках акции РСХА «Цеппелин» (Zeppelin) (проведение разведывательно-диверсионной деятельности с массовым использованием военнопленных) разрабатывал план десанта в районе концлагерей с целью нарушения тыловых коммуникаций в районах Транссибирской магистрали, Северной Двины, Печоры и Енисея[142 - Смыслов О. «Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова. С. 475–477.].
Важно иметь в виду, что коллаборанты представляли в процентном отношении довольно точную копию советского общества. Рассмотрим социальное происхождение осужденных на московском процессе 30 июля – 1 августа 1946 года руководителей РОД: Андрей Власов (из крестьян), Иван Благовещенский (из семьи священника), Дмитрий Закутный (из крестьян), Василий Малышкин (из семьи потомственных почетных граждан), Федор Трухин (из дворян), Георгий Жиленков (из крестьян), Сергей Буняченко (из крестьян), Григорий Зверев (из рабочих), Виктор Мальцев (из крестьян), Михаил Меандров (из семьи священника), Владимир Корбуков (из крестьян), Николай Шатов (из крестьян). К ним можно добавить судившихся отдельно Михаила Богданова (из рабочих), Владимира Арцезо (Ассберг, Ассбергьянс) (из мещан), Андрея Севастьянова (из мещан), Александра Будыхо (из рабочих), Тимофея Доманова (из казаков), Героев Советского Союза капитана ВВС РОА Бронислава Антилевского и майора ВВС РОА Семена Бычкова (оба из крестьян), а также казненных чешскими партизанами Владимира Боярского (Баерского) (из рабочих) и Михаила Шаповалова (из крестьян). Интересно, что если посмотреть на командиров Русского охранного корпуса, состоявшего в основном из эмигрантов или их потомков, то нельзя не обратить внимание на ту же тенденцию к «демократичности»: Михаил Скородумов (из дворян), Борис Штейфон (из купцов, по другой версии из мещан) Анатолий Рогожин (из казаков)[143 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945.].
Парадоксально, но не остались в стороне и партийные функционеры. Один из ближайших сподвижников Власова, Милетий Зыков, не считал нужным скрывать свои марксистские убеждения. Михаил Китаев вспоминал, что «Зыков в области политической экономики, несмотря на свои антибольшевистские убеждения, был последовательным марксистом. Точно так же, в области философии, не вдаваясь как неспециалист в глубокие дискуссии, он говорил, что, может быть, диалектический материализм и можно опровергнуть и раскритиковать, но что все известные ему в этом направлении попытки кажутся ему крайне неубедительными». В свою очередь Владимир Кержак писал Борису Николаевскому 28 августа 1949 года: «Мое личное мнение о З<ыкове> – типичный большевик, оппозиционер-бухаринец (=“идеалист”). “Хоть с чертом, но против Сталина”. То же, что он был и остается марксистом, он никогда не скрывал»[144 - Китаев М.М. Русское Освободительное Движение. Материалы к истории Освободительного движения народов России (1941–1945). С. 65. HIA, Boris I. Nicolaevsky Collection, Box 472, Folder 31.]. По некоторым сведениям оставался коммунистом и генерал-майор Дмитрий Закутный[145 - Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. С. 185; Богатырчук Ф. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту. С. 183–184. Правда, Борис Прянишников (Андрей Лисовский), служивший в Главном гражданском управлении КОНР, которое возглавлял Закутный, считал, что генерал «к былой своей партийности относился как к тяжелому недоразумению… Кое-что от марксизма продолжало жить в его сознании… по мере ознакомления с Западом и русской эмиграцией, он отказывался от навязанных ему марксистских взглядов» (Прянишников Б. Новопоколенцы. С. 177).]. К числу политработников, вступивших в РОА, можно отнести бригадного комиссара РККА Георгия Жиленкова и батальонного комиссара Петра Каштанова (в эмиграции Михаила Шатова). Интересно, что и один из лидеров французского коллаборационизма, Жак Дорио, около пятнадцати лет являлся членом компартии. Он состоял членом исполкома Коминтерна и секретарем Французской федерации молодых коммунистов (аналога советского комсомола).
К 5 мая 1943 года, когда Власов, скорее номинально, чем реально, возглавлял коллаборационистские силы, они «в рамках вермахта насчитывали 90 русских батальонов, 140 боевых единиц, по численности равных полку, 90 полевых батальонов восточных легионов и не поддающееся исчислению количество более мелких военных подразделений, а в немецких частях находилось от 400 до 600 тысяч добровольцев (Hilfwillige – добровольные помощники, или hiwi. – А.М.)[146 - По мнению историка Сэмюэля Ньюланда, в марте 1943 года их число составило 310 000 человек (Newland S. Cossacks in the German army 1941–1945. London: Frank Cass & Co., Ltd., 1991. P. 89).]. Под германским командованием состояло несколько довольно крупных “русских” формирований (1-я казачья дивизия, несколько самостоятельных казачьих полков, калмыкский кавалерийский корпус)»[147 - Хоффманн Й. История власовской армии. С. 7–8. Непонятно, почему в этот список не вошла бригада Каминского.].
Общая численность антисоветских формирований в составе вермахта и ваффен СС сильно отличается в разных источниках. Согласно официальным российским данным, коллаборантов было свыше 800 тыс. человек[148 - Аналогичную цифру приводит и Джеральд Рейтлингер (Рейтлингер Дж. Цена предательства. С. 26, 37).]. В то же время, по мнению главы организационного отдела генштаба вермахта генерал-майора Буркхарта Мюллер-Гиллебранда, всего в войсках служило от 1 до 2 млн человек. Из них на ваффен СС приходится более 150 тыс.[149 - Muller-Hillebrand B. Das Heer, 1933–1945. Frankfurt am Main: E.S. Mittler & Sohn, 1969. S. 143; Кривошеев Г. (ред.) Гриф секретности снят. С. 385.] Данные цифры довольно приблизительны и нуждаются в коррекции как в рамках общей статистики, так и рассматриваемой в настоящей книге проблематики. Она включает национальные формирования из числа бывших советских граждан, использовавших немецкое вторжение как повод к возобновлению или активизации освободительной борьбы[150 - Эстонский батальон «Эрна» (командир Ханс Кург) захватил несколько островов Моонзундского архипелага и совершил ряд диверсий в тылу советских войск, части Литовской освободительной армии до подхода вермахта взяли Каунас, а один из руководителей РОДа генерал-майор береговой службы РККА Иван Благовещенский был пленен и передан представителям вермахта латышской военной организацией «Айзсарг» (Aizsarg). (Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 197).], которые не рассматриваются в данной работе. Также следует учитывать русских эмигрантов, пытавшихся продолжить гражданскую войну при помощи немцев. Например, через Русский охранный корпус на Балканах (Russisches Schutzkorps Serbien) белого генерал-лейтенанта Бориса Штейфона прошло 17 090 (по другим сведениям, около 18 тыс.) человек[151 - Русский корпус на Балканах. С. 398; Волков С.В., Стрелянов (Калабухов) П.Н. Чины Русского корпуса. М.: Рейтар, Форма-Т, 2009. С. 10.], из них всего несколько сотен советских граждан. Так 300 бывших военнопленных, переданных немцами, были сведены в две особые роты, включенные в состав 3-го и 5-го полков[152 - Гетц В. «Советская рота» // Русский корпус на Балканах. С. 202; Навроцкий А. По пути долга и чести // Под Белым Крестом. Буэнос-Айрес. Т. 1, 1951. С. 36. Следует отметить, что весь состав одной из них, позже включенной в состав 3-го полка, в конечном счете дезертировал. Подробнее см.: Гетц В. «Советская рота». С. 202–211; Полянский А.Н. Предательское нападение дезертиров //Русский корпус на Балканах во время II Великой войны. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 167–169. Подробнее см.: Мартынов А. Красные в рядах белых: К вопросу о службе советских граждан в Русском корпусе // История отечественной коллаборации: Материалы и исследования. С. 284–296.]. Кроме того, из Румынии (в том числе и оккупированных Бухарестом территорий, в частности Одессы) помимо русских эмигрантов, не желавших служить в армии короля Михая I, прибыло некоторое количество жителей Бессарабии и Северной Буковины, включенной в состав СССР в июле 1940 года (вошли в состав 4-го и 5-го полков)[153 - Волков С.В., Стрелянов (Калабухов) П.Н. Чины Русского корпуса. С. 8; Навроцкий А. По пути долга и чести. С. 36.].
Одновременно в национальные формирования входило, как правило, определенное число немецких военнослужащих, в основном офицеров. Так, на 4 ноября 1943 года 1-я казачья дивизия Гельмута фон Паннвица насчитывала 18 555 человек, в том числе 222 немецких офицера и 3827 унтер-офицеров[154 - Хоффманн Й. История власовской армии. С. 68–69. Осенью 1944 г. доля немцев в частях Паннвица сократилась до 30 %; Черкассов К. Генерал Кононов: Ответ перед историей за одну попытку. Т. 2. С. 124.]. В свою очередь восточные легионы (Ostlegionen), численность которых, как правило, равнялась пехотному батальону вермахта (800–1000 штыков), имел в своем составе до 40 немецких военнослужащих[155 - Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 70.].
Наконец, Верховное командование вермахта (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) жестко регламентировало количество национальных батальонов и hiwi (приказ № 215 от 13.01.42), что приводило к элементарному сокрытию истинного числа «наших иванов» (неофициальное название hiwi) на полковом или дивизионном уровне. Например, 134-я пехотная дивизия вермахта в конце 1942 года на 50 % состояла из hiwi, а 707-я дивизия весной 1943 – на 40 %[156 - Козлов В., Сомонова С., Тепцов Н. (ред.) Обзор мероприятий германских властей на временно оккупированной территории, подготовленной на основе трофейных документов, иностранной печати и агентурных материалов, поступивших с июня 1941 г. по март 1943 г. // Неизвестная Россия. Т. 4. М.: Издательство объединения «Мосгорархив», 1993. С. 264. В случае 134-й дивизии, сыграло роль решение, принятое еще в июле 1941 года, считать всех военнопленных, ставших добровольными помощниками, равноправными солдатами. (Dallin A. German Rule in Russia 1941–1945. P. 537–538).]. По воспоминаниям сотрудника спецподразделения вермахта Зондерштаб Р белого генерал-майора Митрофана Моисеева, численный состав германской 641-й пехотной дивизии до 80 % был русским, включая и часть командного состава[157 - Моисеев М. Былое. 1894–1980. С. 145.]. Последнее, правда, явно основано на непроверенной информации и представляется завышенным. Официально же штатное расписание пехотной дивизии вермахта на 2 октября 1943 года предусматривало наличие 2005 hiwi на 10 708 человек личного состава, то есть менее 20 %.
Впрочем, та же тенденция к сокрытию проявлялась и на батальонном уровне. Так, согласно штатному расписанию танкового батальона, в нем числилось 90 hiwi. Вместе с тем только лишь одна штабная рота штурмовых орудий «Фердинанд» K. St. N. 1155 на 31 марта 1943 года имела 43 добровольных помощника при общей численности примерно в 150 человек. Летом 1942 года в составе германской армии, согласно данным OKW, было 250 000, а к 1 мая 1945 года 700 000 «наших иванов»[158 - Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 247–248; Стеенберг Свен. Власов. С. 248.]. Hiwi служили не только в вермахте, люфтваффе и кригсмарине (части обслуживания, береговая и зенитная артиллерия), но и в ваффен СС. В таком случае нарукавная повязка добровольного помощника гласила не Im Dienst der Deutschen Wehrmacht («На службе вермахта»), а Im Dienst der Waffen-SS.
Нередко добровольческие части в составе немецких частей маскировались под именем «боевая группа» (Kampfgruppe), так как боевое расписание временных соединений, к которым относилась Kampfgruppe, документировалось в меньшем числе экземпляров[159 - Днепров Р. «Власовское» ли? // Континент. Париж. Т. 23, 1980. С. 292.].
Аналогичная тенденция была характерна и для собственно коллаборационистских формирований. Уже упоминавшиеся РННА в период реорганизации из бригады в полк в номенклатуре вермахта официально значилась 700-м восточным батальоном[160 - Жуков Д., Ковтун И. РННА. Враг в советской форме. С. 134, 135, 137.].
Кроме того, часть русских коллаборантов воевала в других национальных формированиях, испанской «Синей» дивизии (Divisiоn Azul или 250. Einheit spanischer Freiwilliger, согласно номенклатуре вермахта), 8-й итальянской армии (Armata Italiana in Russia или 8. Italienische Armee)[161 - Рудинский В. С испанцами на Ленинградском фронте // Под Белым Крестом. Буэнос-Айрес. № 1. С. 12–13; № 3, 1952. С. 13; Соколов Ю.С. С итальянской армией на Украине // Новый журнал. № 142. 1981. С. 110–132. Публикация воспоминаний не завершена.]. В составе 8-й итальянской армии был сформирован охранный батальон из советских перебежчиков[162 - Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 249.]. Например, в боевом расписании на 23 марта 1944 года 3-го латышского полка пограничной стражи, входившего в ваффен СС, русские по численности занимали второе место: 2245 латышей, 410 русских, 20 поляков. Одновременно в 1942 году остатки 186-й эстонского охранного батальона были доукомплектованы русскими коллаборантами и на его основе сформирован 663-й остбатальон, позже вошедший в состав 1-й дивизии ВС КОНР[163 - Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 140–141. Утверждение Дробязко, что в состав 663-го батальона вошли только немецкие кадры представляется ошибочным, так как помимо германских военнослужащих в него включили остатки 9–12 рот. Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. С. 538; Окороков А.В. Там же. С. 141.].
Различное число коллаборантов указывается и в подсчетах историков. Антонио Муньос в монографии «Забытые легионы: Неизвестные боевые формирования ваффен СС» соглашается с официальными российскими данными. По его мнению, в войсках СС «на протяжении всей войны служило более 150 тысяч граждан СССР, что составляет примерно половину иностранного добровольческого контингента СС»[164 - Munoz A. Forgotten Legions: Obscure Combat Formations of the Waffen-SS. Boulder: Paladin Press, 1991. P. 313.]. Общее же число коллаборантов на 24 января 1945 года Муньос, основываясь на подсчетах Министерства Восточных территорий, оценивает в 748 тысяч человек[165 - Munoz A. Hitler`s Eastern Legions. Vol. 2. New York: Europa Books Inc, 1997. P. 5.].
В свою очередь Олег Романько более склонялся к статистике Мюллер-Гиллебранда: «в германских вооруженных силах прошли службу около 2 млн иностранных граждан – большинство добровольно, остальные же – в результате различной степени призывных кампаний. Из них:
– граждане государств Западной и Северо-Западной Европы – около 195 тыс. человек;
– граждане государств Восточной и Юго-Восточной Европы – около 300 тыс. человек;
– советские граждане – 1,3–1,5 млн человек;
– арабы и индийцы – около 8–10 тыс. человек»[166 - Романько О. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. С. 102.].
Касаясь участия граждан СССР в составе ваффен СС, Романько дал отличную от Муньоса статистику. Он считал, что из примерно 270 тыс. иностранных добровольцев советские граждане составляли не более 85 тыс., то есть не половину, а треть общего состава[167 - Романько О. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. С. 251.].
Сергей Дробязко, анализируя роль коллаборантов, справедливо отмечает, что «если говорить о масштабах данного процесса, то фактически и формально в ВС КОНР выделилось не более 10 процентов от общего числа советских граждан, служивших в вермахте, в то время как непосредственно подчиненные А.А. Власову формирования составляли лишь 5 процентов»[168 - Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. С. 335–336.]. Хотя общее число коллаборантов составляет, по мнению ученого, «до 1,2 млн человек (в т. ч. славян – до 700 тыс., представителей балтийских народов – до 300 тыс., представителей тюркских, кавказских и других малых народов – до 200 тыс.)… Максимальная единовременная численность всех категорий достигала 800–900 тыс. человек»[169 - Дробязко С.И. Под знаменами врага… С. 339.]. Схожую цифру дали историки Михаил Семиряга, Александр Окороков и Карл Гейнц Пфеффер. Они оценили число советских коллаборантов в 1 млн человек, при этом единовременно, по мнению Окорокова, их количество, без учета полицейских соединений и hiwi, достигала 900 тыс. военнослужащих[170 - Семиряга М.И. Военнопленные, коллаборационисты и генерал Власов // Другая война: 1939 – 1945. М. РГГУ, 1996. С. 320; Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 91, 173; Пфеффер К.Г. Немцы и другие народы во Второй мировой войне // Итоги Второй мировой войны. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. С. 512.].
Рольф Дитер Мюллер считал, что из общего числа добровольцев и коллаборантов, сражавшихся на стороне Германии, которое он оценивает в 3962 тыс. человек, граждане Советского Союза составили 1557 тыс., исключая военнообязанных граждан немецкой национальности, мобилизованных из оккупированных территорий[171 - Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 281.].
В свою очередь Кирилл Александров утверждал, что в 1941–1945 гг. на стороне неприятеля несли военную службу примерно 1,24 млн граждан СССР[172 - Подобную численность приводили и участники РОД Константин Кромиади и Сергей Фрелих. Кромиади оценивал число коллаборантов в 1,2 млн человек, а Фрелих – в 1,2–1,5 млн (Кромиади К. За землю, за волю… С. 288; Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. С. 55).]. Это составило 6–8 % от суммарных людских ресурсов, использованных Германией в ходе войны. Одновременно коллаборанты восполнили 42 % всех безвозвратных потерь немцев на Восточном фронте или 29 % общего числа безвозвратных потерь, которое составили 2,87 и 4,13 млн человек соответственно. По мнению ученого, «примерно каждый 16-й или 17-й военнослужащий противника имел к 22 июня 1941 года советское гражданство»[173 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 87.]. Согласно Окорокову коллаборанты составили 10–15 % от общей численности вермахта[174 - Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 173.]. Косвенно слова ученых подтверждает утверждение Даллина, что к июлю 1943 года вермахт испытывал дефицит от 600 000 до 1,2 млн человек[175 - Dallin A. German Rule in Russia 1941–1945. P. 536.]. Данные выводы совпадают со словами Рольфа Дитера Мюллера, что «без помощи русских добровольцев в различных формированиях вермахт смог бы вести войну на востоке, пожалуй, не далее сталинградского перелома»[176 - Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 261.].
Точное число солдат и офицеров Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова назвать сложно. Формально последнему подчинялись все «восточные» батальоны. Но фактически они находились в оперативном ведении командующих дивизий, а в административном отношении в составе созданных 15 декабря 1942 года Восточных добровольческих войск вермахта (Osttruppen), переименованных с 1 января 1944 года в добровольческие соединения, которые возглавлял генерал-лейтенант Гейнц Гельмих, а затем генерал от кавалерии Эрнст Кестринг. Реальное переподчинение началось лишь после Пражского манифеста 14 ноября 1944 года и полностью так и не было завершено.
К концу войны общая численность РОА составила, по мнению Александрова, около 124 000 человек (из которых лишь 85 000 было вооружено)[177 - Александров К.М. Армия генерала Власова. С. 474.]. Муньос оценивает ВС КОНР в 300 000 бойцов (помимо них на стороне Германии также сражалось 10 000 русских добровольцев и 70 000 казаков)[178 - Munoz A. Hitler’s Eastern Legions. P. 5.]. В свою очередь Дугас и Черон утверждали, что всего в подчинении генерала было 50–60 тысяч человек[179 - Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж: YMCA-Press, 1994. С. 317.]. Из них Власов командовал 1-й дивизией (полностью сформированной), 2-й и 3-й дивизиями (в стадии формирования), запасной бригадой, частями ВВС и рядом других менее крупных соединений. Остальные подразделения (как, например, 15-й Казачий кавалерийский корпус или Русский охранный корпус на Балканах) не успели войти в его оперативное ведение.
Для сравнения: из 235 473 британских и американских военнослужащих, попавших в германский плен, в так называемый «Британский добровольческий корпус СС» (Britisches Freikorps) изъявило желание вступить по различным данным от 30 до 60 человек, как правило, представлявших из себя «опустившихся алкоголиков», включенных в итоге в 11-ю танково-гренадерскую дивизию СС «Нордланд»[180 - Толстой Н. Жертвы Ялты. М.: Русский путь, 1996. С. 51. См. также: Seth R. Jackals of the Reich: The Story of the British Free Corps. London, 1972.]. Кроме того, в вермахте и ваффен СС служило некоторое количество фольксдойче из США, например ветеран дивизии «Великая Германия» Рудольф Салвермосер (Зальвермозер), воевавший в составе F?hrerbegleitbataillon. Был четыре раза ранен, награжден Железным крестом II класса. После войны вернулся в США, служил в армии, а затем сделал успешную карьеру в области спутниковой навигации и системы наведения ракет. В отличие от Салвермосера, закончившего войну унтер-офицером, другой фольксдойче, Бой Рикмерс, вступивший в 1938 году в НСДАП, к 1945 году был обер-лейтенантом, кавалером Рыцарского креста Железного креста.
Не менее важны и конечные цели коллаборантов. Ганс Нейлен в работе «На немецкой стороне. Международные добровольческие легионы в вермахте и ваффен СС» типологизирует и сравнивает различные формы коллаборации, имевшие место в годы Второй мировой войны:
– антиимпериалистические и антиколониальные цели (палестинский великий муфтий, иракский премьер-министр Рашид Али аль-Гайлани, борец за свободу Субхас Чандра Бос);
– осуществление этнических целей в национальной борьбе против доминирующего в государстве народа (словаки, хорваты);
– антикоммунистически-реформаторские идеи, установления новых государственных порядков (генерал Власов и находившаяся под его командованием Русская освободительная армия, казаки и калмыки);
– антикоммунистические устремления к установлению независимости и самостоятельности (эстонцы, латыши, литовцы, украинцы, грузины, народы Кавказа и пр.);
– фашистские и национал-социалистические идеи осуществления нового государственного порядка и превращение континента в германский или европейский союз государств (норвежец Квислинг, голландец Антон Муссерт, валлон Дегрель, французы Деа и Дорио, серб Льотич);
– консервация авторитарно-антикоммунистического status quo с надеждой на улучшение ситуации после германской победы (режим Виши во Франции, серб Недич)[181 - Neulen H. An Deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. Munchen: Universitas Munchen, 1992. S. 42. Цит по: Гилязов И. Легион «Идель-Урал». Казань: Татарское книжное издательство, 2005. С. 19.].
К особенностям отечественной коллаборации, отличающей ее от аналогичных процессов в других странах, следует отнести и такой уникальный факт, отмеченный Семирягой, «что СССР на протяжении всей войны оставался единственной в Европе страной, в которой оккупированной оказалась только часть территории». Последнее, естественно, сдерживало намерение граждан к сотрудничеству с противником[182 - Семиряга М.И. Военнопленные, коллаборационисты и генерал Власов. С. 324.].
Вместе с тем невозможно точно оценить соотношение между людьми, вступившими в ВС КОНР и другие антибольшевистские формирования по убеждению, и солдатами и офицерами, спасавшимися от голодной смерти в лагере.
Станислав Ауски на основе данных офицера связи вермахта при 1-й дивизии ВС КОНР майора Гельмута Швеннингера, «разделял дивизию по степени убежденности, приблизительно следующим образом: 20 % убежденных антисталинистов, 60 % оппортунистов и 20 % противников нацизма и потенциальных перебежчиков на советскую сторону»[183 - Ауски С. Предательство и измена. Войска генерала Власова в Чехии. С. 57.]. Схожие цифры по 1-й дивизии приводил и Сергей Дробязко, отмечавший, что к концу войны 80 % ее состава были готовы при первой возможности перейти на сторону Красной армии или сил Сопротивления[184 - Дробязко С. Восточные формирования. Проблема определения численности // Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина. М.: РИСИ, 2010. С. 90.]. Следует, впрочем, отметить и другие варианты статистики. Александр Окороков выделял, как наиболее активный блок 15–20 % людей так или иначе пострадавших от советской власти, примерно 15 % – убежденных антикоммунистов, 60 % – военнопленных, любой ценой решивших вырваться из лагерей, и около 15 % не имеющих убеждений, случайно или по мобилизации оказавшихся в числе коллаборантов[185 - Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. С. 166–168.]. Рядовой Красной армии Георгий Терешонков, попавший в плен осенью 1941 года под Лугой и вступивший в РОА зимой 1945 года с единственной целью попасть на фронт и перебежать к своим (что в итоге привело его из немецкого концлагеря в советский), давал следующие цифры: «Армия Власова состояла на 70 % из убежденных врагов коммунистического строя, которые сражались на Восточном фронте лучше немцев, на 25 % эта армия состояла из случайных людей, которые рассуждали так: “Не умереть бы сегодня с голоду, а завтра будь, что будет…” Процентов на пять армия состояла из людей, которые решили воспользоваться оружием и с оружием в руках бежать и перейти на советскую сторону»[186 - Терешонков Г. «Вернуться на родину». Записки беглеца из Норвегии и из власовской армии (1942–1956) // Сквозь две войны, сквозь два архипелага… Воспоминания советских военнопленных и остовцев. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. С. 275. Статистику Терешонкова разделял и Кирилл Александров. (Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова. С. 104).].
В числе разочаровавшихся в движении была и часть руководства КОНР. К ним относился и Дмитрий Закутный. Не разделяя программу движения, он, боясь репрессий со стороны немцев, оставался в нем до конца, с грустью говоря о своем будущем после поражения Германии: «у меня на шее веревка болтается»[187 - Богатырчук Ф. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту. С. 187. Интересно сравнить слова Закутного с мыслями Власова, которыми он делился «в узком кругу офицеров, говоря о непримиримости нашей позиции к большевизму: “нам нет пути назад. Попадем к большевикам – повесят всех нас”. И, оборачиваясь в сторону генерала Трухина, улыбаясь, прибавлял: “Может быть, только с различием, что для нас с Федором Ивановичем выберут веревки покрепче”». Поздняков В.В. Рождение РОА. С. 94.]. Отдельно нужно оценивать коллаборантов, руководствовавшихся личной местью. К ним, с большой долей вероятности, могут быть отнесены майор Августин Метль (сын казачьего офицера Петра Ретивова, расстрелянного большевиками в годы Гражданской войны, жил в СССР под вымышленной фамилией) и потерявший отца в результате коллективизации полковник Александр Таванцов[188 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 636, 780, 783.]. В качестве другого примера можно привести бывшего полковника ВС КОНР Владимира Позднякова, который в 1937–1939 годах находился в заключении. На следствии подвергался пыткам, лишился практически всех зубов. Позже освобожден и восстановлен в звании («за отсутствием состава преступления»)[189 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 680.]. Находились до начала войны под следствием и другие власовцы (генерал-майор Андрей Севастьянов, генерал-майор Виктор Мальцев, майор Николай Троицкий).
Повешенный вместе с Власовым подполковник ВС КОНР Николай Шатов 26 октября 1941 г. после доклада представителю ставки Верховного главнокомандования маршалу Григорию Кулику был избит последним в присутствии командующего Северо-кавказским военным округом генерал-лейтенанта Федора Ремизова. На допросе Шатов показал, что маршал, «приехавший наводить порядок в войсках», был не доволен его докладом об обеспечении вооружением двух вновь сформированных дивизий и о срочной эвакуации артиллерийских складов. Кулик обвинил подполковника во вредительстве, а в ответ на слова Шатова, что он действовал в соответствии с указаниями командующего округом и начальника артиллерии, маршал грубой бранью оборвал его и выхватил пистолет. Шатов успел только сказать: «Товарищ маршал!.. Я двадцать два года честно прослужил в армии, прошу пощадить!..», после чего Кулик несколько раз ударил его рукой по лицу.
Принял решение остаться на оккупированной территории. В ходе эвакуации Ростова 20–21 ноября остался в городе. Во время отхода из города немецких войск (28–29 ноября) ушел в Таганрог, где жил как частное лицо. Сдался немцам 12 января 1942 г.[190 - Катусев А.Ф., Оппоков В.Г. Иуды. Власовцы на службе у фашизма // Военно-исторический журнал. № 6, 1990. С. 72.]
Также сложно выделить тех, кто действовал исходя из карьерных соображений, как генерал-майор Сергей Буняченко, говоривший духовнику штаба РОА отцу Александру Киселеву зимой 1945 года: «А что мне будет, если я возьму Киев?»[191 - Киселев А. Облик генерала А.А. Власова. Записки военного священника. С. 143.]. В случае с Буняченко следует учитывать, что во время войны он был осужден военным трибуналом к высшей мере наказания, с заменой последней 10 годами исправительно-трудовых лагерей, с отбытием срока после войны. Незадолго до пленения (по другой версии, добровольного перехода на сторону противника) в отношении Буняченко было возбуждено еще одно дело[192 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 219–220, 227–228; Тишков А. Предатель перед советским судом. Цитируется по републикации: Поздняков В. Андрей Андреевич Власов. С. 467.].
Неизбежно присутствовал и материальный интерес. Правда, в различных коллаборационистских частях жалованье отличалось. Так, если, например, для hivi оно было равно по размеру плате рядового вермахта и индексировалось, то в национальных добровольческих формированиях оно варьировалось по размеру, а индексация проходила не всегда регулярно. Средняя оплата рядового состава была 240–250 рублей (300 руб. для женатых). Командир взвода получал 450 рублей, а командир роты – 690, что также соответствовало оплате данных должностей в вермахте[193 - Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. С. 356–357. См. также: Обзор мероприятий германских властей на временно оккупированной территории. С. 267.]. Варьировалась в разных лагерях и зарплата пропагандистов. В школе пропагандистов РОА вне зависимости от чина все добровольцы получали 16 марок в месяц[194 - Поздняков В. Рождение РОА. С. 54, 241.], что составляло примерно 160 рублей по официальному курсу. 31 августа 1942 года на основании директивы генштаба OKH (Oberbefehlshaber der Heeres – главного командования сухопутными силами) № 8000/42, принятой при участии тогда еще подполковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, на добровольцев распространились немецкие нормы питания, система диспансерного лечения и система обеспечения семей[195 - Хоффманн Й. История власовской армии. С. 115, 262. См. также: Ульянов В., Шишкин И. Предатели. Облик. Б. м.: Rusfront, 2008. С. 36–56.].
Летом 1943 года генералы РОА, включая Власова, получали 70 рейхсмарок в месяц, а остальные офицеры – 30[196 - Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. С. 98.].
Хотя и убежденных антикоммунистов было среди коллаборантов немало. Некоторые из них, впрочем, сочетали неприятие большевизма с нацистской идеологией. Так, например, эмигрант первой волны, подполковник Ростислав Долинский (сын главы канцелярии великого князя Кирилла Владимировича генерал-майора Евгения Доливо-Долинского), служивший в штабе группы армий «Центр» дешифровальщиком в звании зондерфюрера Г (унтер-офицера), в своих воспоминаниях разделял многие положения нацистской мифологии, например, о восстании в Варшавском гетто 1943 года, как якобы инспирированном союзниками[197 - Архив Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына. Ф. 1. Оп. 1. Е-15. Долинский Р.Е. Моя военная служба. Л. 25.]. Именно антикоммунизмом можно объяснить тот факт, что в течение недели после публикации Пражского манифеста (18 ноября 1944 года) 60 тысяч человек направили заявления с просьбой принять их в РОА. Естественно, что большинство из них не надеялись на победу Германии, хотя некоторые считали, что сумеют «освободив наш народ от ига, хуже татарского, заключить выгодный для нас мир с Германией, уже ослабевшей и вынужденной искать выход из положения, в которое ее поставил Гитлер»[198 - Дичбалис С. Детство, отрочество, юность не по Льву Николаевичу Толстому. Воспоминания. СПб.: Сатис, 1995. С. 94.]. У значительной части власовцев имела место «вера в то, что союзники, покончив с Гитлером, повернут теперь на Сталина»[199 - Lyons E. Our Secret Allies, the Peoples of Russia. P. 251.]. Даже, зная о Ялтинских соглашениях, они надеялись, что коллаборантов, как политических противников, в отличие от обычных военнопленных и гастарбайтеров, не будут насильственно депортировать на родину, а используют в будущей войне[200 - Клименко М. Из трех миров: Пережитое… непреходящее: «…Долг, завещанный от Бога». М.: Русский путь, 2011. С. 115.]. Или, в крайнем случае, после войны союзники сохранят влияние на Советский Союз, в том числе и на внутреннюю политику, что предотвратит репрессии в отношении военнопленных и коллаборантов[201 - Алдан А.Г. Армия обреченных. С. 12.].
Другим аспектом рассматриваемой темы является вопрос о морали. И это не проблема использования власовцами в качестве союзника в борьбе с советским тоталитарным режимом нацистского тоталитаризма. Политика не является синонимом этики. Ведь и союзники отнюдь не мучились угрызениями совести, сражаясь против наци совместно с «людожорским» (Александр Солженицын) режимом. Здесь играет роль проблема знания. Можно ли сражаться против медных рудников Джезказгана и ада Колымы, становясь невольным защитником Аушвица и «окончательного решения еврейского вопроса». Да, действительно, как писал автору рядовой ВС КОНР Сигизмунд Дичбалис, служивший под псевдонимом Александр Дубов, многие власовцы не знали о концлагерях («говорю о солдатах, а не о высших чинах Штаба») и даже мыслили союз с Германией «невольным терпением в надежде (получив оружие, боеприпасы и провиант) быть свободными в наших действиях»[202 - Письмо автору от 11 февраля 2008 года. Личный архив Мартынова (ЛАМ).]. Правда, по мнению кадета Русского корпуса в Сербии, служившего в конце войны при штабе Власова (кадеты составляли часть личной охраны генерала) Юрия Мордвинкина, «о концлагерях в Германии мы если даже и знали (сейчас я не уверен в этом)», то «о ужасе в этих лагерях мы не знали»[203 - Письмо автору от 28 февраля 2008 года. ЛАМ.].
Важно учесть, что значительная часть коллаборантов рекрутировалась из числа лиц, прошедших лагеря военнопленных, а некоторые из них вступили в РОА прямиком из концлагерей, в частности из Бухенвальда, «где под осень 1943 года… появились вербовщики во власовскую армию. Их представители ходили по баракам и рассказывали пленным, кого они представляют и за что борется их армия. Большая ставка делалась на плохое питание и неважные условия содержания пленных»[204 - Архив Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына. Асташкин И. Исповедь везучего человека. Р-388. Л. 67. об. См. также: Архив Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына. Дубицкий Б.П. Скитания по мукам. Р-362. Л. 16. Думается, что участие в подобной вербовке после войны сыграло роковую роль в судьбе некоторых ветеранов власовской армии. Так, подпоручик РОА Федор Зыков был арестован КГБ и 5 мая 1989 года трибуналом Московского ВО приговорен к расстрелу. В обвинительном заключении, помимо собственно коллаборации, значилась служба в Аушвице.]. Вместе с тем представляется ошибочным утверждение бывшего военнопленного Георгия Терешонкова, что «немцы и власовские пропагандисты» за отказ вступить в РОА несогласных направляли в лагеря смерти[205 - Терешонков Г. «Вернуться на родину». Записки беглеца из Норвегии и из власовской армии (1942–1956) С. 274–275.]. Коллаборанты не имели для этого реальных инструментов. Они лишь могли транслировать угрозу со стороны администрации СС, которая в отличие от РОА действительно была способна осуществить свое обещание.
Глава 2. Мифы коллаборации
Главной мифологемой, созданной коллаборантами, выступает вопрос о неучастии последних в военных преступлениях. Подобная мифологема восходит к другой, более масштабной легенде о «чистом» вермахте. Немецкий историк Вольфрам Ветте не без иронии писал, что «германский вермахт, конечно, проиграл Вторую мировую войну, зато добился победы после 1945 года, а именно в борьбе за представление о себе в глазах общественности – немецкой и международной»[206 - Ветте В. Гитлеровский вермахт. Этапы дискуссии вокруг одной немецкой легенды // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 541.]. Следует отметить, что некоторые немецкие историки-ревизионисты, как, например, Йоахим Хоффманн, в одинаковой степени поддерживали легенду как о «чистом» вермахте, так и о «чистой» коллаборации. Так, Георгий Герус противопоставлял вермахт и Русское освободительное движение партийным институтам Германии. Он утверждал, что «преступная гитлеровская “Остполитик” командующими фронтами и армиями не только не принималась, но и считалась нечеловеческой и преступной. Гитлер старался быстро выдвигать генералов, исполняющих его политику, но физически не мог изменить общего духа командного состава вермахта, мышление и дух которого не изменились до конца войны»[207 - Герус Г. Русское освободительное движение и немецкий вермахт // Борьба. Т. 77. 1977. С. 22–23.]. Аналогично мыслили и коллаборанты. Генерал-майор вермахта Борис Хольмстон-Смысловский утверждал, что «в войне 1941–1945 гг. германская восточная политика связала руки немецкому Генеральному штабу и этим привела вермахт к разгрому в войне против СССР»[208 - Хольмстон-Смысловский Б.А. Быть или не быть? // Он же. Избранные статьи и речи. Буэнос-Айрес: Российское военно-национальное освободительное движение им. ген. А.В. Суворова, 1953. С. 107.]. В свою очередь, Михаил Китаев писал, будто «руководящие круги немецкого верховного командования раньше других отдали себе отчет в том, что успешная борьба с Советским Союзом возможна только на основе создания не фиктивного, но реального народного антибольшевистского движения. Они также отдавали себе отчет, что не может быть и речи о завоевании России и порабощении русского народа. Самое большое на что можно было рассчитывать, это на разгром и уничтожение большевистского режима и создание в России национального правительства, дружески настроенного по отношению к Германии. Подобная задача могла быть осуществлена только на основании честного союза с русскими. Однако, партийные круги и СС не были способны подняться до трезвой оценки действительности»[209 - Китаев М.М. Русское Освободительное Движение. Материалы к истории Освободительного движения народов России (1941–1945). С. 40–41.].
Если посмотреть на руководство и наиболее значимых лиц КОНР, то окажется, что многие на разных этапах своей коллаборации совершали военные преступления. Так, например, член президиума КОНР, начальник Главного управления пропаганды, один из авторов Пражского манифеста генерал-лейтенант Георгий Жиленков, заместитель начальника штаба ВС КОНР генерал-майор Владимир Баерский, начальник личной канцелярии Власова полковник Константин Кромиади, начальник разведшколы майор ВС КОНР Сергей Иванов в разное время возглавляли РННА[210 - Последний командир РННА майор Владимир Кабанов (Риль) также в дальнейшем служил в ВС КОНР.]. Заместитель командующего РННА по строевой части полковник Игорь Сахаров командовал 4-м полком в 1-й дивизии ВС КОНР[211 - Сахаров являлся членом Испанской фаланги и Российского фашистского союза.].
Предшественник Кромиади на посту главы личной канцелярии, первый заместитель начальника Управления безопасности подполковник ВС КОНР Михаил Калугин и заместитель начальника отдела пропаганды штаба ВС КОНР подполковник Михаил Егоров ранее служили в бригаде Гиль-Родионова «Дружина» с самого основания, когда она называлась Боевой союз русских националистов (БСРН).
Начальник офицерского резерва подполковник ВС КОНР Георгий Белай был заместителем командующего РОНА (29-й дивизии ваффен СС), оберштурмбаннфюререром СС.
Начальник 1-й Объединенной офицерской школы ВС КОНР, последний главнокомандующий власовской армии генерал-майор Михаил Меандров состоял в подчинении политической разведки (Amt VI) РСХА. И если на раннем этапе его деятельность была связана с проектами десантных операций в тыловых районах Советского Союза, то в дальнейшем (после отказа от десантов) он сформировал отряд для борьбы с партизанами в районе Острова (Псковская область)[212 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова. С. 619.].
Впрочем, данная тенденция прослеживается и на младшем офицерском уровне: капитаны ВС КОНР Леонид Самутин и Сергей Фрелих[213 - В апреле 1945 года перевелся в ВС КОНР.] состояли в БСРН (Самутин также служил в «Дружине»).
Коллаборанты в составе вермахта предпочитали умалчивать о том, что не соблюдали обычаев войны. Так Кромиади, вспоминая свою службу в РННА, утверждал: «В оперативном отношении… ничего особенного не было. За лето пришлось четыре раза выделить по батальону в больших антипартизанских акциях, но все они кончились безобидно, за исключением одного случая, когда в одной деревне эсэсовцы расстреляли учительницу (за связь с партизанами) и сожгли деревню. В связи с этим майору Иванову еле удалось удержать своих людей от выступления против эсэсовцев»[214 - Кромиади К. За землю, за волю… С. 81.]. Последнее мало соответствует действительности – лишь за время только одной контрпартизанской операции «Орел» (Adler), проходившей с 20 июля по 7 августа 1942 года, в которой принимали участие и «народники», за помощь лесным солдатам было сожжено 30 деревень, расстреляны более 300 жителей[215 - Жуков Д., Ковтун И. РННА. Враг в советской форме. С. 192. Правда, Кромиади, а затем отчасти Баерский и Жиленков выступали против участия «народников» в контрпартизанских операциях, но, одновременно, выполняли полученные приказы. Ibidem. С. 127, 135.]. Естественно, РННА также участвовала в этих преступных деяниях, и, судя по всему, германское командование осталось ею довольно. В одном из рапортов, в частности, подчеркивалось: «опыт показал, что русские соединения более пригодны для борьбы с партизанами, чем немецкие… использование русских формирований против партизан оказывает большое пропагандистское воздействие на население»[216 - Жуков Д., Ковтун И. РННА. Враг в советской форме. С. 192. Правда, Кромиади, а затем отчасти Баерский и Жиленков выступали против участия «народников» в контрпартизанских операциях, но, одновременно, выполняли полученные приказы. Ibidem. С. 193.].
Нередко военные преступления обуславливались не политической волей, а крайне низкой дисциплиной, что вынуждены были признать и сами власовцы. В ходе инспекционной поездки (5 мая – 16 июня 1943 г.) в обращении к военнослужащим восточных батальонов полковник РОА Владимир Баерский говорил: «Большевики с народом плохо обращались, немцы только в последнее время начали стараться сделать кое-что в этом отношении. Мы также не можем похвалиться, что ведем себя примерно. Все еще время от времени случается, что добровольцы, принадлежащие к РОА, обижают народ. Это должно прекратиться! Таких солдат надо не только исключать из наших рядов, а просто уничтожать. Для нас это может стать катастрофой»[217 - Поздняков В.В. Андрей Андреевич Власов. С. 64.]. В свою очередь член КОНР, ветеран Гражданской войны генерал-лейтенант Федор Абрамов с сожалением писал по этому поводу 10 марта 1944 года главе Русского Общевоинского Союза генерал-лейтенанту Алексею Архангельскому, также симпатизировавшему власовскому движению. Он отмечал, что 5-й Донской полк 1-й Казачьей кавалерийской дивизии (в дальнейшем 15-го Казачьего кавалерийского корпуса) подполковника Ивана Кононова выделяется не только боевыми отличиями, но и грабежами в сочувствующих партизанам деревнях, «вызывая этим заслуженные кары со стороны начальника дивизии»[218 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945.]. В дневнике Вячеслава Науменко отмечено, что кононовцы «пока воюют хорошо, но стоят на первом месте по грабежам, насилиям над женщинами и дезертирствам». Последнее опровергает утверждение приводящего эти слова Кирилла Александрова о несостоятельности обвинений казаков в массовых изнасилованиях в Югославии[219 - Цит. по: Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. С. 507.].
Поэтому дисциплина в частях могла поддерживаться исключительно драконовскими методами[220 - Мюллер Р.-Д. На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время «крестового похода против большевизма» 1941–1945 гг. С. 244. Исследователь также отмечает жестокость контрпартизанских действий со стороны казаков. С. 243.]. Аналогичные проблемы были и в другом крупном соединении казаков – Казачьем стане. Участник Гражданской войны генерал-майор Иван Поляков, инспектировавший Стан, признавал, что «много способствовали отрицательному и даже враждебному отношению населения к казакам и сами последние, своим поведением и даже случаями воровства и грабежа», в том числе «исключительно из озорства»[221 - Поляков И.А. Краснов – Власов. Воспоминания. С. 83–84.]. Не отличалась высокой дисциплиной и 2-я дивизия ВС КОНР[222 - Богатырчук Ф. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту. С. 199.].
А ведь коллаборанты служили не только в вермахте, но и в карательных частях, охране концлагерей. Например, через учебный лагерь «Травники» (SS-Ausbildungslager Trawniki) прошло с октября 1941 по май 1944 года примерно 5082 охранников, в основном граждан СССР. Учебный процесс был организован на основе программы подготовки, принятой в частях СС «Мертвая голова». «Травниковцы» в числе прочего служили в концлагерях Собибор, Треблинка, участвовали в подавлении восстания в Варшавском гетто 19 апреля – 16 мая 1943 года[223 - Жуков Д., Ковтун И. Русские эсэсовцы. С. 220–239.].
В подчинении СС на оккупированных территориях находилась созданная летом 1941 года вспомогательная полиция[224 - Жуков Д., Ковтун И. Русская полиция. С. 30.]. В состав ваффен СС входила 29-я дивизия бригадефюрера Бронислава Каминского, сформированная из граждан СССР.
Важно, что коллаборанты взаимно обвиняли друг друга в преступлениях. Так, поручик ВС КОНР В. Балтинш после войны выступил с жесткой критикой военнослужащих Латышского добровольческого легиона ваффен СС (Lettische SS-Freiwilligen-Legion). Он писал о безсудных расправах над мирным населением, в частности ликвидации рижского гетто («не стоит распространяться о зверствах, которые там творились») и массовых казнях русского населения. Мотивируя репрессии в отношении жителей деревни Морочково, легионеры заявляли: «мы убили их, чтобы уничтожить как можно больше русских»[225 - Балтинш В. Не смею молчать // Часовой. Т. 357, 1955. С. 18, 17. Интересно, что инспектор Латышского добровольческого легиона генерал-майор Рудольф Бангерскис в своем эмоциональном ответе на письмо вынужден был допустить, что в заявлении Балтинша «есть доля правды». Бангерскис Р. Письмо в редакцию // Часовой. № 366, 1956. С. 22.]. В свою очередь штандартеноберюнкер[226 - Звание в офицерских училищах СС соответствовало гауптшарфюреру.] 38-й дивизии СС «Нибелунген» (38.SS-Grenadier-Division «Nibelungen») Ян Мунк вспоминал, как в конце войны «на нашем пути, мы проходили мимо старой деревянной лачуги – когда из неё послышались женские крики. Когда мы попытались разобраться в чём дело, то обнаружили трех хиви, это значит русских, которые перебежали на сторону германской армии, и молодую раздетую девушку, с которой они хотели немного позабавиться. Ее собирались изнасиловать. Мы не насиловали женщин, а значит, и они не должны были изнасиловать эту. Мы их расстреляли»[227 - Munk J. I was a Dutch Volunteer. Exeter: Short Run Press Ltd., no year. P. 107.].
В контексте данной мифологемы следует также отметить стойкое стремление коллаборантов дистанцироваться от СС и других структур, названных на Нюрнбергском процессе преступными организациями. Так, например, в заметке «От издательства» к русскому реферату книги Торвальда «Wen Sie Verderben Wollen. Der Versuch einer Geschichte der deutschen Eroberungs und Besatzungspolitik in der Sowjetunion», утверждалось, что «дивизий СС, состоящих из русских, не было»[228 - Торвальд Ю. Очерки к истории Освободительного Движения Народов России. С. 2.].
Понятное с точки зрения изменившейся после войны политической конъюнктуры желание создало миф об отрицательном отношении к КОНРу представителей СС. В частности, уже упоминавшийся офицер связи Власова оберфюрер СС доктор Эрхард Крегер выступил в мемуарной литературе злым гением главы РОА. Так Штрик-Штрикфельдт считал, что Крегер стремился держать генерала в своих руках[229 - Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. С. 382. См. также: Плющов Б. Генерал Мальцев: История военно-воздушных сил Русского освободительного движения в годы Второй мировой войны (1941–1945). С. 47.Необходимо учитывать и репрессивную деятельность самого Штрик-Штрикфельдта в Дабендорфе, в частности, его роль в разоблачении и аресте полковника Николая Бушманова, антинацистски настроенного преподавателя курсов пропагандистов. Генерал Власов: история предательства. Т. 2. Ч. 1. С. 251–252.].
Вместе с тем подобные и другие оценки Штрик-Штрикфельдта парадоксальным образом сочетаются у него с воспоминаниями о том, что пропуск для свободного передвижения в прифронтовой полосе ему выдал именно Крегер. Оберфюрер знал, что документ Штрик-Штрикфельдту нужен для беспрепятственного перехода линии фронта для переговоров с союзниками, с целью спасения власовцев[230 - Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. С. 381. См. также: Steenberg S. Vlasov. P. 190–191.]. Именно Крегер сыграл важную роль в объединении под началом Власова казачьих частей. Не любивший оберфюрера гауптман СА Фрелих вспоминал, что в отношении Крегера «мог себе многое позволить, что было бы невозможно при других условиях»[231 - Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. С. 242.]. Вместе с тем, по мнению исследователей, именно Крегер наряду со штурмбаннфюрером СС Гюнтером д’Алькеном выступали главными глашатаями власовских идей в ведомстве Гиммлера[232 - Dallin A. German Rule in Russia 1941 – 1945. P. 612.].
Следует иметь в виду, что и руководство ВС КОНР получило звания СС, аналогичные имевшимся армейским и соответствующие жалованье. В частности, в платежной ведомости («коллективном чеке») отмечено, что SS-Grppf. Wlassoff Andreas получал 3618 рейхсмарок ежемесячно[233 - Семенов К. «С товарищеским приветом Ваш Г. Гиммлер»: СС и власовское движение // История отечественной коллаборации: Материалы и исследования. С. 24.].
Также надо учитывать, что именно при кураторстве СС власовская акция достигла своих максимальных вершин. Был сформирован Комитет освобождения народов России, утверждена политическая программа («Пражский манифест»), у Власова появилась возможность реально командовать войсками. В частности, еще 2 октября 1944 г. в связи с «пактом Гиммлер – Власов» было принято решение «организовать русские части с подчинением их единому русскому командованию». Впрочем, условиях войны это получалось далеко не всегда[234 - Thorwald J. The Illusion: Soviet Soldiers in Hitlеr’s Armies. P. 225.]. Поэтому нельзя не согласиться с Джеральдом Рейтлингером, иронизировавшем по поводу «потрясающей слабости власовских покровителей» из вермахта[235 - Рейтлингер Дж. Цена предательства. Сотрудничество с врагом на оккупированных территориях СССР. 1941–1945. С. 421.].
Поствоенная конъюнктура заставляла коллаборантов делать заявления, будто «казаки во Вторую мировую войну не сражались с англичанами, французами и американцами… и немцев они тоже не считали своими друзьями»[236 - Быков Н.А. Казачья трагедия. Нью-Йорк: Издание Н.А. Быкова, 1959. С. 17.]. На самом деле на Западном фронте действовали в числе прочих 5-й казачий полк, 750-й казачий полк особого назначения, 570-й казачий батальон[237 - Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945 гг. С. 542, 543, 544.].
Также в послевоенных биографиях факт службы в вооруженных силах на стороне Германии опускался. И не только в эмигрантской периодике, как это было в заметке, посвященной 85-летию генерал-майора Вячеслава Науменко, или в некрологе Борису Коверде[238 - Юбилеи // Часовой. № 504, 1968. С. 19; Свежие могилы // Наши вести. Санта-Роза. № 406, 1987. С. 24.]. Так, в книге Николая Рутыча (Рутченко)[239 - Николай Рутыч (1916–2010) служил лейтенантом СД в годы Второй мировой войны.] «Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России (Материалы к истории Белого движения)» в статье о полковнике генерального штаба Сергее Ряснянском ничего не сказано о его службе в 1-й Русской национальной армии Хольмстона-Смысловского в должности начальника штаба, в статье о генерал-лейтенанте Иване Кириенко о его службе в Русском корпусе (командир 1-го полка, затем 1-й бригады), а в статье о генерале от кавалерии Абраме Драгомирове о сотрудничестве последнего с Власовым (состоял в резерве ВС КОНР)[240 - Рутыч Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России (Материалы к истории Белого движения. М.: Regnum – Российский архив, 1997. С. 211, 115, 92.]. В случае с Драгомировым информация о его коллаборации имела место в периодике Русского зарубежья[241 - Занкевич А. Встреча двух генералов (Отрывок из воспоминаний) // Часовой. № 518, 1969. С. 11; От редакции. // Наши вести. № 396, 1984. С. 2.]. Подобный факт умолчания в данном случае нельзя объяснить желанием скрыть кем-либо из них своего участия в сотрудничестве с немцами, из-за совершенных преступлений или же во избежание проблем с въездом в США.
К моменту публикации юбилейной заметки в «Часовом» Науменко уже напечатал часть материалов, посвященных насильственной депортации союзниками казаков. А работа Рутыча вышла уже после смерти лиц, упомянутых в справочнике.
Дистанцируясь от военных преступлений и СС, коллаборанты, а затем и часть исследователей, естественно, стремились отождествить власовское движение с немецким движением Сопротивления (заговор Штауффенберга), что создало мифологему.
Так, Сергей Фрелих писал: «Власов не был нацистом. Его движение поддерживалось выдающимися борцами немецкого Сопротивления против диктатуры», которые считали, что перелом в восточной политике способен предотвратить крах Германии[242 - Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. С. 307, 159.]. В свою очередь, Кирилл Александров акцентировал внимание на поддержке коллаборантов со стороны «христианско-консервативной оппозиции» в лице генерал-майора Хеннинга фон Трескова, полковника Клауса фон Штауффенберга, подполковника Алексиса фон Ренне и других. Согласно историку, «цель заговорщиков заключалась в ликвидации национал-социалистического режима в Германии и установлении строя, в основе которого лежала бы традиционная для немецкой истории консервативная модель с элементами доктрины католической церкви»[243 - Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова. С. 79.].
Следует учесть изначальную неоднородность заговорщиков. В их число входили и военные преступники. Так, установивший еще до войны связь с немецким Сопротивлением группенфюрер СС Артур Небе командовал в 1941 году Айнзатцгруппой В[244 - О Небе см.: Schlabrendorff F. Offiziere gegen Hitler. M?nchen: Taschenbuch Goldmann, 1997. Впрочем, Роджер Мэнвелл и Генрих Френкель считают, что Небе примкнул к движению Сопротивления позднее. Мэнвелл Р., Френкель Г. Июльский заговор // http://lib.rus.ec/b/267061/read#n_19.], а другой участник заговора, генерал-полковник Эрих Гепнер, в период командования 4-й танковой группой координировал свои действия с Айнзатцгруппой А. Согласно «Сводному отчету Айнзатцгруппы А за время с июня до 15 октября 1941 года», отношение с танковой группой было «очень тесным, и можно даже сказать, носило сердечный характер»[245 - Нюрнбергский процесс. В 3 тт. М.: Юридическая литература, 1966. Т. 1. С. 214–218]. Сам Штауффенберг на раннем этапе войны в целом разделял идеологию национал-социализма. В одном из писем жене из Польши он говорил: «Население невероятный сброд. Очень много евреев и очень много полукровок. Этим людям хорошо под кнутом. Тысячи военнопленных пригодятся для нашего сельского хозяйства. В Германии они непременно пригодятся в индустрии, так как трудолюбивы и бережливы»[246 - Hoffmann P. Stauffenberg: a family history, 1905–1944. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2003. P. 115.].
Важно и то, что политические взгляды заговорщиков сильно различались. Вокруг Штауффенберга объединились два кружка: Крейсау (возглавлял Гельмут Джеймс граф фон Мольтке)[247 - Племянник знаменитого Гельмута фон Мольтке-старшего.] и Берлинский (доктор Карл Фридрих Гердерлер). И если кружок Крейсау исповедовал либеральные ценности, то берлинский был ближе к национализму. Различались кружки и во взглядах на будущее Германии. Так, склоняясь к парламентской форме правления (с достаточно широкими полномочиями канцлера), многие заговорщики (главным образом из окружения Герделера) видели страну без политических партий. Кроме того, часть оппозиционеров считала, что Германия после окончания Второй мировой войны должна существовать в границах 1914 года[248 - То есть с отчужденными от Франции Эльзасом и Лотарингией, а также «польскими» территориями Восточной Пруссии.].
Отличался и взгляд заговорщиков на отношения с Россией. Некоторые из них действительно готовы были на равных (по крайней мере на уровне намерений) сотрудничать с освобожденной от большевиков Россией. Так, главный редактор журнала «Часовой» капитан Василий Орехов вспоминал вскоре после войны, как «в мае 1944 года в Брюссель приехал из Берлина очень хорошо известный мне русский эмигрант. Помимо моего личного знакомства с ним, я получил через него адресованное мне личное письмо одного русского генерала, в котором тот горячо рекомендовал мне отнестись с полным доверием к передатчику письма и к “лицу, его сопровождающему, истинному офицеру и другу России”.
В тот же день произошло наше свидание втроем. Третьим собеседником был германский офицер из балтийской семьи, бывший российский подданный, прекрасно владевший русским языком.