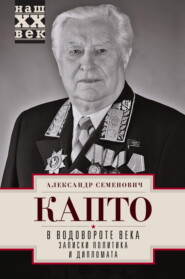скачать книгу бесплатно
После войны, хотя и наступили мирные дни, все же нас ожидали новые испытания и снова – голод. В 1946 году он как бы продолжал трагедию «моего» 1933-го. Умерших не успевали выносить не только из сельских хат. Они лежали у забора, у опустевшего магазина, просто во дворе. Многие высохли настолько, что тела, казалось бы, хватало только для заедавших вшей, другие опухли до неузнаваемости.
Мой сельский учитель Федор Иванович Ященко как-то мне рассказал, что он, увидев меня в тот момент, не поверил в благоприятный для меня исход. Но «счастье» подвернулось. Отцу удалось достать, а точнее, уворовать на животноводческой ферме два корня кормовой свеклы. Съедена она была с такой жадностью, что вызвала отрицательную реакцию организма.
И все же мне удалось не только выжить, но и в буквальном смысле слова спасти всю нашу семью. Ранней весной, как только на озерах в предднепровских плавнях растаивал лед, я начинал рыбачить. Пойманной на удочку рыбы хватало, чтобы хотя бы как-то продержаться нашему семейству. К маю – июню этот «промысел» еще больше увеличился, поэтому нам не пришлось бросаться на колхозные поля и срывать только еще наливавшиеся хлебные колосья, от чего у людей происходило настолько сильное вздутие живота, что они прямо там же, на поле, гибли.
Ударов судьбы отец не выдержал. И не столько от того, что контуженному офицеру не давали покоя оставшиеся в теле осколки (на фронте он все время был разведчиком), сколько от всего происходящего после войны. Вопрос «за что воевали?» комком застревал в горле фронтовика, и на каком-то этапе он надломился. Военное горе сменилось на горе «мирное». Он запил.
Словом, о счастливом детстве мне удалось узнать позже из художественной литературы, кинофильмов, из рассказов в периодической печати, да энциклопедических справочников по этике. Может быть, именно поэтому я всегда ценил учебу и нравственный пример старших. Десятилетку заканчивал в городе Марганец, каждый день, в том числе и в пургу, отмеривая по девять километров туда и обратно. И хотя я, будучи отличником, за неуплату школе денег (тогда было платное обучение) и был исключен из девятого класса, все же благодаря помощи добрых людей учебу закончил успешно, и по существовавшим тогда правилам медаль открыла мне дорогу в университет без сдачи вступительных экзаменов.
Превратности журналистских испытаний
Переезд в Киев, а это случилось в конце 1961 года, был для меня не только неожиданным, но и происходил при несколько необычных обстоятельствах. Дело в том, что хотя в выпускнике Днепропетровского университета и победило политическое начало (активная общественная деятельность в вузе предопределила мою работу на комсомольском поприще), мои жизненные планы все же выстраивались в другом направлении. Ведь уже на пятом курсе у меня на две трети была готова кандидатская диссертация, посвященная языку и стилю произведений украинского классика Панаса Мирного. И должности секретаря райкома, горкома и обкома комсомола я считал временными.
Да и оказался я на них, честно говоря, не по своему стремлению. Ожидаю, как недоброжелатели ехидно упрекнут: мол, сейчас многие «задним числом» стремятся представить себя в другом свете, отмежевываясь от своего советского прошлого. Но я никогда от него не отмежевывался, все хорошее и плохое – со мной! Истина же в данном случае в том, что в середине пятого курса, после многократных отказов, несмотря на мое, не побоюсь подчеркнуть, отчаянное сопротивление, мне все же не удалось устоять перед мощным нажимом первого секретаря Октябрьского райкома партии г. Днепропетровска К.Н. Ярцева – и за полгода до окончания университета я был избран секретарем райкома комсомола. Мои аргументы – свою личную перспективу я связывал не с руководящей работой, а с профессиональной научной деятельностью, плюс оставалось полгода до окончания учебы, а также завершение дипломной работы и подготовка к государственным экзаменам – во внимание приняты не были. Через несколько месяцев после такого назначения, сразу же после получения диплома о высшем образовании, я подал заявление о поступлении в аспирантуру. Но… отличнику учебы на протяжении всех пяти лет, персональному стипендиату было отказано в приеме: не было обязательного по тем временам как минимум двухлетнего стажа работы после окончания вуза. Так я оказался на поприще общественно-политической деятельности. А позже последовало и неожиданное приглашение в Киев.
Суть предложения, сделанного ЦК комсомола, сводилась к тому, что газета «Комсомольское знамя» нуждалась, как принято было говорить в таких случаях, в организационном укреплении, созрел вопрос о замене главного редактора. Поэтому мне предлагалось на какое-то незначительное время взять на себя функции заместителя главного редактора с таким расчетом, чтобы, разобравшись с делом, возглавить газету. Приближающийся съезд комсомола республики торопил развитие событий: по существующей практике главный редактор обязательно избирался членом ЦК, а на пленуме – в состав бюро ЦК комсомола. На мои искренние сомнения в том, что, может, не стоит форсировать такой ход событий, последовало ставшее традиционным «поможем».
В «помощи» я убедился довольно скоро. В отсутствие главного редактора мы опубликовали подборку дискуссионных материалов по вопросам культуры. Среди них – и письмо ленинградца С. Потепалова, который покритиковал фильмы студии имени А. Довженко и спектакль киевского театра имени И. Франко. Реакция руководящих органов республики была явно неожиданной. Меня, а также работников газеты, непосредственно готовивших дискуссионную подборку, пригласили на заседание бюро ЦК комсомола и учинили настоящую расправу. Современному читателю, живущему в мире безбрежного плюрализма мнений, по нынешним меркам просто невозможно понять обоснования выдвинутых обвинений. Вот они: первое – непозволительно чернить украинское искусство (хотя в тот период упомянутые киностудия и театр переживали не лучшие творческие времена и у зрителей довольно часто вызывали не просто «отдельные» критические замечания, а откровенное раздражение); второе – чего это вдруг Украину поучает какой-то ленинградец; мол, мы что – сами не можем разобраться (вот оно, неадекватное чувство «национального достоинства»).
Решение последовало жесткое – работники, готовившие подборку, были сняты с работы, а мне объявили строгий выговор с последним предупреждением. Правда, во время голосования один из участников заседания задал председательствующему первому секретарю ЦК комсомола Юрию Ельченко вопрос: можно ли выносить взыскание с последним предупреждением, если не было предупреждения ни первого, ни второго? Редакция была деморализована, перепуганный редактор продолжал «болеть»; я же принял для себя решение – возвратиться домой в Днепропетровск, тем более что к этому времени не успел даже перевезти семью. И вдруг – гром среди ясного неба. В «Правде» появляется заметка «Неожиданный результат», в которой собкор газеты Михаил Одинец, рассказав читателям о случившейся истории, однозначно заявил: «Там, где идет обсуждение творческих вопросов, неуместны и недопустимы администрирование, одергивание. А ЦК комсомола Украины пошел по этому неправильному пути».
Дело усложнилось тем, что, как оказалось, человека, раздраженного критической заметкой ленинградца, надо было искать не в комсомольских кабинетах. Все нити вели к Андрею Скабе – секретарю ЦК партии. Поэтому появление заметки Михаила Одинца привело к обострению отношений между ЦК КПУ и «Правдой». Андрей Скаба был неумолим – ни о какой «реабилитации» не может быть и речи. А в это время пошел поток писем буквально со всех уголков страны, и во всех – осуждение административного зуда. Вот одно из них (из своей архивной папки беру первое попавшееся): «В командировке в Ульяновске я посмотрел кинокартину „За двумя зайцами“ и „Артист из Кохановки“ студии имени А. Довженко. Ну, ладно – „Артист…“ – еще сносная картина, есть интересные сцены (в начале), да и близка картина тем, что наше время. Но на кой черт студия тратит цветную пленку на „За двумя зайцами“? Я не знаю, критиковали ли эту картину с потугами на комедию (во что бы то ни стало вызвать смех, если не от головы, так хоть от живота), но она в Ульяновске шла во многих кинотеатрах целую неделю… и… плевались зрители довольно выразительно.
Я бы не написал этого письма. Но прочитал „Неожиданный результат“ и подумал: „А чего это взялись замазывать недостатки студии имени Довженко?“ Мы знаем много хороших вещей этой студии, а если последнее время у нее срыв за срывом, так ее лечить надо, а не благословлять и не защищать от критики.
Надеюсь, что Кульбачка и Бескаравайный восстановлены? И с Капто снято строгое взыскание?» Внизу письма – дата, московский адрес и подпись: старший инженер проектного института Аркадий Куров.
Но скоро последовала еще одна новость – просто убийственная. Проверка, проведенная работниками ЦК партии с привлечением КГБ, показала, что в городе на Неве в списках жильцов фамилия преподавателя Ленинградского университета С. Потепалова не значится. Так появилось еще одно обвинение – газета печатает непроверенные материалы анонимщиков, тем самым демонстрируя свою полнейшую безответственность. И вопрос зазвучал по-новому: речь надо вести не о снятии вынесенных взысканий, а делать новые организационные выводы. Действительно, если судьями украинской культуры стали какие-то ленинградские анонимщики, деваться просто некуда.
И вдруг очередная сенсация. Письмо из Ленинграда: «Уважаемый товарищ редактор! Получил из Киева газету „Комсомольское знамя“ от 14 января, в которой опубликовано мое письмо по поводу статьи „В кривом зеркале“. Я очень рад, что вы сочли возможным поместить его в вашей газете, так как беру на себя смелость утверждать, что высказанные в нем мысли отражают мнение многих ленинградцев. Если бы я мог предположить, что оно будет напечатано, то – вне всякого сомнения – под ним была бы не одна подпись. Еще раз благодарю Вас. С. Потепалов – преподаватель Ленинградского университета им. А.А. Жданова.
Р. S. Пользуюсь случаем подтвердить также получение гонорара».
Что за чертовщина? Все же есть этот С. Потепалов или – очередная анонимка? Выяснением занялся я сам и вскоре установил, что двадцатичетырехлетний специалист по славянской филологии С.Г. Потепалов действительно значится в списках работающих в Ленинградском университете, являясь выпускником его филологического факультета, и что он ездил в Москву на кинофестиваль в качестве корреспондента «Вечернего Ленинграда». Удалось также установить, что он, используя свои каналы, все время интересовался, восстановлены ли на работе жертвы, пострадавшие из-за его статьи. И у меня возник вопрос: почему же проверяющие, и прежде всего стражи кагэбистской бдительности, не обнаружили С. Потепалова? Оказалось, он состоял в списке не основного преподавательского состава, а внештатников. А проверяющие, надо полагать, посчитали, что автора столь обстоятельной критики надо искать именно среди преподавателей, работающих на постоянной основе.
Что же после этого? Позиция наказавших – незыблемая. Демонстрация «твердой принципиальности». Даже «Правда» не получила ответа на свое критическое выступление, хотя Скаба сам на совещаниях требовал от партийных чиновников различного ранга реагировать на критические выступления печати. Вскоре же состоявшийся комсомольский съезд, не избравший меня никуда, лишний раз подтвердил: на мне поставлен «крест».
Но по иронии судьбы через какое-то время меня избрали вместо Ельченко первым секретарем ЦК комсомола. Подчеркну при этом, я довольно быстро установил, что инициатором того печального разбирательства и моего наказания он не был. Более того, он сам был в дурацком положении, оказавшись под партийно-административным нажимом Скабы. С Ельченко позже у меня сложились добрые, товарищеские отношения. О рассказанной истории мы никогда не вспоминали. Возникшая дружба выдержала испытание временем, подвергаясь проверке на прочность на самых крутых зигзагах нашего бытия, за что я ему искренне благодарен.
Поучительной для меня была и журналистская позиция Михаила Одинца – человека не только с острым пером и гибким умом, но и не менее обостренным чувством справедливости. Не могу умолчать и о том, что сам М. Одинец довольно часто подвергался атакам за его принципиальные материалы. Если посмотреть тогдашние его публикации в «Правде», нетрудно убедиться, что ему не требовалось с началом горбачевской перестройки «перестраиваться». Одну из «закрытых зон» (так были названы на XXVII съезде КПСС некритикуемые республиканские, областные и городские партийные организации, которые возглавлялись руководителями, входившими в состав Политбюро; сделал это Егор Лигачев) он не раз подвергал справедливой, порой самой резкой критике, за что, в частности, в период Шелеста вынужден был оставить киевский корпункт «Правды» и применить свои журналистские способности, находясь в длительной загранкомандировке в Будапеште.
Скажу откровенно: работа в журналистике для меня стала не только отличным профессиональным полигоном, но и, пожалуй, первым в моей самостоятельной жизни серьезным испытанием истинности человеческих отношений. Ведь за всем происходившим стояли люди, поступки которых по-разному коснулись не только моих чувств, но и представлений о порядочности, честности, человечности. Часто бывает, что они становятся отшлифованными, как галька. Но когда конкретная жизненная ситуация требует от человека проявить эти качества, нередко приходится наблюдать причудливую метаморфозу превращения этих высоких нравственных понятий во что-то усеченно-ущербное, ублюдочное, а нередко и просто противоположное. И я считаю себя счастливым оттого, что на моих жизненных перекрестках все же было абсолютное большинство тех, кто зажигал в моем сердце маяки надежды, человеколюбия, личной нравственной чистоты.
Маяки надежды
Я как-то обратил внимание на то, что наиболее глубокие чувства и воспоминания – от общения с людьми, которые были старше меня. В их числе и Олег Антонов. Неординарность его личности определялась не только интеллектуальной масштабностью создателя известных всему миру различных модификаций «Анов», «Антея», «Руслана». Каждая встреча с ним по-особому дорога и памятна. Перед тем как подать руку здоровающемуся собеседнику, он вначале как бы посылал ему улыбку, сопровождаемую искорками ласковых глаз. Мягкий в общении. Как правило, всегда приветливый. Я не раз убеждался, что жизненный оптимизм семидесятипятилетнего генерального конструктора был живительным источником не только для окружающих, коллег по работе, но и прежде всего для его супруги, хотя она и была вдвое моложе его.
Большая часть наших контактов выпала на период конструирования гиганта «Антея». Да и с зарубежными высокими гостями приходилось бывать не только в конструкторском бюро, но и на испытательном поле. Вспоминаю, как Раджив Ганди, приехавший в Киев вместе со своей матерью, которая как премьер-министр Индии совершала официальный визит, отказался от согласованных по линии протокольных служб мероприятий и высказал пожелание побывать на киевском авиазаводе. В тот момент в нем жил летчик, а не политик, на которого мать возлагала большие надежды. Ему мы предоставили возможность не только посмотреть, но и «испытать» одну из новых модификаций самолета. Прощаясь, он особо отметил то, что ему удалось пообщаться с «самим Антоновым».
Уроки жизни получил я и от Бориса Патона. Сотрудничать с президентом Академии наук Украины мне довелось в самых различных направлениях.
Главное, что покоряло в нем, – это неподдельность наших дружеских отношений, в которых находили свое место и шутка, и едкий анекдот, и крепкое словцо в адрес разных карьеристов, политиканов и прохвостов. Меня всегда поражало удивительное сочетание в этом человеке научного масштаба и тонкой, нежной ткани человеческих отношений. Его отец – Евгений Патон, тоже в свое время президент Академии наук Украины, – в военные годы на танковом производстве применил новый вид электросварки, благодаря чему место сварки, то есть шов, было крепче, чем сам металл, по которому осуществлялась сварка. Такое изобретение получило название «шов Патона». И вот таким «швом» Б. Патон всегда скреплял свои отношения с теми людьми, которым он доверялся.
Бахвальство претило ему. Не переносил чванства, высокомерия, несправедливости. Помню, как неоднократно он обращался с просьбой защитить того или иного ученого от доносов. А как можно забыть такой эпизод? Вплоть до горбачевской перестройки в составе Верховного Совета Украины не было ни одного еврея. И вдруг Б. Патон тут как тут. Этот недостаток, лукаво улыбаясь, заявил он республиканскому начальству, мы можем исправить за счет института электросварки, который он же возглавляет. Кандидатура? Академик Б. Медовар. Порекомендовали его для избрания. А потом сам Горбачев похвалил: молодцы, украинцы, тонко чувствуют нюансы времени.
А еще – любовь к футболу. И если в очередной раз «промазывали» игроки киевского «Динамо» Валерий Лобановский или Владимир Мунтян, я знал, что на следующий день у Академии наук, как и у меня, настроение – хуже не может быть.
Не буду много говорить об общеизвестном: ученый с мировым именем. Его изыскания в области сварки металлов, получения и обработки новых материалов, как правило, имели пионерский характер. Со своими коллегами он впервые осуществил с помощью установки «Вулкан» электронно-лучевую и плазменно-дуговую сварку и резку металлов в условиях невесомости и глубокого вакуума. И когда впервые в мировой практике была осуществлена электросварка в космосе, он мне рассказал об этом в таких тонах, как будто шел разговор о заурядном научном эксперименте.
А как не сказать о комплексных программах по научно-техническому прогрессу, которые объединяли лучшие научные силы как академической, так и отраслевой науки. И в каких мрачных тонах ни изображали бы некоторые писаки наше прошлое, нельзя без восхищения говорить об этих патоновских поисках, которые получили общегосударственное признание и одобрение.
Я до сих пор так и не могу понять, что и как должны были делать такие люди, отвечая на призывы Михаила Горбачева перенести объявленную им перестройку и на личную основу; вспомним, как он призывал перестроиться «каждого».
Никакие «застойные болячки» не могут затмить те дорогие дни и часы, которые подарил мне Юрий Гагарин. Успешный штурм космоса, сознаюсь, рождал глубокие чувства гордости за нашего соотечественника, который впервые облетел весь земной шар. Для скептиков приведу не для переубеждения, а для напоминания слова всемирно известного американского художника Рокуэлла Кента: «Юрий подарил нам небо. А многие его полет сравнили с подвигом мифического героя древности Прометея».
Меня же судьба непосредственно и лично свела с Гагариным только через пять лет после его подвига, хотя много раз я присутствовал на различных событиях с его участием – но то было общение, как говорится, «на дистанции». А произошло это весной 1966 года, когда в качестве почетного гостя он принимал участие в работе юбилейного XX съезда комсомола Украины, на котором меня избирали секретарем ЦК. Именно тогда мне посчастливилось посмотреть на героя в ситуациях чисто житейских, услышать его заразительный смех, увидеть живую гагаринскую улыбку.
Памятным стал и состоявшийся в июле 1978 года во Львове фестиваль молодежи, на который съехались представители нашей страны и Чехословакии. Почетными гостями были Юрий Гагарин и Алексей Леонов. На этом фестивале часто упоминалось имя Яна Налепки, национального героя Чехословакии, командовавшего отрядом в партизанском соединении А.Н. Сабурова. Он погиб при освобождении полесского города Овруч, посмертно получив звание Героя. А через много лет на могилу Яна Налепки приехали его мать Мария и отец Михаил. Горячая боль пронизывала сердца тех, кто стоял у могилы героя и слушал разговор матери с сыном: «Ты слышишь меня, Яно? Я это говорю, твоя мамичка. Я пришла к тебе с Татр. Я думала, что ты ушел далеко и остался одиноким на чуждой земле… Не грусти, Яно. Посмотри, сын, сколько ты нам оставил сестер и братьев наших. Это теперь твои сестры и братья. Это теперь мои дети». У меня комок в горле – не только в те далекие годы, но и сегодня, и, прежде всего, оттого, что на клочке земли, на который пали капли крови Яна Налепки и слезы его мамички, начал прорастать чертополох исторической «забывчивости» и кощунственного равнодушия к благородным свершениям человеческого духа.
На перекрестках моей судьбы встретился и Иван Стрельченко. Имя этого выдающегося шахтера гремело в те годы на всю страну. Из самых высоких знаков отличия он имел все – Герой Труда, лауреат союзной Государственной премии, член ЦК партии, депутат Верховного Совета. Но сблизил меня с ним все же не этот «наградной иконостас». Мне хочется применительно к нему употребить словосочетание «рабочая интеллигенция». И хотя мне казалось, что добрые дружеские отношения, сложившиеся между нами, раскрыли передо мной все «секреты» его внутреннего мира, один случай опроверг такое мнение. Вдруг я узнал, что этот скромный человек, много размышляющий об источниках человеческого дерзания и душевной красоты, влюбленный в гриновские «Алые паруса», является автором двух замечательных публицистических книг – «Добытчики солнечного камня» и «Зажги свою звезду». Он взялся за перо, глубоко осознавая необходимость показать молодежи, какое великое счастье зажечь среди людей свою звезду, свою зарю, какого это требует огромного и доблестного труда.
Шахтерская судьба Ивана Стрельченко расписана писателями и журналистами в различных изданиях, в моем же сердце – постоянное светлое чувство оттого, что я в числе первых, рассказавших на страницах «Нового мира» о его писательском амплуа. И еще одна примечательная деталь. По времени работа Ивана Стрельченко над книгами примерно совпала с работой над художественным воплощением той же высокой, благородной идеи в романе Олеся Гончара «Твоя заря» и сборнике стихов Бориса Олейника. Эти три человека, с которыми мне выпало великое счастье человеческого, дружеского общения на протяжении многих лет, для меня стали своеобразным синтезирующим символом, отражающим высокую духовность моей родной Украины.
Работа по созданию мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» сблизила меня с выдающимся скульптором Евгением Вучетичем. Проектирование и строительство комплекса продолжалось несколько лет. Он как руководитель авторского коллектива архитекторов и скульпторов постоянно приезжал в Киев: ни одно мало-мальски значимое рассмотрение планов строительства, эскизов, разных вариантов по утвержденным эскизам без него не обходилось. Человек четкий, даже жесткий, непоколебимый, он тем не менее всегда воздействовал на оппонента силой убеждения.
Помню, как однажды завязался спор о том, почему сюжеты композиций, посвященных войне, более выразительны и оригинальны по художественному воплощению, чем те, при помощи которых предпринимаются попытки как-то обозначить завтрашний «светлый день». «А вы знаете, – обратился он к участникам этой дискуссии, – почему даже в гениальной „Божественной комедии“ Данте первая часть по своей нравственной, духовной силе несравненно превосходит вторую?» Вопрос, разумеется, оказался неожиданным. И Вучетич начал рассуждать о том, что художнику лучше дается разработка тем о пережитом человечеством, нацией, личностью. То же, что связано с описанием будущего, всегда таит в себе опасность подтолкнуть творца на схематический путь, так как он вынужден описывать то, что является только плодом фантазии и еще не закреплено социальным, духовно-нравственным опытом людей.
Так, по мнению Вучетича, произошло и у Данте: описывая в первой части ад, писатель опирается на многовековую, реальную, пережитую историю человеческой трагедии. Но при описании рая он лишился опор исторического и нравственного опыта, ведь человечество знало о рае только из мифов и легенд. И художнику приходилось отсутствие живых корней «райского опыта» компенсировать, оторвавшись от грешной земли, за счет фантазии. Я часто возвращаюсь к этой трактовке «Божественной комедии» и каждый раз убеждаюсь, что она была поучительной не только для Вучетича и не только тогда.
Особо – об Олесе Гончаре. Рискую быть неправильно понятым, но все же скажу: из всего состава тогдашнего Политбюро ЦК КПУ только мне да А. Ляшко и Ю. Ельченко выпало счастье иметь отношения с ним не только официальные.
Секретов же между нами не было никаких. Вещи назывались своими именами. Он хорошо знал об отношении к нему основных деятелей республики. Всегда чувствовал отношение Щербицкого – когда сдержанно-отрицательное, когда нейтрально-незаинтересованное. Поэтому я всегда поражался некоторым авторам, которые пытались представить отношения между первым секретарем ЦК и Гончаром почти как трогательные. Равно как и выдумкой были утверждения американского профессора Билинского о том, что «Гончар был близким сотрудником Шелеста – даже ходили слухи, что он писал речи Шелеста». Забавно все это. Скажу не без иронии: если бы действительно Олесь Гончар писал речи для Шелеста, то они сейчас издавались бы миллионными тиражами и читались бы как художественное произведение. Но… кто-кто, но я уж точно знаю, что Гончар не писал речей не только для высокопоставленных руководителей, но часто и для себя. Просто шел на трибуну и произносил то, что подсказывало сердце. Да, вообще-то, о чем идет речь? Знаменосец украинской культуры в адвокатах не нуждается: ни по вопросам политическим, ни творческим, ни нравственным.
Разумеется, наши киевские встречи с О. Гончаром – это не застолья, которые обычно ассоциируются с понятием «близкие отношения». Вот основные параметры наших связей. Острые вопросы политической жизни. Судьба украинской культуры, особенно языка. Хамское отношение к духовной сфере многих республиканских и областных столоначальников. Оголенный нерв – экология. И конечно же, положение деятелей культуры, особенно новой генерации. Гончара волновала судьба Лины Костенко, Бориса Олейника, Владимира Яворивского. Несправедливость, проявленную к ним, он пропускал через свое сверхчувствительное, не один раз обожженное жесткой жизнью сердце, воспринимая их боль как свою собственную.
Напомню читателю, что в те годы наряду с тотальной идеологизацией духовной культуры к числу стратегических ошибок в культурной политике относился разрыв с традициями народной культуры, не «вписывавшимися» в догматизированную «официальную» идеологию, и отношение к людям как к объекту «культурного обслуживания», а не субъекту культурной самодеятельности.
Указанные деформации породили пассивно-потребительское отношение широких масс к деятельности учреждений культуры, создавали почву для возникновения «неофициальной культуры», в том числе таких ее проявлений, которые относились, в сущности, к антикультуре. Произошла бюрократизация деятельности органов и учреждений культуры, оторвавшихся от реальных культурных потребностей широких слоев населения и никак не зависящих от «спроса» снизу.
Догматические изъяны в культурной политике привели к нивелированию национальных особенностей, культурных потребностей и культурного опыта масс. Унификация содержания, организованных форм культурной жизни народов СССР породила отчужденность в отношении к «официальной» культуре значительной части людей, заслонила специфические потребности национальных культур – в частности, такие, как сохранение национальных языков, фольклора, народных ремесел, национальных памятников культуры и т. д.
Поэтому вполне объяснимо, что щемящая Гончарова рана – народное искусство Украины. Его сердце переполнялось не только благородными чувствами гордости за непревзойденные творения решетиловских вышивальщиц, кролевецких ткачих, гуцульских мастеров резьбы по дереву, чародеев петриковской росписи, неповторимые художественные создания старого Межгорья. Сотворенные умелыми руками народных мастеров украинская сорочка-вышиванка, рушник, инкрустированный гуцульский топорик, казацкая люлька, декоративная керамика Опишни, настенные рисунки – даже такие чисто бытовые вещи превращались в произведения большого искусства. И Гончар гордился этим национальным достоянием, которое передавало из поколения в поколение духовную преемственность украинского народа. Но его сердце не только радовалось, оно и болело постоянно от потрясающего равнодушия многих чиновных вельмож к этой сокровищнице народного духа.
Вот почему событие в селе Богдановка, что на Киевщине, состоявшееся 26 ноября 1977 года, стало настоящим праздником души: открывался музей-усадьба прославленной дочери Украины, народной художницы Екатерины Белокур. В торжествах приняли участие и мы с Олесем Гончаром. Когда мы приехали в Богдановку, перед нами предстала изумительная картина. Запустелая, полуразрушенная усадьба, где 7 декабря 1900 года родилась гениальная украинская художница, за очень короткий промежуток времени превратилась в оригинальный заповедник. Причем без финансовой помощи государства. Подходим к калитке и читаем на установленной стеле: «Поклонимся земле, где жила и работала Екатерина Белокур. Отсюда, с беленькой селянской хаты, вышло в большие миры творчество народной художницы, пошла к людям ее художническая поэзия… Берегите святыню!»
А в самой хате – действительно святыня: самые дорогие сокровища – художественные картины, выполненные масляными красками и карандашом, преисполненные, как заметил Олесь Гончар, «какой-то магической силы, почти фантастической красы». Эти шедевры шагнули из сельской Богдановки не только на выставки вначале в Полтаву, а чуть позже в Киев и Москву. Восхищенные оценки как от массового посетителя, так и от ревностных профессионалов Екатерина Белокур получила также в Париже, других культурных столицах мира. А осмотр ее оригинальной росписи, фантастически оформленных интерьеров в родной хате, сохранившегося мольберта, 218 самодельных кисточек, стоящих на скамейке на подрамниках загрунтованных и затонированных полотен, так и не дождавшихся прикосновения кисточки виртуозного мастера… – все это как бы вводило нас в тот конкретно осязаемый мир, в котором жила и творила Екатерина Белокур. Своеобразным экспозиционным запевом к воскресшей хате-усадьбе стали слова Олеся Гончара, мастерски выложенные ученицей гениальной художницы Галей Самарской: «Произведения Екатерины Белокур навсегда вошли в золотой фонд украинской культуры. Они из тех богатств, которые Украина вносит в сокровищницу искусства мирового».
Мы с Олесем Гончаром были не только почетными гостями этого праздника украинской национальной культуры. Нас удостоили высокой чести – первыми оставить записи в «Книге впечатлений». А районная газета воспроизвела их на своих страницах. Вот они: «Спасибо всем, кто вложил душу в создание этого чудесного музея. Вечная слава гению славной дочери украинского народа Екатерине Белокур. 26.XI.77. Олесь Гончар». «Искреннее спасибо (в моем тексте слово „щитосерд не“, которое значительно богаче русского „искренне“, но не имеет адекватного перевода. – А. К.) всем, кто приложил много усилий на увековечивание славы дочери украинского народа, выдающейся художницы и прекрасного человека Екатерине Белокур. 26.XI.77 г. А. Капто».
Мы очень переживали, что прикоснуться к животворному духовному источнику Екатерины Белокур не смог выдающийся поэт-академик, Герой Труда Микола Бажан. «Очень жаль, – писал он в телеграмме, которая тоже легла на страницы „Книги впечатлений“ и той же районной газеты, – заболел, поэтому не смог принять участие в добром деле – открытии дома-усадьбы чудесной дочери Украины, прекрасной художницы солнца, расцвета весны, бессмертной Екатерины Белокур. Вместе с Вами с любовью склоняюсь перед ее памятью, перед ее творчеством. Микола Бажан».
О Дмитрии Гнатюке мне говорить сложно по двум причинам. Во-первых, трудно найти человека в нашей как «бывшей стране», так и теперь, кто не знал бы этого с божьим даром певца и обаятельного мужчину. А во-вторых, почти двадцатилетнее с ним общение (вплоть до моего отъезда в Гавану) – это настолько цельная и органичная ткань сердечных отношений, что боюсь искусственно из нее что-то вырвать, не сказав о других, не менее значимых вещах. Но об одном эпизоде все же расскажу. Однажды Дмитрий Михайлович поведал мне о том, как он ездил в гости в родное село, что на Буковине. Цветы, горячие поцелуи, слова гордости за своего земляка – все это, как говорится, в порядке вещей, он к этому привык. Но вот у него спрашивают: «Так чем же ты, Дима, занимаешься в Киеве?» – «Как чем? – удивился он. – Пою!» – «То, что ты поешь, мы знаем, постоянно слушаем тебя по радио и по телевизору смотрим. Мы в селе тоже все поем. Но все-таки, какая же у тебя работа?» – настаивали собеседники.
И я подумал: какая же философская глубина в народной трактовке пения не как «работы», а как постоянного состояния человеческой души. И вот Дмитрий Гнатюк наиболее полно воплощал и воплощает это качество в пении, исполняя то ли народные песни, то ли оперную классику. И то, что он теперь не ездит в «зарубежные» Россию, Казахстан, Грузию и другие суверенизовавшиеся не только в политике, но и культуре республики бывшего СССР, – еще одно трагическое проявление «беловежья». Оно коснулось и его – народного артиста СССР.
Не хочу впасть в сентиментальность, но все же скажу: постоянные контакты с выдающимися деятелями науки и культуры Украины были своеобразным раскрытием все новых и новых окон в мир – мир науки, мир искусства, мир нравственности.
И еще об одном. Пикантной оказалась ситуация, когда первому секретарю республиканской писательской организации Павлу Загребельному барометр общественного мнения все больше и больше указывал на уход с этого места. В ориентирах на нового руководящего лидера писателей мнения в ЦК разделились. Щербицкий и его самое близкое окружение в лице помощников отдавали предпочтение Коротичу, я же предлагал и отстаивал кандидатуру Юрия Мушкетика. Но подчеркну при этом: и с одним, и с другим у меня сложились очень хорошие отношения.
Сам Коротич, ставший со временем шефом «Огонька», в условиях развернувшейся тогда борьбы с «партократами» заявил на страницах «своего» же издания, что мои отношения как с ним лично, так и в целом с художественной интеллигенцией в киевский период он характеризует с положительной стороны.
И все же я назвал не его кандидатуру, хотя в это время его писательский «имидж» значительно повысился ввиду двух обстоятельств. Первое – всесоюзную известность получил его острый роман-памфлет «Лицо ненависти», разоблачивший «нутро американского империализма» (по роману был создан и полнометражный фильм). Второе – по инициативе секретаря ЦК КПСС Зимянина со мной как секретарем ЦК КП Украины состоялся «зондирующий» разговор на предмет назначения Коротича главным редактором «Огонька». Кстати, это обстоятельство указывает на то, что первоначально инициатором переезда в Москву одного из будущих наиболее популярных прорабов горбачевской перестройки был все же не Александр Яковлев, которому именно за этого глашатая безбрежной гласности много досталось с разных сторон. Зимянину же я ответил положительно, тем самым дав понять, что Украина не будет за него «держаться». А перевод Коротича в Москву состоялся чуть позже уже без моего участия (я был направлен на посольскую работу) и действительно по настоянию Яковлева, благодаря которому он и стал, как сам заявил в интервью «Правде», «цепным псом перестройки».
В Москве же он не задержался. Посчитав, что досрочно выполнил «прорабскую программу», разоблачитель «нутра американского империализма» перемахнул через океан и занялся просвещением американцев по проблемам советского тоталитаризма.
Что же касается предложений на должность руководителя писательской организации, то пальму первенства все же я отдал автору тоже получившего тогда общесоюзную известность романа «Позиция», отмеченного тоже Государственной премией СССР. Мои аргументы: чисто в писательском плане, по моим представлениям, фигура Юрия Мушкетика была более фундаментальной. Особенность его характера – неконфронтационность, умение играть консолидирующую роль в сложных общественно-политических ситуациях. И еще одна деталь, причем немаловажная, – сам Юрий Мушкетик искренне не хотел надевать на себя руководящий хомут, в то время как Коротича руководящее кресло, по моим наблюдениям, манило; он чаще, чем его конкурент, бывал в цековских кабинетах, в том числе и моем. Закончилось тем, что я все же Щербицкого «победил». Слово «победил» я взял в кавычки лишь потому, что главным победителем было общественное мнение, и прежде всего писательская организация Украины.
Акварели Гитлера
Общение с интеллигенцией, как я не раз убеждался, таит в себе совершенно неожиданные сюрпризы. К ним я отношу и историю с акварелями Гитлера, которые вызывали, да и сейчас вызывают повышенный интерес мирового общественного мнения, разумеется, не из-за высокого художественного уровня, об этом говорить не приходится, а ввиду, так сказать, неординарности фигуры их автора.
Примитивные акварели, как и книга «Майн кампф» – образец словоблудия и графомании, – ярко отражают психологию тех честолюбцев, которые, стремясь к власти, удовлетворяют свои амбиции не только при помощи прямолинейных лобовых политических силовых приемов, а через те каналы, которые формируют имидж нестандартного политика. В большую политику Гитлер стремился войти не только как член секретного ордена – «тайного общества» «Туле» (о чем стало известно только в последнее время), но и при помощи «художественных творений». Ведь на обывателя это производит сильное впечатление. А профессионалы в таких случаях в оценках довольно часто «уходят в кусты», «подальше от греха».
Попали же ко мне гитлеровские «создания» при обстоятельствах, которые требуют возвратиться в грозный 1941 год. Тогда, в мае, за месяц до начала войны, талантливый украинский мастер лирического пейзажа сорокалетний Николай Глущенко, заявивший к тому времени о себе как о крупнейшем живописце (он со временем стал народным художником СССР), был командирован Союзом художников СССР в Германию в качестве сопровождающего выставку советских художников, которая экспонировалась в Берлине. Хотя в это время уже были заряжены фашистские пушки и заправлены бомбардировщики для выполнения указания Гитлера начать практическую реализацию заранее разработанной и печально известной директивы 21 – «Плана Барбаросса», выставку все же посетили крупные германские руководители.
Этот кощунственный жест был осуществлен для демонстрации «жизненности» сталинско-гитлеровского договора о «дружбе». Был там и Риббентроп. Он так «растрогался» всем увиденным, что в порыве эмоций не только подарил Николаю Глущенко альбом репродукций акварелей Гитлера, но и предложил, если советский художник того пожелает, позаботиться о том, чтобы автор поставил свой автограф. Как позже объяснил Глущенко, под предлогом «не обременять фюрера» такими встречами он вежливо отказался от предложения Риббентропа, но альбом привез с собой в Киев, на который, кстати, через месяц были сброшены первые бомбы агрессора.
Но не успел Глущенко возвратиться домой – бдительная Москва шифровкой из Берлина уже была проинформирована как о встрече Глущенко с Риббентропом, так и об альбоме с акварелями Гитлера. Узнал об этом «сам» Сталин, которому по его желанию в том же мае 1941 года этот альбом был доставлен для «просмотра». Естественно, такой поворот событий добавил Глущенко эмоций и переживаний, разумеется, не положительных. Особенно тогда, когда немецкие отборные части пересекли государственную границу нашей страны и двинулись на Восток. В таких условиях личностный контакт киевского художника с представителями гитлеровской верхушки мог быть прочитан сталинскими службистами по-разному. И он в тревоге ожидал дальнейшего развития событий, а они завершились в сентябре 1941 года, причем по тем временам совершенно неожиданно: сотрудник МГБ сам пришел к Глущенко, возвратил ему альбом, потребовав при этом соответствующую расписку.
После войны альбом хранился в личной библиотеке художника. Когда же в 80-х годах его мастерскую посетила заместитель министра культуры Украины Ольга Чернобривцева, Глущенко не только рассказал о всех перипетиях с альбомом, но и, раскрыв «секреты», показал ей репродукции акварелей. На такой шаг он пошел не в последнюю очередь и потому, что Чернобривцева пользовалась среди художественной интеллигенции хорошей репутацией, словом, он ей доверился. После же смерти художника в 1977 году его вдова М.Д. Глущенко и брат В.П. Глущенко охотно передали альбом Чернобривцевой, а та со временем – мне.
Конечно же, я предпочитаю смотреть не гитлеровские «творения», а произведения того же Глущенко, многие из которых, и прежде всего такие, как «Киев. Март», «Сад в цвету», являются вершинными достижениями лирического пейзажа. Но «встреча» с Гитлером-художником каждый раз напоминает о моем первом общении с гитлеризмом в грозном 1941 году, которое было «заочным» по отношению к фюреру, но лицом к лицу с фашистским зверьем. Это «общение» навсегда оставило ноющие зарубки на моем детском сердце.
Об этом я думаю часто. В том числе и тогда, когда смотрю альбом, полученный в Берлине от Риббентропа украинским художником Глущенко за месяц до начала великой отечественной трагедии. Акварели, написанные рукой Гитлера… Акварели, которые побывали в руках Сталина… И все это стало для меня символом кошмара, страшного сна, неземного ада.
И еще одна деталь. В 1990 году в Киевском музее КГБ была организована экспозиция художника, а в журнале «Украина» опубликована статья о Глущенко-разведчике.
В предперестроечном водовороте
Конечно, мои «номенклатурные истоки» – это по времени тот период нашей драматической истории, когда в обществе происходили довольно неоднозначные, противоречивые процессы, которые содержали в себе силы разной общественно-политической направленности, хотя это на поверхности общественного бытия не всегда отчетливо проявлялось. В самом деле в то время как бы сосуществовали в нашей жизни, казалось бы, совершенно несовместимые вещи. С одной стороны, как выразился выдающийся украинский поэт Павло Тычина, «чувство семьи единой», чем и я лично гордился, и считаю преступниками тех, кто разрушил действительно братские отношения между нашими народами и разжег очаги национальной ненависти, кровопролития, братоубийственной войны. А с другой – «завязывание» Кремлем и его республиканскими вождями все новых и новых «узлов» в национальной политике. Аналогичная ситуация складывалась и вокруг интеллигенции: с одной стороны, «единение» политической элиты с ней, а с другой – нетерпимость к инакомыслию, преследование за политические взгляды. Точно так же и по отношению к социальным наукам: призывы к «творческому» их развитию сопровождались своеобразным вколачиванием в людские головы истин «в последней инстанции».
Истины эти, как правило, провозглашались каждым новым генсеком. Формулировались же они окологенсековским окружением – его помощниками, консультантами, референтами с привлечением партийного аппарата и, как оказание высокой чести, «ведущими» обществоведами из партийных и академических научных заведений. Их формулировки воплощались в партийные программы, доклады на съездах и пленумах ЦК, в основополагающих, установочных статьях генсека. По этим теоретическим каркасам предписывалось жить как каждому отдельному советскому человеку, так и в целом всей новой «исторической общности».
Особенностью генсековского «мозгового центра» было то, что он не только вкладывал в уста лидера страны все новые и новые теоретические постулаты, но и сам обладал неписаным правом быть «первопроходцем» в пропаганде этих идей.
Истины, сформулированные, как правило, на загородных цековских дачах, наподобие радиоволн от ретранслятора, проникали во все лабиринты общественного организма, формируя партийный теоретический фронт. Но весь парадокс заключается в том, что многие «бойцы» этого фронта свое усердие по разработке проблем социализма со временем – в пору перестроечного плюрализма – сменили на еще более рьяное рвение по ниспровержению всех провозглашаемых ими же «догм». Лицемерие теоретическое слилось с лицемерием нравственным, придавая особую окраску перестроечной суете.
Такие люди вызывают особый «восторг» своей исторической выносливостью: ведь у них хватило сил не только для того, чтобы большую часть своей сознательной жизни вовсю трубить о «завершающем этапе» социализма, о «развернутом строительстве коммунизма», о социализме не только «развитом», но и «зрелом» и, наконец, о социалистическом выборе. За что и были достойно вознаграждены: высокие должности, каждая из которых становилась новой ступенькой вверх; звания, а также знаменитые премии, о которых обязательно сообщалось в печати (народ должен знать о «цвете нации»!). А для «самых-самых» и постоянное сопровождение во время «исторических» визитов в заморские и европейские страны вначале «волюнтариста» Хрущева, потом «застойного» Брежнева и, наконец, перестроечного Горбачева. Но как оказалось, у них еще остались силенки, чтобы успеть и на постперестроечный политический рынок, наконец, «раскрыть» глаза своим непросвещенным соотечественникам на то, в какой же стране они-то жили: империя, даже не царская и не римская – куда им!
Таковы некоторые штрихи политического и социального характера доперестроечной жизни. Добавлю к этому: переплетение острых политических, идеологических и особенно национальных «сюжетов» всегда являлось опасным детонатором в обществе. К наиболее острым вопросам того времени, оказывавшим мощное воздействие на общественно-политическую обстановку на Украине, отношу, прежде всего, такие: интеллигенция, диссиденты, национальные проблемы.
Как Москва боролась с «украинским буржуазным национализмом», свидетельствуют идеологические баталии, развернувшиеся еще в 1951 году на страницах центральной печати вокруг стихотворения выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры «Люби Украину». Тогда «Правда» 2 июля поместила статью «Против идеологических извращений в литературе». И то, что она была не авторской, а «редакционной», четко указывало: статья готовилась в кабинетах на Старой площади. Начиналась она с обвинения журнала «Звезда» и его главного редактора В. Друзина за то, что редакция «проявила полную безответственность», опубликовав стихотворение В. Сосюры «Люби Украину», «являющееся в основе своей идейно порочным произведением».
«Правда» задалась вопросом: «О какой Украине идет речь, какую Украину воспевает В. Сосюра? Ту ли Украину воспевает он, которая веками стонала под эксплуататорским ярмом, скорбь и горечь которой отлились в гневных строках Тараса Шевченко?» Или в стихотворении «речь идет о новой, цветущей Советской Украине, созданной волей нашего народа, руководимого партией большевиков?». На эти вопросы «Правда» ответила сама же: «Достаточно ознакомиться со стихотворением В. Сосюры, чтобы не осталось сомнений, что, вопреки жизненной правде, он воспевает некую извечную Украину, Украину „вообще“, вне времени, вне эпохи… Его волнует извечная Украина с ее цветами, кудрявыми вербами, пташками, днепровскими волнами».
Воздав, не без иронии, автору должное за то, что он воспевает «простор вековой», «небо ее голубое», «вечные ветры», «пурпурные тучи», газета неистовствовала: «В стихотворении же В. Сосюры за внешней красивостью поэтической формы нет ни гневного осуждения подъяремных порядков прошлого, ни яркого отображения новой, социалистической жизни украинского народа, которая становится все светлее и краше». И наконец, вывод: «Под таким творчеством подпишется любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем, Петлюра, Бандера и т. п.».
Возникает вопрос: для чего же понадобился такой разнузданный разнос поэтического создания Владимира Сосюры? Да и почему его «вредность» обнаружили лишь через шесть лет после первой публикации? Эта зловещая акция, как оказалось, вписывалась в разворачивающуюся очередную кампанию борьбы с «идейными перекосами», с «буржуазным национализмом». Удар наносился по Украине, а попутно «закручивались гайки» и в России. В той же «Правде» говорилось, что, опубликовав «идейно порочное» стихотворение Сосюры, «редакция журнала «Звезда» показала, что она не сделала необходимых выводов из решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам». А дальше, указав, что украинская печать «не раскритиковала порочного стихотворения, и оно многократно издавалось на Украине», «Правда» себя выдала еще больше. Оказывается, дело в том, что «приходится говорить об этом еще и потому, что ошибки допускаются не только в литературе». «Извращения в идеологической работе допущены» и в области искусства. В качестве примера названа постановка Киевским театром оперы и балета им. Т.Г. Шевченко оперы «Богдан Хмельницкий», либретто которой «содержит серьезные ошибки».
«Правда» не поскупилась на самые чудовищные обвинения в адрес всемирно известного поэта Максима Рыльского, который не только «особенно захваливал» стихотворение Владимира Сосюры, но и «сам в прошлом не избежал серьезных идеологических ошибок». Напоминала газета и о том, что «в свое время в докладе на пленуме правления Союза советских писателей Украинской ССР М. Рыльский наперекор фактам заявил, что в стихотворении В. Сосюры раскрывается тема «дружбы народов» и «интернационализма». Приговор окончательный: «Такая непринципиальная позиция неизбежно ведет к серьезным провалам в литературной работе и мешает правильному, большевистскому воспитанию творческих кадров».
История «Люби Украину» – жгучая рана в душе украинского народа, о ней никто никогда не забывал. Она и сейчас напоминает о тех травмах, которые нанесены национальному духу, национальному самосознанию Украины.
Новая волна украинского свободомыслия выпала на 1960-е и 1970 годы. По аналогии с Москвой это было названо диссидентством, что давало основание властям применять идентичные с Россией репрессивные формы его подавления. Но в Украине ситуация выглядела по-иному. В основе выступлений украинских «диссидентов» звучало законное и обоснованное требование бороться за сохранение национальной культурной самобытности народа и особенно пересмотреть языковую политику. Со временем же лозунг борьбы с языковой «русификацией» приобрел более широкое идеологическое звучание и стал отражать политическое противостояние между официальной властью и наиболее радикально настроенной частью интеллигенции, прежде всего творческой и научной.
Ощутимым ударом властей по свободомыслию стали аресты «диссидентов» в августе – сентябре 1965 года. Даже мы, журналисты (я тогда работал в молодежной печати), о причинах таких репрессивных мер узнавали лишь «кое-что», и то из зарубежных источников.
Именно из-за «бугра» своеобразной ответной волной пришла в Киев весть об осуждении 30 украинских «диссидентов». А чуть позже вопреки бдительности пограничников на Украину все же попала изданная в 1967 году в Париже книжка Черновола «Горе от ума. Портреты двадцати преступников», которая на какое-то время стала единственным источником информации об этих акциях. Единственным, да и то нелегальным, не говоря уже о том, что крайне ограниченным в количественном отношении.
Но еще более крупная акция относится к концу 1971 и началу 1972 года. И основная «заслуга» здесь принадлежит уверенно действующему тогда новому шефу КГБ Виталию Федорчуку. Доживавший последние дни своей политической карьеры на Украине Петр Шелест чувствовал, что ему Москва «наступает на пятки». В этих условиях на республиканском совещании идеологических работников он заявил, что в последнее время буржуазный национализм и сионизм (он их поставил рядом) значительно активизировались, призвал «решительно срывать зловещую маску с украинских буржуазных националистов, которые в своей антисоветской борьбе общаются с сионистскими организациями и разными контрреволюционными националистами за рубежом».
Несмотря на всю категоричность этих слов, поставленную Шелестом задачу пришлось решать не ему, а ставленнику Брежнева Щербицкому, который на первом же под его руководством Пленуме ЦК КПУ заявил о необходимости борьбы с инакомыслием. Для шефа республиканского КГБ это была своеобразная политическая директива, для практической реализации которой у него была готовность 1: списки подозреваемых составлены, «обвинительные» материалы собраны. Коллективы, где были обнаружены «национально озабоченные» личности, постоянно находились как бы под током высокого напряжения: по секретным докладным запискам КГБ решались вопросы партийности, должностного статуса и вообще работы сотрудников.
Нельзя не вспомнить и о создании украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений во главе с Миколой Руденко. Об этом было объявлено 9 ноября 1976 года, то есть вскоре после того, как в мае того же года аналогичная организация во главе с физиком Юрием Орловым была создана в Москве. Как известно, замысел инициаторов этого движения сводился к тому, чтобы широко разрекламированную дипломатическую победу Брежнева, подписавшего вместе с 34 лидерами других европейских государств Заключительный акт Хельсинкской конференции 1 августа 1975 года, использовать в борьбе с ним самим же. А почва для этого была «благодатная», так как права человека продолжали оставаться ахиллесовой пятой брежневского режима, официальные декларации никак не состыковывались с жизненными реалиями. Поэтому не потребовалось много времени, чтобы движение за соблюдение прав человека приобрело определенное организационное очертание.
Лидером украинской группы содействия выполнения Хельсинкских соглашений стал Микола Руденко – человек драматической и полной противоречивых коллизий судьбы. Вступление в партию, служба в отборной кавалерийской дивизии НКВД им. Дзержинского по охране руководителей правительства и, прежде всего, Сталина, переход по собственному желанию в обычные войсковые части и служба в них в качестве политкомиссара, участие в войне против фашистской Германии и полученные в ней ранения, избрание в послевоенные годы секретарем партийной организации Союза писателей Украины – это его жизненный путь, наполненный не только плодотворными поэтическими и прозаическими творческими поисками, но и активными акциями свободомыслия в конце 50-х и на протяжении 60-х годов. Установление связей с известными правозащитниками – Андреем Сахаровым и еще не выехавшим к тому времени в США генерал-майором Петром Григоренко (диссидент Григоренко в сентябре 1964 года, как значилось в официальной формулировке, «исключен из списков офицерского состава Вооруженных Сил СССР как дискредитировавший себя, и недостойный в связи с этим звания генерала»; умер в 1987 году в Нью-Йорке; в 1993 году указом президента России восстановлен в генеральском звании) – позволило координировать действия московской и украинской групп.
Официальные власти пустили в ход испытанное оружие. Руденко 1 июля 1977 г. получил семь лет лагерей и пять лет ссылки. Такая же судьба была уготована и другим активистам движения и, прежде всего, Олексе Тихому и Юрию Литвину, жизнь которых оборвалась в лагерях в 1984 году. В целом же группы содействия Хельсинкским соглашениям были уничтожены уже в 1980 году: кто попал в места не столь отдаленные, а кто пересек границу и продолжал борьбу, сменив амплуа «диссидента» на эмигранта.
Забегая немного вперед, скажу, что Щербицкий и Федорчук потерпели моральное поражение в разрешении проблем, возникших в связи с украинской «хельсинкской группой», прежде всего потому, что они оказались неспособными прочувствовать новые тенденции в политической жизни, когда оппозиционные силы получили организационное оформление. Обстановка требовала признания политической реальности и перехода к диалогу с ними. Возобладали же традиционные репрессивно-административные методы.
Что же собой представляла украинская «хельсинкская группа»? Сам факт ее формирования из числа «лагерников» говорил о неэффективности послесталинских репрессивных процессов, и вопрос уже ставился так: или вновь инакомыслящих загонять в лагеря, или согласиться с появлением профессиональной оппозиционной группы. Особый вес имело и то обстоятельство, что Руденко, ставший лидером этой группы, представлял до недавнего времени, как писали зарубежные издания, «украинскую коммунистическую элиту». В содержательном же плане группа была неуязвима – она, опираясь на Хельсинкские соглашения, боролась за соблюдение прав человека, получая более чем достаточное количество доказательств того, что здесь «есть чем заниматься».
Установление же контактов с московскими единомышленниками Орловым и Сахаровым, о моральном и политическом облике которых в определенных интеллектуальных кругах говорить не приходится, лишало Щербицкого и Федорчука их основного оружия – обвинения оппозиционеров только в «украинском буржуазном национализме»: спектр их совместных проблем значительно шире.
Кроме того, противовесом «местничеству» и «хуторянству» стало расширение региональных рамок движения и координация действий украинских правозащитников со своими единомышленниками из ряда республик, прежде всего Литвы, Грузии и Армении. И наконец, движение получило поддержку за рубежом, причем не только в лице части украинской эмиграции, но и в правительственных структурах.
Из зарубежных источников я узнал и об аресте 17 декабря 1973 года одного из выдающихся кинорежиссеров Сергея Параджанова. Если в своей стране он имел имидж диссидентствующего режиссера и одного из руководителей Киевской киностудии им. Довженко, то цивилизованная зарубежная интеллектуальная элита высоко оценила его как за отмеченные высоким талантом кинопроизведения «Украинская рапсодия», «Цветок на камне», «Тени забытых предков» (этот фильм отмечен призом кинофестиваля Мар-де-Плята в Аргентине в 1965 году), так и за бескомпромиссную позицию против преследований интеллигенции.
Хотя Сергей Параджанов еще в 1968 г. подписал вместе со 138 деятелями культуры письмо с протестом против арестов и судов над украинскими деятелями культуры, против нарушений демократических свобод и злоупотреблений в национальном вопросе, власти длительное время не могли «найти» что-то конкретное против него. Поэтому арест через несколько лет после петиции – все это стало для общественности и неожиданным, и непонятным. Возмутилась и мировая общественность. В итальянском городе Турине был создан комитет по защите Сергея Параджанова, а в адрес советского правительства было направлено письмо, в котором большая группа деятелей культуры требовала объяснить все происшедшее и сообщить о дальнейшей его судьбе. Под текстом стояли подписи режиссеров и деятелей культуры с мировыми именами: Ф. Трюффо, А. Ресне, К.-Л. Годар, Рене Клеман, Ж. Риветти, Л. Бунюэль, Л. Малле, Ф. Феллини, Л. Висконти, Р. Росселлини, С. Леоне, М.-А. Антониони, П.-П. Пазолини, Б. Бертолуччи и др.
Кроме арестов в богатом арсенале средств борьбы с инакомыслием широко применялась практика «открытых писем», в которых после длительной кагэбистской обработки попавшие в немилость официальным властям «национально неравнодушные» интеллигенты не только «каялись» за содеянное, но и «разоблачали» инсинуации «зарубежных украинско-националистических центров». Вспоминаю, как 2 марта 1972 года в газете «Радяньска Украiна» появилось покаянное открытое письмо Зиновии Франко – внучки выдающегося украинского поэта Ивана Франко. Говорила она в нем, что в то время зарубежные радиостанции и пресса усиленно раздували «вымышленный вопрос» о преследованиях на Украине деятелей культуры, и жаловалась на то, что в «этой крикливой антисоветской шумихе» используется и ее имя, причем с рекламным дополнением «внучки выдающегося украинского поэта». «Прозрела» же она после того, как оказалась пойманной за передачу некоторых материалов, которые представляли особую ценность арестованного впоследствии бельгийского гражданина Я. Добоша.
Подчеркнув в открытом письме, что хотя она непосредственно не изготавливала различные поклепы, все же передала за границу «один из этих материалов». «В своем политическом ослеплении, – писала она, – я не заметила, что стала передавать информацию замаскированным представителям зарубежных вражеских националистических центров, связанных с разведками империалистических государств. Таким оказался Ярослав Добош, который был пойман на горячем. Это уже был путь, который мог привести к измене. На этом пути меня вовремя остановили, за что я искренне благодарна».
И, понятно, после этого – покаянные слова, признание того, для чего она понадобилась «врагам украинского народа», заверение «честным трудом искупить свою вину перед народом».
Не менее показательным стало признание своих «ошибок» Иваном Дзюбой, произведение которого «Интернационализм или русификация» могучим громом пронеслось в 1965 году не только над всеми руководящими кабинетами Киева и Москвы, но и донесло украинскому зарубежью истинную, подкрепленную цифрами, фактами, выверенную государственной статистикой картину, которая складывалась с развитием не только украинского языка, но и всей культуры в целом. Попавший за границу самиздатовский вариант его сочинения буквально взорвал общественное мнение, а на Украине он стал предметом особой заботы КГБ.