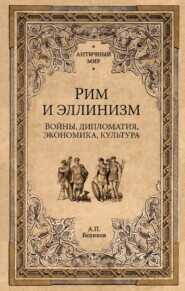скачать книгу бесплатно
В 201 г. до н. э. с просьбой о помощи обратились Родос и Пергам (Liv. XXX.2). Они встретили совсем другой приём. Рим искал повода к войне[404 - Жебёлёв С.А. Первый год 2-й Македонской войны. С. 106.], и, хотя просьбы родоссцев и пергамцев не могли быть основанием, так как они первыми начали войну с царём[405 - Герцберг Г. Указ. соч. С. 298.], сенат обещал помочь им. Одновременно римляне отправили послов в Египет, «прося сохранить расположение, если обиды вынудят начать войну против Филиппа» (Liv. XXXI.2). Это доказывает, что война была уже окончательно решена. В преддверии неё прибегли к обычной практике – посещению союзников с целью заручиться их поддержкой. Это предшествовало любой войне.
В 200 г. до н. э. в Элладу отбыла особая миссия сената для ознакомления с ситуацией и привлечения новых союзников. В Италии уже были готовы войска и корабли для их переброски на Балканы[406 - Balsdon J.P.V.D. Rome and Macedon… P. 41; Magie D. Opus cit. P. 44.]. Прибыв в Афины, хору которых разорял македонский стратег Никанор, римские послы заставили его уйти из Аттики (Polyb. XVI.27). Стратег разорял хору в ответ на объявление афинянами войны Македонии[407 - McDonald A.H., Walbank F.W. Opus cit. P. 192.], т. е. с точки зрения эллинистической политики это были обоснованные и общепринятые действия. Афины не были союзником Рима – доказано, что они внесены в число подписавших мир в Фенике анналистами и Ливием задним числом[408 - Larsen J.A.O. The Peace of Phoenice and the Outbreak of the Second Macedonian War // CPh. 1937. Vol. XXXII. № 1. P. 18; McDonald A.H., Walbank F.W. Opus cit. P. 180; McShane R.B. Opus cit. P. 125.], таким образом, римляне не имели формального права вмешиваться в этот инцидент. Утверждение, что вторжение Филиппа в «союзную» Аттику дало повод к войне[409 - История человечества / Ред. Г. Гельмольт. СПб., 1896. С. 186.], вообще не имеет никаких оснований.
Затем римские послы посетили Эпир, Этолию, Ахайю, ведя антимакедонскую пропаганду и рекламируя требование к Филиппу не воевать с греками. Одной из целей миссии было удержание Эпира и Ахайи от помощи царю. Одновременно Аттала известили, что Рим с готовностью пойдёт войной на Филиппа (Polyb. XVI.26.2). Вскоре царю предъявили ультиматум: не воевать с греками, не посягать на Египет, ответить перед третейским судом за обиды Родосу. Эти требования никак не могли опираться на условия мира в Фенике[410 - Larsen J.A.O. The Peace of Phoenice… P. 30; Balsdon J.P.V.D. Rome and Macedon… P. 41; Holleaux M. Rome and Macedon: the Romans against Philip. P. 160.] и показывают новые цели Рима – сделать Македонию зависимым государством[411 - Cary M. A history of Rome. London, 1960. P. 199.]. Показательно, что Филипп пытался оправдаться, объясняя, что родоссцы первыми напали на него, но был грубо и бесцеремонно прерван римским послом (Polyb. XVI.34.5). Возмущенный Антигонид с царственным достоинством заявил, что желает мира, но если римляне начнут войну, то получат отпор (Polyb. XVI.43.7; Liv. XXXI.18). По Аппиану, Филипп сказал, что римлянам стоит держаться тех условий, которые они с ним заключили (Mac. IX), т. е. не вмешиваться не в свои дела. «Так был нарушен заключённый договор…», – добавляет Аппиан, считая виновным царя (ibid).
Инициатором и виновником войны был Рим, но в то же время и Филипп отнюдь не безвинная жертва. Проявляя агрессивность, он планировал создать державу в Эгеиде, поскольку Рим положил конец его мечтам править всей Грецией[412 - Magie D. Roman Rule in Asia Minor to the end of the third century after Christ. Vol. 1. Princeton, 1950. P. 13.]. На переговорах в Никее у Филиппа потребовали вернуть те земли в Иллирии, которые он «post pacem in Epiro factam ocupasset» (Liv. XXXII.33.3). Здесь Ливий даёт дословный перевод Полибия (см.: Polyb. XVIII.1.14). С. Оуст вслед за М. Олло и П. Бэлсдоном даёт перевод не «после мира в Эпире», а «в соответствии с миром»[413 - Oost S.I. Philip V and Illyria, 205–200 B.C. // CPh. 1959. Vol. LIV. № 3. 160–163.]. Однако, как отмечают Дж. Ларсен и Д. Брискоу, такой перевод невозможен[414 - Larsen J.A.O. The treaty of peace at the conclusion of the Second Macedonian War // CPh. 1936. Vol. XXXI. № 4. P. 344; Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXI–XXXIII. P. 54.]. Он противоречит грамматике и логике. Приведённое там же требование вернуть Египту земли, «quas post Philipatorem Ptolomaei mortem occupavisset» (Liv. XXXII.33.4), нельзя перевести – «которые в соответствии со смертью Птолемея Филопатора захватил». Наконец, Полибий в таком случае должен был употребить греческое слово «kata», но не «meta». Поэтому единственно возможный перевод: «после мира… после смерти…».
Отсюда следует, что Филипп после Феники действительно захватил какие-то земли в Иллирии. Можно, однако, определённо утверждать, что они не входили в римский протекторат, – Филипп был заинтересован в сохранении мира с Римом и не стал бы так рисковать. С другой стороны, и римляне восприняли бы его вторжение в протекторат как немедленное возобновление войны. Очевидно, царь напал на «ничейные» нейтральные иллирийские земли, надеясь, что Рим занят Карфагеном и не обратит на это внимания. Но даже эту ошибку Антигонида трудно считать «обидами римским союзникам» и тем более основанием для войны. Не желая войны, Филипп, очевидно, по требованию сената очистил бы эти территории, а требования «restituenda» (Liv. XXXII.33.3) их Риму выглядит излишне категоричным, поскольку они и не были частью римского протектората.
Даже непризнания прав сената вмешиваться в восточные дела было достаточно для войны, но причины её кроются глубже. Приведённое Ливием обоснование войны – за нарушение мира с этолийцами и другими союзниками, отправление войск Ганнибалу, просьба Афин, обиженных Филиппом (XXXI.1), – несостоятельно. Обращением Этолии сенат пренебрёг, обиды союзникам весьма проблематичны, войск в Африку царь не посылал, а Афины вообще не были союзником Рима.
В историографии указываются четыре частных момента, ставших причиной войны.
1. Наиболее распространенное мнение – месть Филиппу за союз с Ганнибалом[415 - Богоявленский М. История Рима. СПб., 1855. С. 66; Лозинский С.Г. Указ. соч. С. 96; Лапин Н. Ганнибал. М., 1939.С. 58; Бокщанин А.Г. История международных отношений и дипломатии в Древнем мире. М., 1945; Frank T. Roman imperialism. 2
ed. New York, 1929. P. 149; Holleaux M. Rome and Macedon: the romans against Philip. P. 158; Bickerman T.J. Bellum Philippicum. P. 145; Chroust A.-H. International treaties in Antiquity // Classica et Mediaevalia. 1954. Vol. XV. Fasc. 1–2. P. 102; Badian E. Foreign clientelae. P. 64; Raditsa L. Bella Macedonica // ANRW. Bd. 1. Berlin; New York, 1972. P. 572; Starr C.G. The romans. P. 37; Gruen E.S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol. 2. Berceley, 1984. P. 385.]. Это, безусловно, верно, но это не главное.
2. Союз Филиппа с Антиохом, опасение чрезмерного усиления Македонии и совместного похода царей на Рим[416 - Сергеев В.С. История Древнего Рима. М.—Л., 1925. С. 15; Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. С. 179; Он же. История Древнего Рима. С. 39; Ковалёв С.И., Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 92; Pelham H.P. Opus cit. P. 128; Holleaux M. Rome, la Grece, et les monarchies… P. 315; Adcock F.E. The Roman Art of War… P. 87; Starr C.G. The emergence of Rome. Ithaca; New York, 1953. P.39.]. Нам такой страх представляется сильно преувеличенным. Филипп, несомненно, казался далеко не таким страшным, как Ганнибал[417 - Жебелёв С.А. Первый год 2-й Македонской войны. С. 105.]. Сильной Македонии сенат не хотел – но и это не главное. В возможность объединённого похода царей едва ли кто верил.
3. Одна из причин войны – возрождение морского могущества Македонии[418 - Adcock F.E. The Roman Art of War… P. 36, 88; Thiel J.H. Opus cit. P. 203; McDonald A.H., Walbank F.W. Opus cit. P. 206.]. Полностью отбрасывать это мнение нельзя, но флот царя был не настолько силён, чтобы представлять угрозу Риму. Это могло быть лишь третьестепенной причиной.
4. Защита союзников и слабых государств Востока[419 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 660; Charleswotrh M.P. Trade-routes and commerce of the Roman Empure. 2
ed. Cambridge, 1926. P. 3; Scullard H.H. Roman Politics. P. 89; Balsdon J.P.V.D. Rome and Macedon… P. 30.]. Рим начал войну по просьбе Родоса и Пергама и «под сильным их давлением»[420 - Holleaux M. Rome and Antiochus // CAN. Vol. VIII. P. 240; Rostovtzeff M. SEHHW. Vol. 1. P. 52; Walbank W.F. Polybius and Rome’s eastern Polity // JRS. Vol. LIII. P. 7; Starr C.G. A History of the Ancient World. Oxford, 1965. P. 489; Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXI–XXXIII. P. 41.]. Такая позиция не соответствует действительности.
5. Причина войны – борьба нобильских родов за славу. Войны желала антисципионовская группа, завидуя его славе и желая уравняться с ним во влиянии[421 - Dorey T.A. Contributory Causes of the Second Macedonian War // AJP. 1959. Vol. LXXX. № 3. P. 290; Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXI–XXXIII. P. 46.]. Её спровоцировала группа Сульпиция Гальбы[422 - Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXIV–XXXVII. P. 30. Note 1.] или Клавдия[423 - Dorey T.A. Contributory Causes… P. 291.]. По этой же причине Сципион был против войны[424 - Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXIV–XXXVII. P. 30.], и отказ комиций утвердить её подстроен Сципионом[425 - Scullard H.H. Roman Politics. P. 86–87.]. С другой стороны, напротив, утверждается, что войну начал Сципион[426 - Carcopino J. Les etapes de l’imperialisme romain. Paris, 1961. P. 10, 67; Briscoe J. Flamininus and Roman Politics, 200–189 B.C. // Latomus. 1972. T. XXXI. Fasc. 1. P. 40.]. Сами исключающие одно другого определения «авторов» войны показывают несостоятельность такого подхода.
Мнение промарксистски настроенной[427 - См.: Wason M.O. Class Struggles in Ancient Greece. London, 1947. P. 9.] М. Уэйзон отличается от всех предыдущих. Она полагает, что империалистическая агрессия не была причиной вмешательства Рима, сенат боялся контакта революционной Греции с недовольным населением Италии, а поскольку Филипп не мог контролировать Грецию, то римлянам пришлось действовать самим, чтобы усмирить Балканы и не допустить революции на Апеннинах[428 - Opus cit. P. 225–226.]. Именно слабость царя вынудила Рим к интервенции, контроль над Грецией был установлен в интересах правящего класса, римляне вошли в союз с греческими олигархами[429 - Ibid. P. 228, 232.]. Эта установка перекликается с позицией ряда советских учёных[430 - См.: Тарков П.Н. К истории международных отношений в Античности // ВДИ. 1950. № 2. С. 35; Шофман А.С. Указ. соч. С. 238.], но является устаревшей и безусловно ошибочной.
В.И. Кащеев справедливо предостерегает: нельзя ограничиваться только причинами единичными, частными[431 - Кащеев В.И. Указ. соч. С. 13.]. Все причины имеют основой одну – растущую агрессивность Рима. Именно отсюда желание не дать царю усилиться за счёт слабых соседей. Грецию, самую слабую часть эллинистического мира, Рим сам хотел прибрать к рукам. Македония могла помешать – её следовало разгромить[432 - См.: Всемирная история. Т. 2. С. 314.]. Причины войны лежат не столько в Македонии, сколько в Греции и Иллирии. После 206 г. до н. э. вопрос остался нерешённым: Филипп не смог вытеснить римлян из Иллирии, но и им не удалось сохранить все свои иллирийские владения. Царь примирился с таким исходом, римляне – нет! Цели сената узкоагрессивны: вернуть Атинтанию и устранить влияние Македонии в Греции. Цель Рима – не «завоевать Грецию»[433 - Homo L. Opus cit. P. 295.], на тот момент никто не ставил перед сенатом таких задач, а ослабить Филиппа и ограничить его власть Македонией[434 - Holleaux M. Rome and Macedon: the romans against Philip. P. 158.]. Главным здесь был не страх перед усилением вероятных противников, а соперничество Рима и Македонии на адриатическом побережье[435 - Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III – начале II в. до н. э. Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1974. С. 10.]. Г. Бенгтсон, не веря в страх сената, признаёт римскую политику агрессивной[436 - Bengtson H. Griechische Geschichte. Munchen, 1950. S. 449.]. У Рима не было легальных оснований для войны[437 - Ранович А.Б. Указ. соч. С. 259.]. Лозунг защиты греческой свободы давал формальные основания для нарушения мира[438 - Holleaux M. Rome and Macedon: the romans against Philip. P. 158.].
В 200 г. до н. э. консул сделал в сенате доклад о войне с Македонией. Уже после обязательных перед войной жертвоприношений, «кстати для возбуждения умов к войне» (Liv. XXXI.5), пришли письма послов об угрозе, которую якобы представляет армия Филиппа для Италии, и прибыли афиняне просить помощи. Появился благовидный предлог – им ответили: после раздела провинций царь получит войну (ibid.).
Однако народ, уставший от войн, отказался её утвердить (Liv. XXXI.6). Это устоявшееся общее объяснение, но оно становится понятнее, если добавить к нему сухие цифры. Ценз 233 г. до н. э. показал 270 713 граждан (Liv. Ep. 20), 208 г. до н. э. – 137 108 человек (Liv. Ep. 27). Следовательно, только за 10 лет II Пунической войны Рим потерял более 133 000 квиритов, не считая союзников! Неудивительно, что народ хотел хотя бы мирной передышки. Лишь прибегнув к обману, что царь готов высадиться в Италии, консул убедил граждан. Эта ловкая политическая манипуляция показывает, насколько римские политики были правдивы даже с собственным народом! Дабы не раздражать квиритов, набрали только два легиона неслужилой молодёжи плюс добровольцев-ветеранов. Зато союзные контингенты были увеличены, после II Пунической войны их набирали почти вдвое больше[439 - См.: Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей. Т. 3. Харьков, 1902. С. 446.]. Одной из мер наказания нелояльных италиков стал более тяжёлый «налог кровью».
Вдобавок сенат надеялся на помощь греков, чему способствовала официальная мотивировка войны: за обиды, причинённые союзникам Рима (ibid.). В Греции Рим желал появиться не агрессором, а мстителем за обиженных и освободителем от ига Македонии. Агрессивны были обе стороны, но римляне повели дело так, что виновником войны выглядел царь[440 - Бокщанин А.Г. История международных отношений… С. 54.].
Крупные силы пришлось держать в Италии: на севере восстали галлы, много племён опорочили себя помощью пунийцам и были раздражены против Рима (Liv. XXXI.8). На Балканы послали армию всего в 30 000 человек, однако от помощи, предложенной Египтом, отказались. Сенату важно было показать, что, несмотря на тяжёлые потери, он может справиться с любым врагом, а помощь союзникам – это дело только самого Рима (Liv. XXXI.9).
Дипломатическое обеспечение войны продолжалось. У Масиниссы просят конницу, обещая взамен «поддержать и увеличить» его царство. (Liv. XXXI.11). Карфаген добровольно помог хлебом. Особо важная миссия была возложена на посольство к Антиоху – добиться его нейтралитета. Это легко удалось: цари относились друг к другу без доверия, а неудачи одного не трогали другого. Как отмечает Т. Моммзен, Антиох был не настолько дальновиден, чтобы помешать появлению Рима на Востоке, хотя трудно поверить, что он даже желал поражения Македонии, лишь бы «не делиться» египетскими владениями[441 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 682.]. Скорее всего, царю не было дела ни до Рима, ни до Филиппа, ведь в данный момент он воевал с Египтом.
Ещё в 204 г. до н. э. египетские послы умоляли сенат защитить их страну от Селевкида (Just. XXX.2.8). Но вплоть до конца II Македонской войны Египет был предоставлен своей судьбе, и лишь потом, обострив отношения с Антиохом, Рим заявил о своей готовности защищать и египтян тоже. Г.В. Штолль утверждает, что Рим не мог равнодушно смотреть на обиды дружественному Египту[442 - Штолль Г.В. Указ. соч. С. 323.], однако сенат несколько лет преспокойно взирал на эти обиды, пока ситуация не изменилась и не стало выгодно вмешаться. Необходимо анализировать римскую политику без малейшей идеализации, опираясь только на факты.
Осенью 200 г. до н. э. консул высадился на Балканах. Горячего приёма он не встретил, греки выжидали. Македонию не любили, но опасались и «варваров-римлян», их появления многие не одобряли. Сначала только Родос, Пергам и Афины сражались за римлян, а на стороне Филиппа – Эпир и Беотия. Рим сразу стал важнейшим фактором международных отношений Востока[443 - Ранович А.Б. Указ. соч. С. 259.] и главной силой в войне. Он использовал противоречия эллинистических правителей, но Македонские войны отнюдь не были «внутренними для эллинистических держав»[444 - Тачева-Хитова М. Древняя Фракия и юго-восток Европы. София, 1976. С. 48.], и Рим не стал «только членом антимакедонской коалиции»[445 - Wood F.M. The Military and Diplomatic Campaign of T. Quinctius Flamininus in 198 B.C. // AJP. 1941. Vol. LXII. № 3. P. 277.]. Нельзя согласиться, что его роль в войне была «незначительной»[446 - Тарков П.Н. Рец. на книгу Ф. Уолбэнка «Филипп V Македонский» // ВДИ. 1947. № 4. С. 100–101; Вейнберг И.П. Образование провинции Азия. Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1954. С. 4; Wood F.M. Opus cit. P. 277; McShane R.B. Opus cit. P. 147.], это противоречит фактам. Ахейцам, пытающимся помирить родоссцев с Филиппом, римляне жёстко и однозначно заявили, что Родос не может заключить мир без согласия Рима (Polyb. XV.35). Из этого отчётливо видно, кто был главной и решающей силой в коалиции врагов Македонии.
Военные действия шли вяло, предстояла главная борьба – за союзников. Филиппу, испортившему отношения с Ахайей, не удалось вовлечь её в войну. На собрании этолийцев послы Филиппа удерживали их от нарушения мира, римляне склоняли к войне (Liv. XXXI.29). В словесном состязании победа осталась за Римом, и не потому, что римский легат оказался красноречивее, скорее сыграла свою роль явная угроза, которой он закончил свою речь – вы или погибнете с Филиппом, или победите с Римом (Liv. XXXI.31). Иного выбора не оставалось.
Вскоре, узнав о мелких победах Рима и нападении на Македонию дарданов и иллирийцев (Liv. XXXI.40), Этолия вступила в войну. Римляне долго не могли добиться успеха – Сульпиций и сменивший его Виллий были слабыми полководцами. Италики не желали гибнуть за Рим, новобранцы не имели боевого опыта, а ветераны, наскуча войной, не дающей добычи, устроили бунт, утверждая, что их набрали насильно и требуя отставки. Учитывая, в каких условиях началась война, нельзя поверить, что ветераны шли на неё «большей частью поневоле»[447 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 663; Шофман А.С. Указ. соч. С. 229.]. Ливий ясно пишет: брали добровольцев (XXXI.14.2).
В Риме росло недовольство, на 198 г. до н. э. консулом избрали энергичного Тита Квинция Фламинина, известного филэллина. Сенат надеялся, что он привлечёт к Риму симпатии греков. Положение оставалось сложным. Филипп отбил удары дарданов (Liv. XXXI.43) и этолийцев (Liv. XXXI.42). Антиох занял несколько пергамских городов, и Эвмен просил помощи Рима (Liv. XXXII.18). Сенат обещал помирить его с Селевкидом, добрые отношения с которым римляне в это время всячески подчёркивали. Само столкновение они представили конфликтом двух союзных Риму царей (ibid.). «Дружбу» с Антиохом надо было сохранить до победы, но Пергам был нужен, и римлянам удалось убедить Селевкида увести войска (Liv. XXXII.27). Дружба сената к Антиоху вызывалась соображениями дипломатическими (Liv. XXXII.20). Раньше «римляне и царь с большим подозрением относились друг к другу» (App. Syr. 2). Римляне считали, что он может нарушить нейтралитет, Антиох опасался, что они помешают ему переправиться в Европу. «Но вообще у них не было явных причин для враждебных отношений» (ibid.).
Чтобы выиграть время, Фламинин начал переговоры, Филипп охотно пошёл на них, он желал ухода римлян из Греции и даже готов был очистить занятые города. Консул потребовал освободить Фессалию, что или ослабляло Македонию, или, при отказе, прекращало переговоры. Царь, разумеется, отказался (Liv. XXXII.10). Тем временем Фламинин привлёк значительную часть эпиротов на свою сторону (Liv. XXXII.14) и оказал сильное давление на Ахайю, дав понять, что остаться в стороне ей не удастся. Опасаясь стать врагами Рима, ахейцы стали врагами Македонии. Большинство ахейцев были недружелюбны к римлянам (App. Mac. VII), но утверждение А.И. Павловской, что знать союза примкнула к Риму, надеясь, что он будет охранять её классовые интересы[448 - Павловская А.И. Греция и Македония в эпоху эллинизма // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 428.], является безусловным упрощением.
Лестью или силой консул получил помощь от греков[449 - Starr C.G. A History of the Ancient World. P. 491.], его дипломатическая победа изменила соотношение сил. Эти успехи побудили сенат продлить его полномочия ещё на год (Liv. XXXII.28). Встревоженный Филипп возобновил переговоры (XXXII.32). Очевидно, он уже не верил в победу и готов был купить мир крупными уступками[450 - Иегер О. Указ. соч. С. 153.]. Рим предъявил ещё более тяжёлые и «обидные»[451 - Ранович А.Б. Указ. соч. С. 259.] условия, явно не желая ещё одного «незрелого» мира. Сенат хотел заставить царя признать римское политическое верховенство[452 - Eckstein A.M. T. Quinctius Flamininus and the Campaign against Philip in 198 B.C. // Phoenix. 1976. Vol. XXX. № 2. P. 131.]. Растеряв союзников, Филипп обратился к спартиату Набису, тот, верно оценив ситуацию, перешёл на сторону Рима (Liv. XXXII.39). Продолжая политику изоляции Македонии, Фламинин заключил союз с Беотией (Liv. XXXIII.2). Только теперь, ослабив царя и обеспечив тыл, он дал генеральное сражение. В 197 г. до н. э. при Киноскефалах македонская армия была разгромлена, исход битвы во многом решила этолийская конница[453 - Подробнее см.: Polyb. XVIII.34.2; Liv. XXXIII.7.]. Царь запросил мира.
Война окончилась, и сразу изменилось отношение к союзникам, особенно этолийцам. Раньше Фламинин всё прощал им, теперь же начал всячески принижать (Liv. XXXIII.11). Сделав много для победы, Этолия претендовала на гегемонию в Греции, но Рим сам хотел править (App. Mac. IX). Римляне воевали не для того, чтобы место одного гегемона занял другой. Укрепляясь на Балканах и не прибегая к территориальным захватам, Рим поддерживал баланс сил, никому не давая усилиться. Только так можно было сохранить своё господство над всеми. Поэтому сенат отверг требование Этолии об уничтожении Македонии. Были и соображения частного порядка: разгром Македонии облегчал бы варварам, сдерживаемым ею, набеги на Грецию, которую уже считали своей подопечной. Довод о набегах был рассчитан на греков, не могли же объяснить им, что предпочитают сохранить ослабленную Македонию как пугало для Греции и обоснование своего вмешательства в греческие дела.
С заключением мира следовало поспешить: дошли слухи, что Антиох движется в Европу (Polyb. XVIII.39.3; Liv. XXXIII.13), по пути «перезахватывая» города, ранее взятые Филиппом. Мнение А.Л. Каца, что Антиох, в суматохе II Македонской войны захвативший некоторые территории, тем самым нарушил договор, заключённый с Римом[454 - Кац А.Л. Древний Рим. Фрунзе, 1959. С. 53.], абсолютно беспочвенно. Продвижение селевкидских войск и было главной причиной быстрого заключения мягкого мира (ibid.). Следует учитывать, что Филипп был не настолько ослаблен, чтобы подчиниться любым условиям[455 - Штолль Г.В. Указ. соч. С. 327.]. В известной мере и этот мир стал для Рима вынужденным, война не была доведена до логического конца – Македония не стала полностью зависимой.
Одна цель была достигнута – Греция оказалась во власти Рима. Этой властью надлежало распорядиться наилучшим образом (см. 3-ю главу).
После 197 г. до н. э. римляне «посоветовали» Филиппу заключить союз с Римом, чтобы не казалось, что он ждёт Антиоха, желая примкнуть к нему (Pol. XVIII.48.4). Царю пришлось подчиниться. В 195 г. до н. э. сенат велел Фламинину начать войну с Набисом, отказавшимся очистить Аргос (Liv.34.22). Главной причиной войны были опасения, что он примкнёт к Антиоху (Just. XXXIII.44), а не его «революционность». Римляне разбили Набиса, чтобы не воевать на два фронта (Liv. XXXI.1.6). Созвав общегреческое собрание, консуляр представил войну делом всех греков. Имея приказ о её начале, он лицемерно спрашивал, не угодно ли грекам освободить Аргос, поскольку это только их дело, а римляне не имеют к этому никакого отношения (Liv. XXXIV.22). Возникает резонный вопрос: почему тогда сенат решил войну без предварительных консультаций с греками? Это показывает, насколько всерьёз воспринимали «свободу» эллинов. Рим никогда не считался с мнением греков, даже в делах, касающихся Греции.
На Набиса двинули большие силы, даже Филипп прислал отряд (Liv.XXXIV.26), уклонились только этолийцы. Отнятый у разбитого Набиса Аргос объявили свободным – и отдали ахейцам! (Liv. XXXIV.41). Во внутренние дела Спарты сенат вмешиваться не стал, это опровергает тезис, что он искоренял в Греции демократию, опираясь на олигархов. Спарту не уничтожили, чтобы сохранить баланс сил.
В 194 г. до н. э. сенат увёл войска из Греции: оставить армию означало внушать грекам сомнения в подлинности их освобождения. Перед отъездом Фламинин отменил в городах все распоряжения сторонников Филиппа, которые могли бы усилить позиции промакедонских сил (Liv. XXXIX.48). В Греции положение оставалось сложным, ценой «свободы» была разруха и раздробленность страны[456 - Holleaux M. Rome and Macedon: the romans against Philip. P. 194.]. В 193 г. до н. э. обиженные на римлян этолийцы пытались поднять против Рима Спарту и Македонию. Филипп отказался, но и не известил сенат об этих переговорах и планах Этолию. Одновременно Этолия агитировала Антиоха, обещая ему помощь Филиппа и от себя большое войско (App. Syr. 12). Селевкид не торопился. Возмутить удалось только Набиса, напавшего на Ахайю, но его разбили так быстро, что сенат не успел вмешаться, и Спарта была включена в Ахейский союз (Liv. XXXV.37).
Отсутствие единства эллинистических царей позволило столкнуть Антиоха с Филиппом. Антигониду ещё до войны вернули сына, находившегося в заложниках в Италии, обещали простить недоплаченную контрибуцию и оставить ему все владения, которые он сумеет отнять у Этолии и её союзников (Liv. XXXVI.10; App. Syr.16). И он, вынужденный союзник, помог Риму, не из любви к нему, а из ненависти к Антиоху[457 - Вебер Г. Указ. соч. С. 538; Стельмашенко М.А. История Рима. Киев, 1906. С. 44.]. Царь, конечно, ненавидел Рим намного больше, чем Антиоха, но у него уже не было другого выхода. Сыграли роль жажда мести этолийцам, стремление прибрать к рукам хоть что-нибудь, желание мелких сиюминутных выгод. Его возмутило, что Антиох имел своего претендента на македонский трон, – это была большая ошибка Селевкида[458 - Oost S.I. Aminander, Athamania a and Rome // CPh. 1957. Vol. LII. № 1. P. 9.].
Но не это было главным: теперь Филипп желал «мирного сосуществования» с могучим Римом. Он понимал, что война с ним закончится крахом Македонии, а оказав помощь, мог надеяться на благодарность. Притом, заключив foedus с Римом, Филипп не мог остаться даже нейтральным[459 - См.: Matthaei L.E. On the Сlassifications of Roman allies // CQ. 1907. Vol. 1. № 2–3. P. 191, 194.]. Не осмеливаясь думать о свержении ярма, он думал лишь о том, чтобы смягчить его тяжесть[460 - Монтескьё Ш. Рассуждения о причинах величия и падения Рима // Избранные произведения. М., 1955. С. 71.]. Союзный договор предусматривал общих врагов. Такие договоры заключались после войны и «регулировали отношения Рима с побеждённым, но ещё не покорённым врагом»[461 - Александренко В.Н. Международное право Рима // ЖМНП. 1895. Февраль. С. 305; Мишулин А.В. Объявление войны… С. 106.].
Филипп стал фактически зависимым монархом[462 - Rostovtzeff M. SEHHW. Vol. 1. P. 53.]. Сохранился любопытный фрагмент Полибия: «Важнее всего было отвращать войну от Македонии…» (fr. 108). Кто, кроме царя, мог это делать? Эта фраза может быть подтверждением того, что Филипп не собирался затевать новую войну с Римом. Фрагмент мог находиться в книге о Сирийской или, что не менее вероятно, о III Македонской войне, обе эти книги дошли не полностью. Ещё до начала войны послы Антигонида в Риме обещают вспомогательные войска, хлеб и деньги (Liv. XXXVI.4). Невозможно, однако, поверить, что на это его толкнуло захоронение Антиохом непогребённых костей павших при Киноскефалах македонян, а раньше он хотел соотнести своё решение с военным счастьем (Liv. XXXVI.8; App. Syr.16).
В 192 г. до н. э. Антиох вторгся в Элладу с небольшим войском, но уже в следующем году был разбит римлянами в битве при Фермопилах и бежал в Азию. Греки его не поддержали, и не потому, что у власти стояли «знатные и благонамеренные»[463 - Павловская А.И. Указ. соч. С. 429.], – именно они позже втянули Грецию в войну против Рима на стороне Митридата! Просто неприязнь к Риму ещё не достигла того накала, к которому пришла веком позже. Греки прекрасно понимали, что Антиох пришёл освобождать их «для себя», и пока у них не возникла острая потребность в смене хозяина. Война римлян с отчаянно сопротивлявшимися этолийцами окончилась в 189 г. до н. э. – они сопротивлялись на год больше, чем огромное Селевкидское царство! Они вынуждены были признать верховенство и власть народа римского, обязались иметь общих с ним врагов и помогать Риму в войне (Polyb. ХХI.32.2–4). Территорию Этолии сильно сократили, взяли большую контрибуцию. Этолия получила foedus iniquum и стала полностью зависимым[464 - Sherwin-White A.N. Opus cit. P. 115; Briscoe J. Flamininus… P. 50.] государством-клиентом[465 - Errington R.M. The dawn of Empire. P. 186.]. Такие договоры были традиционны для Рима в Италии, и он перенёс свой италийский опыт на греческую почву. Покончив с Антиохом, Рим ужесточил политику на Балканах. Теперь римляне считали, что их протекторат над греками сменился полной римской гегемонией. Нужда в помощи союзников исчезла. Особое внимание сенат уделял Македонии, пытаясь превратить её в полностью зависимое государство. Давление на страну нарастало, её всячески старались ослабить (App. Mac. IX.6).
Филиппу изменило чувство меры, и он занял не только этолийские города, но и несколько фессалийских. Не случись этого, сенат, возможно, дольше помнил бы о ценной помощи Филиппа в войне, к тому же, присоединившись к Антиоху, он мог очень навредить Риму (ibid.). Только благодаря Филиппу римская армия без потерь прошла через Фракию в Азию. На обратном пути, когда царь уже не обеспечивал безопасность дороги, фракийцы отбили часть трофеев, а консул с потрёпанным войском сумел спастись, лишь уйдя в Македонию (App. Syr. 43).
Тем не менее после войны сенат заявил Филиппу, что щедрые обещания, данные ему накануне войны, это всего лишь обещания посла, и Рим не может их выполнить! Правда, ему оставили земли, занятые в Сирийскую войну, но позже потребовали очистить города Перребии и Эн с Маронеей (Polyb. XXII.15.3–4). Разгневанный царь устроил резню в Маронее, просившей сенат о свободе от Македонии. Римские послы установили, что резня – дело рук Филиппа и он «враждебен к Риму» (Polyb. XXII.18.6). Царь, однако, не шёл дальше беспомощной ненависти и не совершал враждебных по отношению к Риму действий. Он понимал, что дело идёт к уничтожению страны[466 - Walbank F. W. Philippos tragoidymenos // JRS. 1938. Vol. LVIII. Pt. 1. P. 66.], и готовился к защите: утвердился во Фракии, упрочил дружбу с иллирийцами и заключил союз с бастарнами. Полибий, однако, напрасно видит причину III Македонской войны в Филиппе (XXII.8.10), а В.С. Сергеев, слишком буквально понявший эту фразу автора, даже пишет, что войну начал «всё тот же неугомонный Филипп»[467 - Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима. Т. 1. М., 1938. С. 127.]. Заметим, что царь умер за восемь лет до её начала! Это показывает, насколько глубоко укоренилась необоснованная вера в реваншизм Филиппа. Царь больше не помышлял о мести Риму[468 - Всемирная история / Ред. А.А.Каспари. М., 1902. С. 309.] и готовился не к нападению, а к защите: имея намерение напасть первым, он мог осуществить его в Сирийскую войну, но при всей ненависти к Риму не рискнул это сделать даже в союзе в Антиохом и Этолией, когда шансы на успех были заметно весомей. Неправомерны утверждения, что царь хотел организовать вторжение северобалканских племён в Италию[469 - Мурыгина Н.Ф. Фракия и Рим. Борьба фракийских племён против римской агрессии во П-I вв. до н. э. Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1951. С. 7.], отвлечь римлян нападением кельтов, чтобы вновь захватить гегемонию в Греции[470 - Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения. СПб., 1908. С. 160.]. Р. Эррингтон совершенно справедливо считает их не только фальшивыми, но даже и фантастическими[471 - Errington R.M. Opus cit. P. 203.].
Разумеется, Филипп не стал пацифистом, но степень агрессивности прямо зависит от силы и политической ситуации, ни то ни другое не давало ему ни малейшего шанса на победу. Невероятно, чтобы царь, «с умением и величайший рассудительностью приспособившийся к своему новому положению» (Ро1. ХУШ.33.7), не понимал этого. Приписываемое ему желание начать войну[472 - Голицын К.С. Всеобщая военная история древних времён. Т. 3. СПб., 1873. С. 253; Штолль Г.В. Указ. соч… С. 334; Нич К. Указ. соч. С. 255; Шофман А.С. Указ. соч. С. 246; Homo L. Opus cit. Р. 305, 308; Toynbee A.J. Hannibal’s legacy. Vol. 2. P. 469.] и даже высадиться в Италии должно остаться на совести анналистов.
Ливий пишет, что, если бы Персей, по примеру отца, ежедневно дважды перечитывал договор с римлянами, он не стал бы портить с ними отношений (XLIV,16). На эту фразу обычно не обращают внимания. Видимо, чтение договора, ущемившего Македонию, напоминало царю о мощи врага, что позволяло укрощать гнев и сохранять осторожность. Несмотря на то что римляне крайне раздражали его своей назойливой опекой[473 - Герцберг Г. История Рима. М., 1881, С. 322.], он не терял самообладания и не позволял спровоцировать конфликт.
Война с Римом не была целью Филиппа, он готовился к борьбе, если бы римляне пожелали лишить Македонию независимости[474 - Benecke P.V.M. The fall of the Macedonian Monarchy // САН. Vol. VIII. Cambridge, 1930. P. 246; Rostortzeff M. A History of Ancient World. Vol. 2. Oxford, 1927. P. 71; Walbank F.W. A historical Commentary on Polybius. Vol. III. Oxford, 1979. P. 199.]. Утверждение Полибия, что царь готовил войну мести, ошибочно: он хотел видеть свою страну снова сильной, и ему это удалось[475 - Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 271.]. Филипп до самой смерти поддерживал хорошие (? – А.Б.) отношения с Римом[476 - Нетушил И.В. Обзор римской истории. 2-е изд. Харьков, 1916. С. 115.]. В 179 г. до н. э. он умер, оставив Персею заметно окрепшее царство.
Проблема III Македонской войны тесно связана с оценкой личности и деятельности Персея. В источниках он получает очень негативную характеристику. Отмечаются его скупость (Plut. Aem. Paul. VIII.XII), малодушие (Polyb. XXIX.17.5; Арр. Мас. ХV; Plut. Aem. Paul. IX), непорядочность (Plut. Aem. Paul.VIII; Just., XXII.3.1), излишняя доверчивость и нерешительность и в то же время – дерзость и неумение владеть собой (Liv. XLII.43.25). Традиция утверждает, что Персей ненавидел римлян (Plut. Aem. Paul. VIII), желал войны с ними (Liv. XLII.15) и склонял все племена к военному союзу против Рима (Just. XXII. 4.1). Луций Ампелий пишет, что причина войны – нарушение царём условий мира, заключённых с его отцом, и приводит совершенно абсурдное утверждение, очевидно, исходящее от анналистов, что Персей с огромным войском «совершил нападение на Грецию, но был разбит» (Ampelius. 16.4). Однако общая установка авторов – царь хотел войны – опровергается фактами, которые они же сами и приводят. Версия Ливия, что Персей убеждал Антиоха, Египет (?) и даже Пергам (?!) восстать против Рима (XLII.26), не имеет никакой опоры в источниках и просто абсурдна. Информация о посольстве македонян в Карфаген исходит от Масиниссы (Liv. XIJI. 22) и выглядит сомнительной. Ливий обвиняет Антигонида в покушении на Эвмена и приводит совершенно фантастические слухи о желании царя отравить римских послов (XLII.17).
Аппиан, напротив, сообщает о трудолюбии и трезвом образе жизни молодого царя, снискавших ему всеобщую любовь, о его разумности и милосердии (Мас. XI.13), проницательности, смелости в бою (Мас. XVI). Все эти качества покинули его только после поражения, когда он был сломлен судьбой (ibid.). Этот образ столь же далёк от реального, как и созданный римской пропагандой. Любопытен вариант Мемнона Гераклейского: царь, «по молодости» нарушил договор с римлянами и вынужден был воевать с ними (XXV.4). Даже на нейтрального Мемнона ощутимо повлияла римская традиция! Но он, по крайней мере, не говорит о желании царя воевать. Хотя отметим, что к началу войны Персею было 40 лет… Не понимая, чем объяснить странное «нарушение мира» царём, автор вынужден был ссылаться на его «молодость»…
Отрицательное отношение к Персею господствует и в историографии, особенно старой[477 - См. Гадзяцкий П. Всеобщая история. Аккерман, 1887. С. 190: Ткачевский А. Учебник древней истории. 3-е изд. СПб., 1901. С. 206; Мабли Г.Б. Размышления о греческой истории. М.—Л., 1941. С. 323; Тарн К. Эллинистическая цивилизация. М.—Л., 1949. С. 47; Niebuhr В.G. Lectures… P. 458. С другой стороны, О. Иегер объективно считал Персея гордым и способным правителем, одновременно отмечая его нерешительность и скупость (см.: Иегер О. История Рима. М., 1886. С. 174–175).]. Но и в новых работах он получает весьма нелестную характеристику – «ничтожный македонский царь Персей»[478 - Немировский А.И. Три малых римских историка // Малые римские историки. В. Патеркул. Римская история; А. Флор. Две книги римских войн; Луций Ампелий. Памятная книжица. М., 1996. С. 223.]. Единственно верную оценку сторонам можно дать, лишь исходя из тех целей, которые они перед собой ставили, и из тех факторов, которые стали причиной войны. Некоторые учёные полагают, что царь желал войны, но и боялся её[479 - 345 Шлоссер Ф. Всемирная история. Т. 3. СПб., 1862 С. 422; Вебер Г. Всеобщая история. Т. 3. М., 1892. С. 549; Герцберг Г. Указ. соч. С. 324. 330: Нич К. Указ. соч. С. 256.]. Другие верят, что он готовил наступательную войну с Римом[480 - Moммзен Т. Указ. соч. С. 714; Бокщанин Л. Г. История международных отношений… С. 57; Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988. С. 221.] и, чтобы получить в ней поддержку греков, провёл ряд демагогических мер: обещал кассацию долгов, амнистию всем заключённым[481 - Мишулин Л. И. Античная история Греции и Рима. С. 180; он же. История Древнего Рима. С. 40; Шофман А.С. Указ. соч. С. 63: История Древнего мира / Под ред. А.Г. Бокщанина. Т. 2. М., 1982. С. 259.], но его безудержная демагогия многих оттолкнула[482 - Ковалев С. И. История Рима. С. 275.].
На самом же деле царь никогда не был демагогом. Взойдя на трон, он издал указ о прощении должников и осуждённых за преступления против царской власти, одновременно он призвал изгнанников вернуться на родину (см.: Polyb. XXV.3.1.; Syll. 3 636). Как убедительно показал Д. Мендельс, такие действия диктовались старым македонским обычаем и были традиционны при восшествии на престол нового царя, а указ касался исключительно македонян[483 - Mendels D. Perseus and the Socio-economic Question in Greece (179–172/1 B.C.) // AS. 1978. № 9. P. 57.]. Персей главное внимание уделял стабилизации внутреннего положения страны[484 - Павловская Л. И. Греция и Македония в эпоху эллинизма… С. 429.]. Д. Мендельс пишет, что социально-политические меры царя в Македонии сделали его популярным во всей Греции; Рим выглядел защитником существующего статус-кво, поэтому массы ждали изменений от Персея. Испытывая экономические трудности, они возлагали на Персея надежды, которые он не мог или не хотел осуществить. А обвинения в том, что царь разжигал революционность масс в Греции, безосновательны, они – плод римской пропаганды[485 - См.: Mendels D. Opus cit. P. 69–72; 73; 62.].
В Греции росла враждебность к Риму, даже Т. Моммзен признаёт, что «освободителям иногда случалось совершать несправедливость»[486 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 717.]. В Персее греки видели единственную силу, способную сбросить с них цепи зависимости. Этим, а не личными качествами царя, объясняется его популярность. Персей отнюдь не был выдающимся полководцем, как утверждает С.Г. Лозинский, и не он создал антиримскую коалицию, в которую «был вовлечён даже далёкий Карфаген»[487 - Лозинский С.Г. История Древнего мира. Греция и Рим. Пг., 1923. С. 111.]. Никакой коалиции не существовало. Карфаген вовсе не демонстрировал свою «антиримскую направленность»[488 - Шофман А.С. Указ. соч. С. 253.], а, напротив, был покорен Риму. Унаследовав ненависть отца к римлянам, Персей продолжал и его политику подготовки к оборонительной войне, но делал это без должной скрытности. Он старался приобрести как можно больше союзников, чтобы укрепить обороноспособность страны и ослабить её зависимость. В то же время, отойдя от разумной осторожности Филиппа, он пытался усилить своё влияние в Греции. Мирный поход в Дельфы, предпринятый «с пропагандистскими целями»[489 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 718; Meloni Р. Opus. cit. P. 134–135.], был ошибкой царя, но сама по себе она не может служить обоснованием войны против него[490 - Эти действия царя невозможно считать нарушением условий мирного договора. Errington R.M. Opus. cit. P. 204.]. Персей не предпринял ничего, что позволило бы считать его инициатором войны.
Мнения о причинах войны можно систематизировать по четырём группам. 1. Персей вынудил Рим принять ответные меры, т. к. действия царя могли быть угрозой римским интересам[491 - Scullard H.H. A History of the Roman World… P. 265; Starr C.G. A History of the Ancient World. P. 493.], для Рима война была превентивной[492 - Lafforque G. Opus cit. P. 256.]. «Опасные действия» царя дали Риму повод для решения македонской проблемы, война была «спровоцирована» Персеем именно тем, что он усилил своё царство, не желал терпеть римский диктат, требовал уважения к своей независимости[493 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 714; Pelman H.F. Outlines of Roman History. P. 135; Heitlland W.E. The Roman Republic. V. 1. Cambridge., 1909. P. 88–89; Meloni P. Opus cit. P. 148–149, 158–159, 444–451; Stobart J.C. The Grandeur that was Rome. N.Y., 1962. P. 551; McShane R.B. The Foreign Policy… P. 164; Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. Oxford, 1968. P. 3; Raditsa L. Bella Macedonica // ANRW. Bd. 1. B.-N.Y., 1972. P. 578, 579, 585; Gruen E. The Hellenistic World and the Coming of Rome. V. 2. Berkeley, 1984. P. 417.], его амбициозная политика, усилившая Македонию, сыграла на руку Риму и привела к войне[494 - Bowder D. Op. cit. P. 23.]. 2. Виновник войны – только Рим, а действия царя имели чисто оборонительный характер[495 - Benecke P.V.M. Op. cit. P. 256; Curv M., Haarhoff T.J. Life and Thought in the Greek and Roman World. London, 1959. P. 60.]. Персей не нарушил ни одного пункта мирного договора[496 - Jaczyiiowska M. Istoria starozytnego Rzymu. Warsawa, 1982. S. 106.], он не хотел войны, её спровоцировал Рим[497 - Кац А.Л. Древний Рим. Фрунзе. 1954. С. 5; Thiel J.H. Studies on the History of Roman Sea-power in Republican Times. Amsterdam, 1946. P. 372.]. 3. Причиной войны было обращение к сенату Эвмена[498 - Frank Т. Roman Imperialism. 2
ed. New York, 1929. P. 221; Ehrenberg V. Man, State and Deity. London, 1974. P. 73.] (это мнение совершенно неубедительно, так как Атталид никак не мог определять внешнюю политику Рима). 4. Ответственность за войну лежит на доминировавшей в Риме агрессивной партии Фульвиев: именно она развязала войну[499 - Briscoe J. Eastern Policy and Senatorial Politics 168–146 B.C. // Historia. 1969. Vol. XVIII. P. 60. Близок подход М. Гранта – «сильная империалистическая группа настояла на войне против Персея» (Grant M. Opus cit. P. 270).]. Заметим, что мнение о господстве Фульвиев выглядит явным преувеличением, к тому же Римская республика не вела войн в угоду отдельным нобильским родам. Соперничающие между собой группировки знати во внешней политике руководствовались пользой государства, как они её понимали, а не своими личными амбициями.
Ближе всего к истине вторая позиция. Отметим, однако, что «демонстрация силы» в Дельфах действительно превысила разумные пределы оборонительной политики, вызвав раздражение римлян. Мы считаем, что характеристика Персея в источниках явно тенденциозна, его внутренняя политика очень разумна, а главная цель – укрепить страну и избежать войны. Но при этом личные качества царя малосимпатичны, во внешней политике ему не хватало гибкости, а в критический момент – и решительности. Он не хотел столкновения и не был авантюристом, идущим на заведомо проигрышную войну; Македония мешала римлянам самим фактом своего существования, и, демонстрируя её силу, он ускорил события. Перед Персеем было только два варианта: подчиниться Риму или подняться на решительную войну – он не смог остановиться ни на одном из них, а ошибки и нерешительность в кризисной ситуации 172/1 г. до н. э. не позволяют считать его трезвым политиком, совершающим оптимальные действия.
Цели Рима оставались теми же, что и при Филиппе. Используя традиции италийской политики, заключающиеся в постепенности и поэтапности подчинения, сенат пытался добиться полной зависимости Македонии, но достичь этого не удавалось, равно как и ослабления царства. Утверждения А.С. Шофмана об экономическом упадке, мощной проримской партии, партийной борьбе и симпатиях македонской знати к Риму[500 - Шофман А.С. Указ. соч. С. 247 слл.] противоречат данным источников. Подлинной причиной войны была попытка Македонии восстановить свою силу и самостоятельность, а также её хорошие отношения с греками[501 - Моммзен Т. Указ. соч. С. 719; Гордеев В.И. История Древнего мира. Л., 1970. С. 134; Walhank F.W. The Hellenistic World. New Jersey. 1981. P. 338.]. Авторитет Рима на Балканах падал, а влияние царя росло, это и привело к войне[502 - Герцберг Г. Указ. соч. С. 324.]. Рим желал доминировать, но при наличии сильного македонского царства это было невозможно, и сенат начал войну с твёрдым решением устранить Македонию[503 - Walbank F.W. The Hellenistic World. P. 338; Boak A., Sinnigen W. A History of Rome to A.D. 565. New York, 1965. P. 133; Errington R.M. Op. cit. P. 213.]. Посольство 172 г. до н. э. потребовало у Персея уступок, которые реально означали потерю свободы[504 - Boak A., Sinnigen W. Opus cit. P. 133.], а потому были неприемлемы. Очевидно, сенат решил, что над страной надо установить контроль, более прямой и эффективный, нежели клиентела[505 - Errington R.M. Opus cit. P. 213.].
Рим стал предъявлять Персею всякие обвинения и готовить общественное мнение Греции к войне с Македонией[506 - Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. С. 265.]. Римляне объявили, что царь пошёл с войском против храма Аполлона[507 - Никитский А. Римляне о царе Персее // ЖМНП. 1906. Март. С. 192; Sherk R.K. Roman Documents from the Greek East. Baltimore. 1969. P. 234.], что должно было настроить против него греков. Решив начать войну, Рим использовал всё, чтобы заранее оправдать себя, – этим и объясняется очернение Персея проримской пропагандой[508 - Edson C. F. Opus. cit. P. 202; Mendels D. Opus. cit. P. 55.]. Инициатива войны исходила от римлян, но агрессорами можно признать обе стороны, поскольку речь шла не только о независимости Македонии, но и о влиянии в Греции. Для Македонии война стала последней[509 - Егоров А.Б. Рим на грани эпох. С. 27.], вынужденной попыткой освободиться и восстановить свои позиции на Балканах. Одновременно III Македонская война приобрела уже некоторый оттенок восстания[510 - Raditsa L. Opus. cit. P. 584.], так как политическое положение и силы сторон были неравными.
Рим искал предлога к войне, в 172 г. до н. э. Эвмен, уловив момент, доставил в сенат длинный список «преступлений» царя. Обвинения эти были клеветническими, сенат же, не желая иметь сильного соседа, решил воевать с Персеем; послов Персея и родоссцев, желавших возразить Эвмену в лицо, приняли только после его отъезда (Арр. Мас. XI.1–3). Очевидно, сенат понимал, что они легко могли уличить его в клевете. Послы, негодуя на всё, говорили более резко, чем следовало (ibid.), но фразы, приписываемой им Ливием, «царь не хочет войны, но, если она начнётся, будет вынужден храбро защищаться» (XLII.14.3) нет ни у Полибия, ни у Аппиана, лучше информированных и более объективных. Вероятно, автор «красоты ради» вложил в уста послов слова, произнесённые Филиппом накануне II Македонской войны, но совершенно неуместные в данных условиях, так как главной целью посольства было отвести от Персея ложные обвинения и не допустить войны.
Оправдания и просьбы македонских послов были отвергнуты, поскольку сенат уже пришёл к определённому решению (Liv. XLII.15). Правильно оценив ситуацию, глава посольства Гарпал, вернувшись домой, сообщил царю, что война неизбежна (ibid.), но тот оставался пассивным. Вскоре Персея обвинили в покушении на Эвмена. Римляне выставляли и другие причины войны, как будто она ещё не была решена, но особенно их раздражала дружба царя с греками (Арр. Мас. IX.1.4). Решение о войне было окончательным, о нём только не объявляли (Liv. XLII.19). Римляне разослали послов к союзникам (Polyb. XXVII.3.1) – началась обычная дипломатическая подготовка войны – и заняли приморские города Иллирии, обезопасив переправку войск на Балканы. Macedonicum Bellum in annum dilatum est – «македонская война была отложена на год» (Liv. XLII.18.6). После этого довольно странно выглядит утверждение Т.А. Бобровниковой, что «для Рима III Македонская война началась неожиданно»[511 - Бобровникова Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М., 2001. С. 14.].
По обычаю в том же 172 г. до н. э. римское посольство потребовало у царя удовлетворения, его обвинили в смутах в Фессалии и Этолии, потребовали восстановить власть изгнанного им фракийского вождя Абруполиса (Diod. XXIX.36), упрекали в нарушении мира (Liv. XLII.25). По Ливию (ibid.), царь пришёл в ярость, кричал о высокомерии римлян, заявил, что считает прежний договор недействительным и хочет заключить с Римом равный союз, а когда послы объявили ему о разрыве отношений, что было равносильно объявлению войны, велел им покинуть Македонию. Весь рассказ выглядит невероятным, явно исходит от анналистов и совсем не вписывается в дальнейшее изложение самого Ливия. Ни у Аппиана, ни у Полибия нет ничего, хотя бы отдалённо напоминающего этот эпизод.
Второе посольство царя, спешно отправленное им в Рим, передало его удивление появлением римских войск на Балканах[512 - Если бы Персей действительно заявил об отмене договора с Римом и выслал римских послов, он не стал бы этому удивляться!] и обещало дать любое удовлетворение, если войска уведут (Liv. XLII.35). Персей напоминал сенату, что является «другом римского народа», и просил, если к нему есть упрёки, решить их во взаимной беседе (Арр. Мас. XI.4). Но послов с грубым ответом выслали из Италии (Liv. XLII.36). Все римские посольства, объезжающие Элладу и призывающие греков к войне с царём, получили от него письма с вопросом, зачем легионы появились в Греции (Liv. XLII.37.5–6), но ответа он не дождался. Ему следовало перехватить инициативу и повести наступательную войну, но он медлил, явно боясь её и «желая компромисса»[513 - Meloni P. Opus cit. P. 185.], который был невозможен. Мнение о том, что Персей был готов на любые уступки, потому что оказался в изоляции[514 - Шофман А. С. Указ. соч. С. 254.], неубедительно: он шёл на них ещё до того, как стало известно, что его почти никто не поддержит.
Римский посол Марций подал царю «ложную надежду на мир» (Liv. XLII.47.1) и заключил перемирие. Антигонид до конца верил в возможность мирного исхода, но Рим лишь выигрывал время[515 - Низе Б. Указ. соч. С. 187; Briscoe J.Q. Marcus Philippus and Nova Sapientia // JRS. 1964. Vol. LIV. P. 68.]. И хотя некоторые сенаторы, приверженные отмирающей римской честности, осуждали авторов обмана, это не мешало тем похваляться своей «находчивостью» (Liv. XLII.47). В нарушение перемирия римляне заняли часть Фессалии (ibid.) и Халкиду (Polyb. XXVII.2.11). Римский посол Лентул, используя беотийские отряды, осадил беотийский же город Галиарт, верный Персею. Царь же, «ослеплённый пустой надеждой на мир» (Liv. XLII.43.3), отказал в гарнизонах союзным городам Беотии (Polyb. XXVII.5), и им пришлось присоединиться к Риму. Жители трёх городов, оставшихся верными Персею, были проданы в рабство (Liv. XLIII.4).
Царь отправил послов на Родос, заранее прося посредничества, если римляне, вопреки договору, нападут на него (Polyb. XXVII.4.4–5). Это свидетельствует о том, что войны он явно не хотел и боялся её: ещё до начала военных действий Персей искал посредников, способных погасить конфликт и умиротворить римлян. Позже он искал посредничества Антиоха, Вифинии, Пергама, Египта (Polyb. XXIII.1).
Посольство в Рим, ради которого Персей пошёл на перемирие, легко отвело от него все обвинения. Царь изгнал Абруполиса за набеги на Македонию, он сам сообщил об этом сенату, и тогда сенаторы сочли его действия справедливыми, как не порицали они его и за союз с Этолией (Арр. Мас. XI.6–7). «Царь ни в чём не виноват и готов ответить на любое обвинение» (Арр. Мас. XI.8). Сенату нечего было возразить на эти справедливые слова, и он… велел послам немедленно покинуть город – «у римлян давно решено было воевать» (Polyb. XXVII.6,3; Liv. XLII.48; Арр. Mac. XI.9).
С началом боевых действий Персей решил затянуть войну. После первого же выигранного им сражения, отказавшись от возможности добить деморализованного врага, велел отступать (Liv. XLII.59). А.С. Шофман полагает, что царь не стал развивать наступление, поскольку не доверял своим наёмникам и «боялся их измены»[516 - Шофман А.С. Указ. соч. С. 257.]. Скорее пассивность Персея объясняется тем, что он до конца верил в возможность примирения и боялся собственных военных успехов, которые, как он полагал, могли вызвать большую жесткость римлян по отношению к нему.
Царь вновь и вновь просит мира, обещая дать ту же контрибуцию, что и отец, очистить те же территории. Римляне, твёрдо решив довести войну до логического конца, требовали только одного – капитуляции. Персей делал всё, чтобы получить мир, но жертвовать своей самостоятельностью не хотел[517 - Низе Б. Указ. соч. С. 187; Rostovtzeff M. A History… V. 2. Р. 77.]. От отчаяния он несколько раз даже пытался подкупить консула (Polyb. XXVII.8.13). Персею удалось затянуть войну, придать ей позиционный характер, он даже сумел вовлечь в неё Гентия, но римляне быстро разгромили иллирийцев.
Однако справиться с самим Персеем долго не могли. Как утверждает Веллей Патеркул, военные успехи царя даже повлияли на Родос и Пергама: родоссцы «заколебались в своей верности» Риму, а Эвмен занял в этой войне «промежуточную позицию» (I.IX.2). Автор явно преувеличивает влияние незначительных побед Персея, но, несомненно, они стали позором для Рима. В 168 г. до н. э. для окончания войны, подрывающей престиж державы, был послан один из лучших полководцев Республики – Эмилий Павел. Жёсткими мерами восстановив дисциплину в разложившейся армии, он двинулся на Персея. Перед решающим сражением царь отказался воспользоваться помощью 20 тысяч наёмных бастарнов, не сойдясь с ними в цене. Скупость Персея, проявленная в столь критический момент, имела роковые последствия для Македонии. В битве при Пидне македоняне потерпели сокрушительное поражение. Царь, упав духом и утратив самообладание, бежал с поля боя в самом начале сражения (Polyb. XXIX.17). Конец войны означал конец македонского государства.
Сенат добился поставленной цели. Была устранена последняя реальная сила, которая могла стать центром притяжения всех антиримских элементов на Востоке, более ничто не могло помешать установлению римской гегемонии в рамках всего Средиземноморья. Важность свершившегося прекрасно понимали и современники. Неслучайно Полибий считал падение Македонии тем рубежом, после которого мир попал под власть Рима (Polyb. I. 1.5, 10; III. 4. 2–3).
Вернёмся к проблеме вины сторон. Первая версия: вина за развязывание войны лежит на Персее. Версия совершенно необоснованная и опровергается данными источников. Запущенная анналистами, она должна была подкрепить главный тезис официальной римской пропаганды: Рим не ведёт иных войн, кроме справедливых. Версия вторая: в войне виноваты римляне, но Персей своими непродуманными действиями позволил им найти повод к ней. Отметим, что при желании, а у римлян оно присутствовало, найти повод к войне можно всегда. Ни один конкретный поступок царя не давал законных оснований к войне против него. Но его действия – в совокупности – делали Македонию сильнее. Если смотреть на события глазами римлян, то именно в этом и заключалась его главная вина перед ними. Македония в любом случае была обречена, единственное, в чём здесь можно упрекнуть царя, – он всего лишь несколько ускорил развязку, активно укрепляя своё царство. Но мы не должны судить с римских позиций, поэтому не можем поставить в вину царю то, что он был хорошим правителем. Версия третья: ответственность за войну лежит на римлянах. Думается, что она и является единственно возможной. Следует добавить, что при разумной внутренней политике Персей в решительный момент полностью провалился во внешней. Он не понял главного принципа: в критических ситуациях внешняя политика не терпит полумер и бездействия. Сама неспособность царя понять это, страх, парализовавший его, лучше всего доказывают: он никогда не предполагал вести наступательную войну против Рима, морально был не готов к ней.
После разгрома Македонии сенат произвёл на Балканах переустройство, отвечающее интересам Рима. Ахейская война поставила точку в покорении Греции. Вплоть до Митридатовых войн Балканы не играли никакой роли в римской политике.
Восточная политика Рима взяла паузу, т. к. поставленные задачи были решены. Селевкиды выпали из большой политики, зависимые Лагиды самостоятельной внешней политики не имели, в Малой Азии сенат осуществлял «вялый арбитраж». Главной причиной успехов Митридата стало именно недостаточное внимание сената к Малой Азии и вовлечённость римлян в свои внутренние проблемы, иначе он просто не смог бы подняться и его задавили бы сразу же. Митридатовы войны изучены достаточно хорошо, после работ Сапрыкина и Молева добавить что-то новое сложно, поэтому мы ограничимся лишь некоторыми наиболее спорными вопросами (см. 5-ю главу). Войны с Митридатом укрепили римское господство в Малой Азии, дали новые провинции на этом полуострове и позволили Риму серьёзно продвинуться на Восток и привели к контактам с Арменией и Парфией.
Дальнейшее развитие восточной политики Рима связано с тремя именами: Помпей, Цезарь, Антоний. Победа Октавиана в 30 г. до н. э. чрезвычайно важный рубеж: присоединение Египта завершило создание восточных границ римской державы, которые впредь почти не изменялись. Конец эллинизма совпал с концом республики и по сути – с концом восточной политики Рима. Мирное урегулирование отношений с Парфией стало одним из крупнейших достижений Августа. Впредь восточная граница – это просто войны, дипломатические усилия и политические успехи Рима здесь далее были малозаметны или кратковременны.
Подведём итоги. Агрессия Рима на Восток отнюдь не была вынужденной, однако она не была и планомерно продуманной. На каждом конкретном этапе сенат ставил перед собой конкретную задачу. Сам ход событий подсказывал последовательность действий. Сенат чутко улавливал требования политического момента. Только гибкая политика, какой Рим придерживался на первых порах, могла принести успех. На Востоке Рим появился как союзник многих государств. Это и определяло его политику: приходилось лавировать, рядиться в одежды защитника того или иного государства, эллинов в целом.
Ни о каком завоевании Балкан в период 200–168 гг. до н. э. не может быть речи, Рим стремился не к захватам, а к гегемонии. Посему нам кажется неоправданной теория В. Дюрюи, что римляне не знали, что делать с завоёванными странами[518 - Цит. по: Историография античной истории / Ред. В.И. Кузищин. М., 1980. С. 115.]. Дело было в отсутствии установки на аннексию. Опасность Филиппа и Персея для Рима, безусловно, преувеличена. Объясняется это обаянием и даже невоспринимаемым влиянием римской историографии, которая может быть тенденциозной не только в освещении фактов, но ив самом построении и подборке их. На самом деле, Македония угрожала не самому Риму, а его господству на Балканах, а Филипп никогда не планировал вторжения в Италию.
После 146 г. до н. э. Греция фактически стала римской провинцией[519 - Подробнее см.: Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в I–II вв. М.—Л., 1949.]. Эллада, однако, отнюдь не легко примирилась с римским владычеством, которое якобы «было благом»[520 - Финлей Г. Указ. соч. С. 18.]. В.И. Перова утверждает, что объединительные тенденции во время римской экспансии продолжали существовать[521 - Перова В.И. Социально-политическая борьба в Греции в период экспансии Рима (210–146 гг. до н. э.). Дис… канд. ист. наук. Л., 1983. С. 160.]. Под ними она понимает процессы консолидации Ахайи и других союзов, но это региональная консолидация, не более. Идея политического единства была чужда политическому партикуляризму греков[522 - См.: Кареев Н.И. Введение в курс истории Древнего мира. СПб., 1886. С. 27.]. Сама Греция не могла выйти из тупика. Разумеется, она пала не вследствие «истощения моральных и материальных сил»[523 - Соловьёв С.М. Наблюдения над исторической жизнью народов // Сочинения. СПб., 1882. С. 407.]. Без вмешательства Рима она могла бы существовать и далее, но её существование имело смутные перспективы.
Расширение ойкумены в эпоху эллинизма отодвинуло кризис греческого общества, но устранить его не могло. На обломках старых государств подымались новые. Можно согласиться с Ф. Энгельсом: происходило лишь перемещение центра, весь процесс повторялся на более высоком уровне[524 - Энгельс Ф. Материалы к Анти-Дюрингу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 643.]. Поэтому объединение всего Средиземноморья под властью Рима – это и есть самый высокий уровень…
Трудно поверить, что политическая жизнь Греции умерла «естественным образом», а завоевание «лишь сократило время политической агонии»[525 - Тюменев А.И. Очерки экономической и социальной истории Древней Греции. Т. 3. Пг., 1922. С. 182–183.]. Греки активно участвовали в восточной политике. С появлением римлян эта активность даже возросла, и не умерла сама – её убил Рим, его вмешательство лишило греков возможности самостоятельно определять свою судьбу. Само завоевание, кровавое и жестокое, не могло быть благом для греков, но в исторической перспективе оно явило свою положительную сторону. Эллинистическая культура, воспринятая и трансформированная Римом, стала основой грядущей европейской. В этом смысле поглощение эллинистического Востока Римом выглядит предпочтительнее, чем захват его Парфией. Последняя ориентировалась на возрождение паниранских традиций, между тем как Рим стал преемником традиций эллинизма[526 - Фролов Э.Д. История эллинизма в биографиях его творцов // Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 12.].
С началом проникновения Рима на восток от Италии первой задачей было ослабить сильных противников, опираясь на союзников. Первый этап (229–200 гг. до н. э.) – проникновение с использованием протектората. Задача – не «сохранение статус-кво»[527 - Машкин М.А. История Древнего Рима. 2-е изд. М., 1950. С. 196.], как полагал М.А. Машкин, а изменение его в свою пользу. Второй этап (200–171 гг. до н. э.) – борьба за гегемонию в Восточном Средиземноморье. Уже не столько ослабление, сколько политическое подчинение сильных, метод – война и арбитраж. III Македонская война стала коротким переходным периодом – гегемония сменилась абсолютным доминированием (168–146 гг. до н. э.). Гегемон (ведущий) стал доминантом (подавляющим), но ещё не господином в полном смысле слова – не владельцем. Затем, когда серьёзные противники были уничтожены или поставлены в совершенно ничтожное положение, сенат стал устранять союзников. После разгрома Ахейского союза и образования провинции Македония (146 г. до н. э.) наступил период полного господства. Римляне стали юридическими и фактическими владельцами, хозяевами Балкан. Не только грубая сила, но и неспешность, последовательность, гибкость, умение использовать обстоятельства в конечном счёте и сделали римлян господами Греции. А затем – и всего Средиземноморья.
Мы не случайно так подробно остановились на балканских событиях – именно они долго были определяющими в восточной политике Республики, влияя на все акции сената (как раньше – отношения с Карфагеном). Всё остальное следует рассматривать в увязке с Балканами. Поэтому по общей периодизации проникновения Рима в Восточное Средиземноморье мы выделяем три больших территориально-хронологических этапа:
1. Балканский период (229–146 гг. до н. э.). Только окончательно решив «балканский вопрос», Рим смог полностью развязать себе руки для последующих действий.
2. Главное направление – Малая Азия и территории к востоку от неё (146—27 гг. до н. э.): «укрощение малоазийских династов», в этом же русле – «усмирение» Митридата и вынужденный для Рима выход на контакты с Арменией и Парфией. А также традиционно продолжающаяся для сената политика по всемерному ослаблению ставшего уже не опасным селевкидского царства, вплоть до его исчезновения с политической карты. Тупиковые отношения с Парфией на время были разрешены Августом. В период империи последовало дальнейшее их развитие.
3. «Египетский период»: 273—30 гг. до н. э. Его специфика, заключающаяся в официально дружеских отношениях с Птолемеями, их длительной непрерывности и периодических «затуханиях», явного римского доминирования и временных ухудшениях отношений. Наконец, важны особый статус Египта как опекаемой страны и та особая роль, которую сыграли в римско-египетских отношениях Цезарь и Антоний. Всё это вынуждает ломать стройную схему хронологической последовательности периодизации и выделить отдельный «параллельный период».
В целом получается территориально-проблемная периодизация, хронологические рамки позволяют придать ей большую завершённость и логическую стройность.
Без успешного решения «балканского вопроса» было бы невозможно перейти к покорению Малой Азии и Сирии, а также к завершению очень протяжённого во времени «египетского вопроса».
Глава II
Методы римской дипломатии: сенат против Македонии, Пергама, Селевкидского царства
Впечатляющие успехи римской внешней политики во многом объясняются искусной дипломатией сената. Римляне умело моделировали то, что лучше всего определить как «двойная дипломатия», т. е. это такие действия, когда противника ставили в такую ситуацию, что любое его действие или даже бездействие шло на пользу Риму и только Риму. Кроме того, сенат был непревзойдён в умении использовать союзников и их силы в своих интересах. При этом часто использовались различные действия, которые с некоторой натяжкой можно назвать недипломатическим словом «махинации». Mahinatio в переводе означает не просто «обман», а явно направленный на получение каких-то односторонних выгод и преимуществ. Именно в этом плане мы и рассмотрим некоторые конкретные проявления римской дипломатии.
Посольства, разосланные сенатом по Греции после окончания I Иллирийской войны – это самый первый пример римских тщательно продуманных мер в новом для Рима политическом регионе к востоку от Италии: они должны были замаскировать истинные цели появления римлян на Балканах и завоевать симпатии греков. Нужно признать, что это удалось сделать. Следующая блестяще проведённая акция римского правительства – это римско-этолийский союз во время I Македонской войны. Совсем недавно закончилась война Этолии с Македонией, по сути выигранная Филиппом. Сенат хорошо изучил ситуацию на Балканах и очень грамотно сыграл на том, что этолийцы жаждали реванша. Прибыв на специально назначенное собрание Этолийского союза, консул Валерий Левин в речи, представляющей собой блестящий образец политического красноречия, склонял этолийцев к войне против Филиппа (см.: Liv. XXVI.24). Он обещал союзу всяческие блага, в частности – вернуть ему утраченную Акарнанию. Стратеги вслед за ним говорили о могуществе Рима и сумели убедить народ в необходимости новой войны. Обычно малоэмоциональный Ливий в данном случае не без язвительного ехидства заявляет: «Больше всего действовала надежда завладеть Акарнанией» (ibid.). В результате был заключён первый римский союзный договор на Балканах.
Дата его заключения спорна, но имеет большое значение ещё и потому, что сама по себе она опровергает устойчивое мнение, будто именно римско-этолийский союз предотвратил высадку Филиппа в Италии. Договор относят к осени 212 г. до н. э.[528 - Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения. СПб., 1908. С. 140; Holleaux M. Rome and Macedon: Philip against the romans // CAH. Vol. VIII. Cambridge, 1930. P. 124; Flacerie R. Les aitoliens a Delphes. Paris, 1937. P. 298; Klaffenbach G. Der romische-atolische Bundnisvertrag. Berlin, 1954. S. 4; Griffith E.T. An Early Motive of Roman Imperialism (201 B.C.) // CHJ. 1935. Vol. V. № 1. P. 7.] или к концу 211 г. до н. э.[529 - Мищенко Ф.Г. Федеративная Эллада и Полибий // Полибий. Всеобщая история. Т. 1. М., 1890. С. CXLVI.; Жебелёв С. Из истории Афин. 229—31 гг. до Р.Х. СПб., 1898. С. 79; Нич К. История Римской республики. М., 1908. С. 200; Balsdon J.P.V.D. Rome and Macedon, 205–200 B.C. // JRS. 1954. Vol. XLIV. P. 31; Toynbee A.J. Hellenism. London, 1959. P. 159; Walbank F.W. Polybius and Macedonia //Ancient Macedonia. Thessaloniki, 1971. P. 295; Pajakowski W. Illirowie. Poznan, 1981. S. 214.] Однако имеющейся в нашем распоряжении информации достаточно, чтобы максимально уточнить время его заключения. 1. Упоминаемые Ливием вожди этолийцев – Доримах и Скопас. Доримах был стратегом 211/210 г. до н. э.[530 - Walbank F.W. A Historical Commentary on Polybius. Vol. 2. Oxford, 1967. P. 301.]. Скопаса избрали стратегом на cледующий 210 г. до н. э.[531 - Errington R.M. The dawn of Empire. Rome`s Rise to World Power. Ithaca; New York, 1973. P. 114.] 2. Захват Капуи и Сиракуз, о чём говорил Левин, чтобы продемонстрировать силу Рима и вдохновить этолийцев на войну на его стороне, произошёл в 211 г. до н. э.[532 - Errington R.M. The dawn of Empire. Rome`s Rise to World Power. Ithaca; New York, 1973. P. 114.]. Притом консул упоминает о захвате этих городов как о факте, хорошо известном и, очевидно, случившемся не только что.
Следовательно, договор никак не мог быть заключён в 212 г. до н. э. Наиболее вероятная дата – самый конец 211 г. до н. э., или даже, что менее вероятно, начало 210 г. до н. э. Сразу же после его заключения Этолия не могла немедленно начать войну – к ней следовало подготовиться и собрать силы. В любом случае этолийцы начали сражаться против Филиппа никак не раньше 210 г. до н. э.
Этолийцы начали войну, а Рим обещал помогать на море силами не менее 25 пентер (Liv. XXVI.24). Завоёванные земли отходили Этолии, добыча и рабы – Риму, союзники обязались не заключать сепаратного мира. Договор основан на хищнических стремлениях[533 - Василевский В.Г. Политическая реформа и социальное движение в Греции в период её упадка. СПб., 1869. С. 326.] союзников и позорен для обеих сторон[534 - Holleaux M. Rome and Macedon. P. 125] – с такой жёсткой оценкой трудно спорить. Римляне стремились сохранить позиции на Балканах, к территориальным захватам они пока не склонялись[535 - Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.—Л., 1950. С. 255.]. Сенат хотел ослабить Филиппа[536 - Кудрявцев О.В. Эллинистические провинции Балканского полуострова во втором веке нашей эры. М., 1954. С. 45.] или по крайней мере – отвлечь его от своих владений в Иллирии. Рим не отказывался от мысли о господстве на Востоке, но сейчас он был слишком занят Ганнибалом[537 - Жебелёв С. Из истории Афин. С. 96.]. Договор с Этолией – крупная дмпломатическая победа Рима, позволившая ему почти устраниться из войны с Филиппом. Половину флота из Иллирии римляне вообще увели, вся тяжесть войны легла на Этолию. В умении использовать чужую кровь, даже не дорогих наёмников, а бесплатных союзников, Рим не знал равных. В этом одна из причин быстрого роста его могущества.
Подстрекаемые Римом и вдохновлённые примером Этолии, против Македонии выступили элейцы, мессенцы, спартиаты, дарданы. Вместо того чтобы закрепиться в Иллирии, Филиппу пришлось со всех сторон отражать врагов. За него сражались ахейцы, беотийцы, фессалийцы, эпироты, акарнийцы, эвбейцы и локры[538 - См.: Петер К. Хронологические таблицы греческой истории. М., 1893. С. 159.], но его положение оставалось сложным. Война приняла почти общегреческий характер. После вступления в войну Аттала римско-пергамский флот господствовал на море.
Однако Этолия с трудом несла бремя войны, римляне передали ей несколько городов, предварительно ограбленных дочиста, но не оказали никакой реальной помощи. Они поголовно продали в рабство жителей Акраганта (Liv. XXVI.40), Антикиры (Liv. XXVI.26; Polyb. IX.39.3), Дималы (Liv. XXVII.22), разграбили и поработили Эгину (Polyb. IX.42.5–8), опустошили всю местность между Сикионом и Коринфом (Liv. XXVII.31). Такая жестокость сделала войну непопулярной среди греков[539 - Ранович А.Б. Указ. cоч. С. 256.]. Этолийцы, несомненно, почувствовали, что их престиж борцов против македонского гнёта неуклонно падает, да и сражаться против Филиппа практически в одиночку было слишком трудно.
Уже в 209 г. до н. э. Этолия начала сепаратные переговоры с Филиппом. Римский представитель в этолийском правительстве проконсул Сульпиций пытался сорвать их, но потерпел неудачу. Тогда он спешно известил сенат о ходе переговоров, добавив: в интересах Рима, чтобы этолийцы продолжали воевать с Филиппом (App. Mac. III.1). Для сената это и так было очевидным, он прислал этолийцам военную помощь, но вскоре отозвал её. Этолийцы склонялись к миру. На очередном союзном собрании Филиппа и вождей упрекали в том, что они своими распрями толкают Элладу в рабство. Сульпиций пытался возражать, но его не стали даже слушать (ibid.), это весьма существенный факт: очевидно, общественное мнение этолийцев уже явно было направлено против римлян.
В 208 г. до н. э. Аттал вынужден был увести свои войска из Греции для защиты Пергама от вторгшихся вифинцев[540 - Hansen E.V. The Attalids of Pergamon. 2
ed. Ithaca; New York, 1971. P. 48–49; Allen R.E. The Attalid Kingdom. Oxford, 1983. P. 69.]. В 207 г. до н. э. римляне напрягли все силы, чтобы не дать Гасдрубалу соединиться с братом в Италии. Из Греции увели даже весь флот. Предоставленным самим себе этолийцам прошлось возобновить переговоры с царём. Посредники с Родоса убеждали стороны не ослаблять страну, готовя ей порабощение и гибель (Polyb. XI.5). Осенью 206 г. до н. э., вопреки условиям договора с Римом, Этолия заключила сепаратный мир с Филиппом, потеряв почти треть своей территории. Попытка римлян весной 205 г. до н. э. побудить этолийцев возобновить войну полностью провалилась.
Следующий коварный ход римской дипломатии – это введение в заблуждение этолийцев во время II Македонской войны: им просто не сообщили, что договор 211 г. до н. э., дающий им право на захваченные территории, больше не существует (см. 1-ю главу). Крайнее негодование обманутых позже привело их к войне против своих недавних союзников-римлян.
Само «освобождение» Греции, торжественно провозглашённое Римом в 196 г. до н. э., было проведено таким образом, что эллины далеко не сразу поняли, что они просто поменяли над собой одного гегемона на другого (см. 5-ю главу).
Затем отдельного разбора требует тонкая интрига, проведённая сенатом с Деметрием, сыном Филиппа V, которая показывает, что римляне ради достижения своих целей были готовы на всё, даже на поступки, совершенно несовместимые с традиционной квиритской честностью.
После Сирийской войны сенат взял курс на подавление Македонии. Используя как предлог резню, устроенную Филиппом в Маронее, ранее просившей сенат о свободе от власти Македонии, римские послы упрекали царя во враждебности к Риму (см.: Polyb. XXII.18.6). Угроза новой войны стала слишком очевидной, боясь её и не желая обострять отношения с сенатом, Филипп поставил во главе посольства в Рим своего младшего сына Деметрия. Царевич несколько лет провёл в Риме заложником, имел там знакомства и связи, Антигонид надеялся, что он сумеет смягчить гнев сената.
Деметрий зачитал в курии письмо отца, в котором по каждому пункту обвинений было чётко отмечено, что уже сделано и что будет сделано, хотя решение сената и несправедливо. Последнее замечание было добавлено ко многим пунктам (App. Mac. IX.6). Царь тщетно пытался апеллировать к совести сената, но заявлял о готовности подчиниться даже явно несправедливому решению. Сохраняя возможное достоинство, он старался не доводить до разрыва.
Сенат объявил, что прощает царя только ради сына (ibid.), уже одно это было сильнейшим унижением для гордого и самолюбивого Филиппа. Царевича окружили вниманием, намекая, что будущим царём Македонии хотят видеть именно его. Фламинин приглашал Деметрия на «тайные совещания», убеждая, что ему помогут стать царём (Polyb. XXXII.3.8). Антиримские настроения законного наследника престола Персея, старшего сына царя, сенату были хорошо известны, поэтому он не устраивал римское правительство в качестве будущего правителя Македонии[541 - Meloni P. Perseo e la fine della monarchia macedone. Rome, 1953. P. 43; Errington R.M. The dawn of Empire. P. 202.]. Управлять Деметрием было бы намного легче. Роль Фламинина в этой интриге весьма неприглядна[542 - См.: Edson C.F. Perseus and Demetrius // HSCP. 1935. Vol. XLVI. P. 200; Briscoe J. Flamininus and Roman Politics, 200–189 B.C. // Latomus. 1972. T. XXXI. Fasc. 1. P. 25.], но это была не его частная инициатива, а политика сената[543 - См.: Edson C.F. Opus cit. P. 193–194, 198, 200.], действующего исключительно из соображений политической выгоды[544 - Walbank F.W. Philip V of Macedon. Cambridge, 1940. P. 239.]. Посадив на трон слабого и тщеславного царевича, сенат получил бы покорную Македонию[545 - Gast J. The history of Greece. Vol. 2. Basil, 1747. P. 170.].
Поведение Деметрия было «очень близко к измене»[546 - См.: Edson C.F. Opus cit. P. 194, 198, 200–201.]. Действительно, он ничего не сообщил отцу о предложении сената – и в этом действительно виноват, но нет никаких оснований утверждать, что царевич «возглавил проримскую группировку»[547 - Шифман А.С. История античной Македонии. Т. 2. Казань, 1963. С. 247.] в Македонии. Само наличие подобной группировки в Македонии представляется совершенно невероятным, учитывая две предыдущие войны и тот факт, что Рим лишил македонян власти над Грецией. Разумеется, друзья Деметрия и его личная свита предпочли бы видеть царём его, а не Персея, но это не даёт ни малейших оснований считать их «проримской группировкой». Нет и никаких сведений в источниках, что они злоумышляли против самого Персея.
Тем более невозможно согласиться с мнением Д. Боудер, что Деметрий «проводил проримскую политику вопреки империалистическим тенденциям отца и брата»[548 - Bowder D. Outline History 776—30 B.C. // Who was Who in the Greek World / Ed. by D.Bowder. Ithaca; New York, 1982. P. 157.]. Нам вообще ничего не известно о каких бы то ни было политических действиях царевича в пользу Рима. Персей перед лицом отца лживо обвинял своего младшего брата в том, что он замыслил убить законного наследника и самому занять его место. Ливий утверждает, что Деметрий, встревоженный клеветой Персея и видя недоброжелательность отца, даже замышлял бегство в Рим (Liv. XL.23.2), хотя в это сложно поверить.