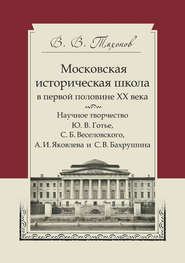скачать книгу бесплатно
Московская историческая школа в первой половине XX века. Научное творчество Ю. В. Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина
Виталий Витальевич Тихонов
Монография посвящена рассмотрению эволюции Московской исторической школы в первой половине XX в. на примере творчества самых ярких представителей ее «младшего поколения»: Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. С привлечением широкого круга источников, в том числе и архивных, на широком социально-политическом, культурно-историческом и историографическом фоне показаны этапы научных биографий историков. Жизнь и научная деятельность ученых разделена на два крупных этапа: дореволюционное время и советский период. Анализируются направление и особенности исследовательской деятельности в разные эпохи. Важной составляющей исследования стало изучение проблемы «власть и историки» в советское время (1920–1940-е гг.). Для специалистов-историков, студентов исторических факультетов вузов, а также всех интересующихся российской историей и культурой.
Виталий Витальевич Тихонов
Московская историческая школа в первой половине XX века
Моей жене и дочери с любовью
© В.В. Тихонов, 2012
© Издательство «Нестор-История», издательская подготовка, 2012
* * *
Введение
Отечественная историческая наука первой половины XX в. развивалась в сложных условиях трансформации российского социума и ломки привычного уклада жизни. Все это отразилось на работе научно-исторического сообщества. Жизнь многих выдающихся ученых пришлась на два непростых периода нашей истории: начало XX в. и эпоху радикальных социальных перемен 1920–1940-х гг. Тем не менее историки того времени оставили блестящее наследие, которое до сих пор оказывает значительное влияние на эволюцию исторических исследований в России. Дореволюционные историки-профессионалы отличались высоким уровнем подготовки, позволявшим им решать сложнейшие задачи, которые ставились перед ними запросами как общества, так и самой логикой развития исторической науки. Особое место среди них занимали представители Московской исторической школы.
Интерес к историкам Московского университета всегда был устойчивым. Объясняется это не только тем огромным значением, которое имел университет в культурной жизни страны, но и тем, что в его стенах сформировалась оригинальная научно-историческая школа. Ее лучшие представители всегда занимали лидирующее положение в отечественной историографии. Повышенное внимание всегда уделялось творчеству историков, заложивших научные традиции изучения истории России в Московском университете. Речь идет о С.М. Соловьеве и В.О. Ключевском. Последнему посвящено большое количество различных исследований. На данном этапе развития историографического знания наблюдается переход от изучения наследия самого В. Ключевского к анализу вклада в развитие исторической науки его учеников. Тем самым ставится вопрос, насколько идеи выдающегося ученого оказались жизнеспособны.
Однако в работах специалистов сложилась своеобразная традиция ограничиваться рассмотрением творчества далеко не всех историков, испытавших на себе влияние концепций и методологических подходов
B. Ключевского. Видимо, с легкой руки Т. Эммонса[1 - Эммонс Т. Ключевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 11. C. 45–61.] круг учеников Ключевского принято ограничивать П.Н. Милюковым, М.К. Любавским, Н.А. Рожковым, М.М. Богословским, А.А. Кизеветтером и Ю.В. Готье. Такой подход получил дальнейшее распространение в учебных пособиях и обобщающих трудах. Остальные представители «школы Ключевского» фактически оказываются вне поля зрения. Исходя из этого, актуальной задачей историографии является анализ творчества остальных учеников мэтра в контексте эволюции данного научного сообщества. Наиболее яркими представителями «младшего поколения» учеников традиционно считаются Ю.В. Готье (1873–1943), С.Б. Веселовский (1876–1952), А.И. Яковлев (1878–1951) и С.В. Бахрушин (1882–1950). Именно их научное творчество и является объектом данного исследования.
В последние десятилетия в отечественных историографических исследованиях преобладал персонифицированный подход к изучению истории исторической науки. Данный ракурс исследования, отталкивающийся от той простой истины, что наука развивается благодаря деятельности ученых, каждый из которых – индивидуальность, позволял рассмотреть сложный процесс создания исторических знаний во всех его индивидуальных оттенках. Особенно плодотворным данный подход оказался в условиях, когда возникла необходимость буквально из небытия воскрешать забытые либо запретные имена деятелей «буржуазной» исторической науки. В то же время, несмотря на очевидные плюсы, данный подход привел к видимому распаду общей картины развития исторической науки в России на множество отдельных судеб ее творцов. В последнее время чувствуется насущная необходимость изучения коллективных форм наукотворчества, что позволяет связать разрозненный поток индивидуальных биографий в сложный процесс создания знаний, где индивидуальное и коллективное тесно переплетаются. Особый интерес в историографической литературе вызывают научные школы. Именно рассмотрение творчества отдельных историков в рамках так называемой схоларной проблематики приобрело особую популярность. Значительная часть исследований посвящена Московской исторической школе или, как ее чаще называют, «школе Ключевского». Тем не менее творчество Готье, Веселовского, Яковлева и Бахрушина редко рассматривается в контексте данной проблематики.
В предлагаемой работе не ставится цель дать исчерпывающую картину жизни, научной и общественной деятельности указанных историков, поскольку каждый из них заслуживает отдельного биографического исследования. Задачей исследования является рассмотрение основных биографических вех жизни, которые у московских историков-учеников В. Ключевского тесно переплетались. Объединение в одной работе несколько персональных биографий неизбежно придает книге очерковый характер.
Предметом работы является научное творчество историков. Под научным творчеством понимается совокупность методологических и методических взглядов ученого, а также реализация этих установок в конкретной исследовательской деятельности. Важнейшей частью научного творчества является концепция историка, во многом определяющая и направляющая его деятельность. В то же время не стоит абсолютизировать значение исторической концепции, как это нередко делается. Изучение только лишь концепций не позволяет решить проблему того, как автор пришел к тем или иным выводам в ходе исследования, чего настоятельно требует современная историография. Задачи историографического анализа существенно расширились. От вопроса «Какое знание было получено в результате деятельности историков?» мы переходим к вопросу «Как это знание было получено?». А это, в свою очередь, предполагает рассмотрение творчества ученого-историка, как взаимосвязанной многоуровневой системы, где концепция является лишь вершиной айсберга, вырастающей из принципов и методов исследования, мировоззрения ученого, источниковой оснащенности его работ, влияния других специалистов на его деятельность и т. д. Учитывая непростые условия развития исторической науки в условиях революций, Гражданской войны и социально-политического террора, не стоит забывать и тот факт, что большое влияние на научное творчество оказывало идеологическое давление.
Для реализации поставленной задачи необходимо привлечение значительного количества не только опубликованных работ, но и архивных материалов. Особенно настоятельно этого требует тот факт, что зачастую историки не могли публично выражать свои взгляды, создавая работы «в стол». В основу исследования были положены личные фонды историков, отложившиеся в Архиве РАН и Научно-исследовательском отделе рукописей РГБ. Отдельные материалы были привлечены из личных фондов других историков, друзей и коллег. Кроме того, значительным подспорьем в реконструкции биографий и научно-педагогической деятельности Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина стали фонды различных организаций, хранящиеся в ГА РФ, Архиве РАН, ЦИАМ. Выявленные документы позволяют полнее представить деятельность московских историков.
Хронологические рамки работы определяются тем фактом, что научная деятельность указанных историков приходится на первую половину XX в. Вступив в научное сообщество в начале XX в., Готье, Веселовский, Яковлев и Бахрушин на протяжении полувека во многом определяли развитие изучения средневековой истории России. Несмотря на все перипетии, они заслуженно стали признанными классиками отечественной историографии, воспитав немалое количество учеников, в свою очередь продолживших их начинания в разработке русской истории.
Часть I
Дореволюционный период
Глава 1
Теоретико-методологические и историографические основы исследования
1. Научные школы в исторической науке
Важной чертой современного науковедения в целом и историографии в частности является понимание науки как феномена культуры. Это позволяет отказаться от узкого рассмотрения истории знаний как объективистского, кумулятивного и внесоциального явления и перейти к изучению научного сообщества как части внутренних и внешних социокультурных процессов. Среди историографов появилось стремление рассмотреть ученого как часть его исторической эпохи и социальной группы. Данный ракурс настойчиво требует анализа не только собственно научной деятельности ученых, но и их повседневной частной и общественной жизни, политических пристрастий, социльно-профессиональной коммуникации. В особенности такой подход справедлив в отношении к историческому знанию, традиционно сохраняющему тесную связь с общекультурными процессами, проходящими в обществе.
В последнее время в отечественной историографии отчетливо проявляется интерес к генерационному подходу в изучении исторической науки[2 - См.: Иллерицкая Н.В. Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX века. М., 1998; Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века. Синтез трех поколений. М., 2008.]. Несмотря на определенную условность разделения историков на различные поколения, данный взгляд позволяет изучать сообщество профессиональных историков как социокультурную среду, нацеленную на создание условий для непрекращающегося научного поиска. В нормальных условиях стабильного социально-политического развития в стране учителя и ученики предстают как цепь единого процесса производства научного знания, в ходе которого происходит как сохранение традиций, так и формирование новых подходов к решению проблем. Данный взгляд позволяет по-новому осветить и такой феномен наукотворчества, как научные школы. Несмотря на эмпирически давно установленный факт, что в рамках одного течения или школы могут существовать разные поколения, со своей спецификой в производстве знаний, специальных исследований, где бы применялся этот подход к изучению школ, до сих пор не было.
Во второй половине XIX в. в отечественной исторической науке доминирующим видом неформальной кооперации историков стали научные школы. Являясь необходимой формой развития научно-исторического сообщества, научные школы стали центром воспитания молодых специалистов. Не случайно один из самых заметных историков начала XX в. С.В. Рождественский писал: «Но наука тогда только становится наукой в точном смысле слова, когда из механической совокупности трудов отдельных лиц она становится органическим целым, связывающим массу этих трудов единством обобщающей мысли, традициями известных методических направлений, – тем, что называется „школой“»[3 - Рождественский С.В. Историк-археограф-архивист // Архивное дело. 1923. № 1. С. 1.].
Школа – это сложный организм, основанный на научном и личностном взаимодействии между учителем и его учениками, а также различными поколениями представителей сообщества[4 - Подробнее о феномене научных школ см.: Школы в науке. М., 1977.]. В последнее время интерес к феномену научно-исторических школ в отечественной историографии был огромен[5 - Ананьич Б.В., Панеях В.М. Петербургская школа и ее судьба // Отечественная история. 2000. № 5. С. 105–118; Беленький А.Л. К проблеме наименования школ // XXV съезд КПСС и задачи изучения исторической науки. Вып. 2. Калинин, 1978; Бон Т. Русская историческая наука. Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005; Гришина Н.В. Школа В.О. Ключевского в культурном пространстве дореволюционной России: Автореф. дисс. … канд. истор. наук. Челябинск, 2004; Гутнов Д.А. Об исторической школе Московского университета // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1993. № 3. С. 40–53; Он же. О школах в исторической науке // История мысли. Историография. М., 2002. С. 65–72; Жуковская Т.Н. Некоторые размышления о Петербургской школе // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня: Мат-лы науч. конф. СПб., 1997. С. 8–14; Кареев Н.И. Отчет о русской исторической науке за 50 лет (1876–1926) // Отечественная история. 1994. № 2. С. 136–154; Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и Петербургская школа историков. СПб., 1995; Киреева Р.А. Государственная школа: историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004; Корзун В.П. Московская и Петербургская школы русских историков в письмах П.Н. Милюкова С.Ф. Платонову // Отечественная история. 1999. № 2. С. 171–182; Михальченко М.И. Киевская школа в российской историографии (школа западно-русского права). М.; Брянск, 1996; Он же. Школы в исторической науке // Отечественная культура и историческая мысль XVIII–XX веков. Брянск, 2004. С. 195–211; Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000; Погодин С.Н. Научные школы в исторических науках (к постановке вопроса) // Клио. 1998. № 1. С. 14–26; Он же. «Русская школа» историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский. СПб., 1997; Попов А.С. Школа Ключевского: синтез истории и социологии в российской историографии: Автореф. дисс. … д-р. истор. наук. Пенза, 2002; Носков Э.Г. Университет как институциональная форма бытия научного сообщества Автореф. дисс. … канд. истор. наук. Ульяновск, 1999; Региональные школы русской историографии. Budapest, 2007; Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и Петербургская школа. Рязань, 2004; Сидорова Л.А. Школы в исторической науке России // Отечественная история. 1999. № 6. С. 200–203; Он же. А.С. Лаппо-Данилевский и Петербургская историческая школа: Автореф. дисс. … канд. истор. наук. СПб., 1999; Трибунский П.А. «Школа Ключевского» в оценке П.Н. Милюкова // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. М., 2005. С. 399–403; Шаханов А.Н. К проблеме школ в российской исторической науке // Отечественная культура и историческая мысль XVIII–XX веков. Брянск, 2004. С. 147–195; Он же. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века. Московский и Петербургский университеты. М., 2003; Шикло А.Е. Методическая разработка к курсу «Историография российской истории». М., 1993; Чирков С.В. Археография и школы в русской исторической науке конца XIX – начала XX в. // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990; Он же. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX— начале XX века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. М., 2005. С. 10–155; Эммонс Т. Ключевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 11. С. 45–61 и др.]. Главным итогом анализа проблемы, включавшего научные дискуссии и конкретно-исторические исследования, стало признание самого феномена исторической школы, а сама категория прочно вошла в арсенал историографических исследований и приобрела хотя и не очень четкие (впрочем, это типичная черта гуманитарного понятийного аппарата вообще), но вполне узнаваемые черты. В современной историографической литературе «школа» трактуется как «совокупность ученых, объединенных общим направлением научного поиска, общностью научных взглядов и принципов»[6 - Попов А.С. Указ. соч. С. 13.]. При этом, несмотря на признание некоей целостности школы как научного коллектива, за каждым членом признается право на индивидуальные черты, которые нередко даже более очевидны в его деятельности, чем традиции научной школы. В данном случае мы имеем дело с диалектической взаимосвязью коллективного и индивидуального в научном творчестве. У разных ученых эта связь проявляется по-разному.
В ходе историографических исследований специалистами были выделены устойчивые критерии, по которым можно определить существование школы: 1) коммуникативная связь между учителем (учителями) и учениками, заключающаяся в педагогическом и неформальном общении; 2) общность методологических (чаще – методических) позиций историков, куда включается категориальный аппарат, при помощи которого ведется изучение истории, принципы и методы работы с источниками, понимание задач развития исторической науки и т. д.; 3) близость конкретно-исторических исследований, взаимозависимость тематики работ; 4) политическая позиция членов неформального научного сообщества, которая из-за тесной связи этих людей нередко совпадает, хотя может и различаться[7 - Схожие критерии выделили: Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000; Михальченко М.И. Школы в исторической науке // Отечественная культура и историческая мысль XVIII–XX веков. Брянск, 2004. С. 205–206.]. Стоит отметить, что каждая научная школа – явление уникальное, поэтому для ее выделения из общего потока представителей научного сообщества могут быть использованы специфические, только ей присущие критерии, которые будут дополнять указанную выше матрицу.
Во второй половине XIX – начале XX в. историческая наука отличалась сложной структурой. Схематически это выглядело следующим образом: парадигма – научная школа – индивидуальное творчество. Под парадигмой принято понимать систему господствующих теоретических и практических образцов научного исследования. Во второй половине XIX в. господствующей парадигмой был позитивизм. Еще одним важным компонентом научного мира были научные школы. Основой научной школы является оригинальная исследовательская программа, которой придерживается определенный коллектив ученых разного возраста и статуса. Указанный период – время расцвета научно-исторических школ. При этом надо учитывать, что научные школы – феномен, меняющийся во времени. В разные периоды на первый план выходят разные характерные признаки научной школы. В исторической науке школы формируются в начале XIX в., когда начался постепенный переход от индивидуальных к коллективным формам наукотворчества.
В науковедческой литературе выделяется три типа научных школ: 1) научно-образовательная школа; 2) школа – исследовательский коллектив; 3) школа как направление[8 - Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. М., 1977. С. 28.]. С определенной спецификой предложенные типы школ прослеживаются и в историографии.
Первый тип тесно связан с университетским образованием. Нередко эти школы называют «классическими», так как они в наибольшей степени соответствуют представлениям о школе как образовательном институте. Такие школы разделяются по личности их основателя и научного лидера (школа Ключевского, школа Платонова, школа Лаппо-Данилевского) или по принадлежности к университетскому центру (Московская школа, Петербургская школа).
Отличительной чертой школ как исследовательских коллективов является тот факт, что приобщение к научному творчеству здесь происходит не путем преподавания, а посредством практической деятельности внутри группы ученых. Школы как исследовательские коллективы в конце XIX – начале XX в. еще не сформировались. Их расцвет придется на вторую половину XX в., когда будет создана разветвленная сеть научно-исследовательских коллективов, но в зачаточном состоянии этот тип можно обнаружить в «школе Лаппо-Данилевского», сообществе московских историков начала XX в.
Школа как направление появляется тогда, когда определенная научная идея выходит далеко за пределы узкой группы ученых-создателей и распространяет свое влияние на широкие научные круги независимо от их географического расположения. К этому варианту можно отнести государственную школу.
Доминирующим типом школ в конце XIX – начале XX в. являлись образовательные школы, группировавшиеся вокруг крупнейших университетских центров Российской империи. В это время происходит переход от индивидуального научно-исторического творчества, характерного для предыдущих этапов развития исторической науки, к коллективным формам производства научного знания, и университеты играли в этом процессе определяющую роль. Безусловное лидерство среди них принадлежало историческим школам Московского и Петербургского университетов. Именно здесь проходили подготовку впоследствии наиболее выдающиеся отечественные историки, и именно их изучению посвящено большинство историографических работ.
2. Московская историческая школа
Московской исторической школе, которую чаще принято называть «школой Ключевского», посвящено значительное количество литературы. Центральной проблемой, возникающей в связи с изучением сообщества московских историков, является вопрос онтологического статуса школы. Такие проблемы, как соотношение Московской и Петербургской школ, вопрос лидера школы, ее институциональных основ и т. д., продолжают остро интересовать исследователей. В целом каждая из этих проблем заслуживает отдельного исследования. Но стоит зафиксировать характерные черты Московской школы, присущие, в первую очередь, ее старшему поколению.
Московская историческая школа второй половины XIX – начала XX в. сформировалась под непосредственным влиянием научного наследия С.М. Соловьева и в особенности В.О. Ключевского[9 - Известный специалист в области истории исторической науки М.Г. Вандалковская даже считает необходимым говорить о «школе Соловьева-Ключевского»: Вандалковская М.Г. О традициях дореволюционной науки // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 97–98.]. В значительной степени исследовательский почерк московских историков-русистов определил и специалист по всемирной истории П.Г. Виноградов. Если у С.М. Соловьева и В.О. Ключевского были позаимствованы схема русского исторического процесса и категориальных строй, то на семинарских занятиях у П.Г. Виноградова будущие историки учились технике научного исследования и работе с источниками. Учитывая то, что у представителей этой школы, по сути, было несколько учителей, с нашей точки зрения, точнее говорить не о «школе Ключевского», а о «Московской исторической школе». Более того, изучение жизни и деятельности некоторых историков, не являвшихся непосредственными учениками Ключевского, но воспринявших его концепцию и методы исследования[10 - Например: Тихонов В.В. Историк «старой школы»: Научная биография Б.И. Сыромятникова. Pisa, 2008.], свидетельствует о том, что школа была шире непосредственного круга учеников мэтра. По мнению А.С. Попова, подобный подход обладает «меньшей определенностью», чем термин «школа Ключевского», «а следовательно, легитимностью»[11 - Попов А.С. Указ. соч. С. 15.]. Но тогда точка зрения Попова неоправданно сужает и не отражает всей широты проблемы, не позволяет адекватно отразить существовавшие реалии. Очевидно, что не только Ключевский, который был идейным лидером школы, воспитывал научное мировоззрение историков-русистов Московского университета. Поэтому предметом исследования в данной работе будет именно Московская историческая школа, а термины «школа Ключевского», «ученики Ключевского» или «московские историки» будут использоваться как синонимы этой категории.
Московская историческая школа и ее лидеры-основатели привнесли в отечественную историографию ряд новшеств. В первую очередь необходимо говорить о новаторском для своего времени подходе к изучению отечественной истории, который только наметил С.М. Соловьев и окончательно оформил, модернизировал и закрепил в науке В.О. Ключевский.
Он заключался в переходе от анализа эволюции государства через призму законодательных памятников, характерного для государственной школы, к многоаспектному изучению прошлого с упором на социально-экономические проблемы. Основной категорией такого анализа становится понятие «класс», которое у Ключевского отождествляется с общественными группами, выделяемыми как по экономическим критериям, так и по их социально-юридическому статусу. В этом проявилась позитивистская направленность методологии Ключевского, заключающаяся в том, что экономический и юридический факторы рассматривались как равновеликие. Изучение истории общества и государственных институтов с точки зрения их классовой составляющей стало неотъемлемой частью того подхода, который был свойственен ученикам Ключевского. Достаточно быстро данный ракурс исследования стал общепризнанным в российской исторической науке. Интерес к социальным вопросам и влияние позитивизма привели Ключевского к провозглашению нового направления – «исторической социологии», целью которой было «изучение строения общества, организации людских союзов, развития и отправлений их отдельных органов…»[12 - Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории // [Ключевский В.О.] Сочинения в девяти томах. Т. I. М., 1987. С. 35.]. Кроме того, стоит отметить интерес московских историков к проблемам истории налогообложения и финансов. С точки зрения А.С. Попова, В. Ключевский и его ученики в своих исследованиях провели синтез истории и социологии[13 - Попов А.С. Указ. соч.]. Данное утверждение представляется несколько преувеличенным, поскольку многие представители Московской школы (например, М.М. Богословский и А.А. Кизеветтер) скептически относились к объединению этих двух дисциплин. Тем не менее стоит повторить расхожее мнение, что московским историкам был свойственен интерес к социальной тематике и стремление концептуализировать полученные фактические данные, создать широкие исторические обобщения, что не совпадало со стремлением их петербургских коллег к скрупулезному анализу, в первую очередь, фактической стороны исторического процесса[14 - Валк С.В. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000; Дубровский А.М. Ученый и его наука в письмах // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 1998. С. 12; Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. С. 156; Он же. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер // Современные записки. 1933. № 51. С. 314; Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 21–23; Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства». Пг., 1920. С. 6; Шмидт С.О. Историография историографии // Исторические записки. № 8 (126). М., 2005. С. 307–308 и др.]. Исследователь Петербургской исторической школы Е.А. Ростовцев справедливо отметил «идеографический характер» исторических исследований петербургских историков[15 - Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и Петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 36.].
Другой категорией, ставшей важным инструментом исследования для историков Московской школы, была «колонизация». Ключевский вслед за Соловьевым, как известно, называл Россию колонизирующейся страной. В своей исторической концепции он сделал акцент на этом тезисе, рассматривая русскую историю во многом как следствие колонизационных процессов. История колонизации – одна из самых устойчивых тем для учеников В. Ключевского. Изучение отечественной истории через призму этих категорий было важнейшим признаком Московской исторической школы.
Отличительной чертой московских исследователей была последовательность в выборе тем исследования. Диссертации учеников Ключевского, как правило, были продолжением работ их предшественников. На примере старшего поколения московских историков это прекрасно показал А.Н. Шаханов[16 - Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века… С. 148–267.]. На этом фоне несколько странно выглядит его же утверждение, что «тематика исследований в Москве и Петербурге в 1880–1910-е гг. определялась прежде всего текущими задачами российской науки, одинаково понимаемыми в обоих университетских центрах»[17 - Там же. С. 405.]. То, что историки обоих университетов чутко улавливали потребности развития исторической науки, не вызывает сомнений, но при этом в Московской школе тематическая последовательность была взята за правило. И чем дальше, тем данная тенденция становилась очевиднее. Так, работа Ю.В. Готье о Замосковном крае[18 - Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в.: Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906.] была продолжением диссертации Н.А. Рожкова о сельском хозяйстве XVI в.[19 - Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899.] Докторская диссертация того же Готье[20 - Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М., 1913.], посвященная областным учреждениям от Петра до Екатерины II, как бы ложилась в хронологическом смысле между диссертациями М.М. Богословского об областной реформе Петра I[21 - Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого: Провинция 1719–1727 гг. М., 1902.] и работой А.А. Кизеветтера об административных реформах Екатерины[22 - Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II: Исторический комментарий. М., 1909.]. Фундаментальная монография С.Б. Веселовского о сошном письме[23 - Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследования по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 1–2. М., 1915–1916.] была одновременно и продолжением, и спором с Готье. Магистерская[24 - Яковлев А.И. Засечная черта Московского государства в XVII в. М., 1916.] и докторская[25 - Он же. Приказ сбора ратных людей. М., 1917.] диссертации А.И. Яковлева также тематически были дополнением работ Готье и Веселовского[26 - Проблемная и идейная взаимосвязь этих работ будет подробнее освещена далее.]. И таких примеров более чем достаточно, в то время как петербургские историки отличались достаточно произвольным выбором тем для исследований. Тут можно найти работы, посвященные древнейшим периодам и XVIII в., при этом никак не связанные между собой. Таким образом, можно сделать вывод, что в выборе тематики в среде историков Московской школы огромное значение играл имманентный фактор, что придавало школе значительно бо?льшую целостность, нежели это было присуще петербургским историкам. Не случайно среди специалистов по петербургской исторической науке принято говорить о «полицентризме» Петербургской исторической школы, существовании в ней нескольких «центров притяжения» в лице Платонова и Лаппо-Данилевского[27 - Свердлов М.Б. О Петербургской школе историков, корректности историографического анализа и рецензии В.С. Брачева. СПб., 1995. С. 22.].
В отличие от Петербургской в Московской школе вспомогательные исторические дисциплины, включая источниковедение, никогда не рассматривались как самостоятельные научно-исторические дисциплины и играли дополняющую роль к конкретно-историческом исследовании. В то же время в Петербурге теоретическое источниковедение развивалось в трудах К.Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова, А.Е. Преснякова и А.С. Лаппо-Данилевского как самостоятельное направление исследований. Отсюда вытекал и приоритет в изучении прошлого: петербургские историки концентрировались на фактическом анализе, в то время как москвичам был свойственен более концептуальный взгляд на проблемы.
Важным отличием московского научного сообщества от петербургского был и тот факт, что его представители (здесь вновь стоит подчеркнуть: старшего поколения) не занимались публикацией исторических источников, что имело систематический характер в среде петербургских историков. Специально анализировавший эту проблему С.В. Чирков считает, что московским историкам была свойственна «археография для себя»[28 - Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX – начале XX века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Мат-лы науч. конф. (Пенза, 25–26 июня 2001 года). Кн. 1. М., 2005. С. 130.]. То есть, несмотря на активную архивную работу при подготовке диссертационных исследований, они никогда не стремились обнародовать те архивные богатства, которые ими были выявлены и изучены.
Исторические взгляды тесно переплетаются с социально-политическими предпочтениями, образуя тесную мировоззренческую связь. Научное творчество представителей Московской школы проходило в сложных условиях начала XX в., когда царская власть переживала кризис, а гражданское общество только начинало формироваться. Историки объективно, независимо от собственного желания, оказались в центре стремительно меняющихся событий.
Отечественные историки неоднозначно относились к вопросу об участии ученых в политической жизни страны. Пожалуй, лишь П.Н. Милюков открыто рассуждал о тесной взаимосвязи между исторической наукой и политикой. Он считал, что политика – это искусство, но искусство, связанное с решением общественных проблем, поэтому политик нуждается в научном знании для успешной деятельности. Милюков затруднялся провести ту черту, которая разделяла бы научно-историческое знание и политику. Он писал: «Дело в том, что в данном случае познающий и действующий субъекты стоят так близко друг к другу, так часто совмещаются в одном лице, что смешение научной и практической точки зрения становится самым обыкновенным случаем»[29 - Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. СПб., 1896. С. 5.]. Автор этих строк сам являлся ярким примером совмещения в одном лице историка и политика.
Московские историки отличались активностью на социально-политическом поприще, большинство из них придерживалось либеральных взглядов. «Университет – не монастырь кабинетных отшельников, но живой орган культурного процесса», – утверждал А.А. Кизеветтер. В подтверждение этих слов многие московские историки принимали деятельное участие в общественной жизни страны. Зачастую их политические и исторические взгляды теснейшим образом переплетались. Между актуальными общественными задачами и проблематикой исследований существовала прямая связь. Легко заметить в работах историков повышенный интерес к проблемам реформирования российского государства, местному самоуправлению, общественным движениям. Придерживаясь представлений о схожести исторического пути России и Европы, большинство историков считало, что Российская империя неизбежно перейдет к тем же формам общественного устройства, что и западноевропейские страны, совершит переход от абсолютной монархии к правовому государству.
Петербургские историки, как представители столичного университета, занимали более академичную позицию, стремясь избежать открытого конфликта с властью. Показательным является случай, произошедший с А.С. Лаппо-Данилевским. В 1908/1909 учебном году во время студенческой забастовки преподаватель, придя на занятия, обнаружил в аудитории всего несколько человек. Тогда он решил не читать лекцию, а предложил обменяться мнениями о происходящем. Сам историк высказался в том смысле, что проведение забастовки в университете недопустимо, потому что это храм науки, а не арена для политических баталий[30 - Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 29–30.]. Такой же позиции придерживалось подавляющее большинство петербургских историков-профессионалов. Любопытно отметить, что, по мнению Е.А. Ростовцева, общественно-политическая атмосфера, царившая в двух университетах, повлияла и на стиль исторических исследований. Так, более свободная и политически активная позиция способствовала стремлению к концептуальному осмыслению в Московском университете, в то время как постоянный правительственный контроль в Санкт-Петербурге толкал к более деидеологизированной научно-критической работе с историческими источниками[31 - Ростовцев Е.А. Указ. соч. С. 58.].
Важнейшим критерием разделения научных сообществ является их самосознание. По меткому замечанию А.Н. Шаханова: «Для представителей научной школы характерна субъективная убежденность в обладании ими истинным знанием и осознанием принадлежности к особой исследовательской или педагогической корпорации»[32 - Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века… С. 393.]. Таким образом, самосознание также является критерием выделения научного сообщества. В случае Московской и Петербургской исторических школ можно указать и на традиционное противостояние двух российских столиц. Поскольку данной проблеме практически не уделялось внимания, стоит на ней остановиться подробнее.
Дихотомия «Москва – Петербург» является устойчивым феноменом русской культуры. Развиваясь во времени и модифицируясь, она, тем не менее, оставалась одним из главных источников формирования культурных мифов и стереотипов. В культурной мифологии XVIII–XIX вв. Петербург представлялся символом европейского пути России, ее приобщения к европейским ценностям. Москва же ассоциировалась с допетровской Русью и рассматривалась как оплот «азиатчины» и косности. К концу XIX в. бытовые и культурные различия между городами из-за ускоренной урбанизации существенно сгладились. Но на смену одним мифам пришли другие. Петербург стали рассматривать как столицу имперской бюрократии, тогда как Москва позиционировалась как город бурного самоорганизующегося общественного движения.
Противопоставление Москвы и Петербурга не могло не отразиться на историках обеих столиц. Все они воспитывались в определенной культурной среде, которая формировала их мировоззрение. По замечанию И.С. Розенталя: «Городская среда той и другой столицы формировалась как единство материальных условий жизни и особой культурно-психологической атмосферы, а мифология находилась в сложном соотношении с рациональными элементами сознания»[33 - Розенталь И.С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2003. С. 11.]. Эта среда являлась питательным источником различных стереотипов, от которых трудно было отделаться даже столь высокообразованным людям, которыми, без сомнения, являлись выпускники Московского и Санкт-Петербургского университетов.
Современные исследователи в области историографии при попытке выявить различия между Московской и Петербургской историческими школами в первую очередь делают упор на изучении различий в методологии и методике исторического исследования. Но те различия, которые, безусловно, присутствовали, не объясняют того устойчивого разграничения между московскими и петербургскими историками, которое отчетливо прослеживается в научной среде России конца XIX – начала XX в. Думается, что при объяснении феномена противостояния Московской и Петербургской школ весьма плодотворно будет применение культурологического подхода.
Впервые на культурно-психологические предпосылки появления Московской и Петербургской школ обратил внимание С.Н. Валк. В обширной статье, посвященной 125-летию Петербургского (Ленинградского) университета, он заметил: «История каждого из русских университетов теснейшим образом связана не только с историей общих судеб русского просвещения, но и с теми особыми и местными условиями, в которых жил и развивался каждый из университетов»[34 - Валк С.В. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Валк С.В. Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 7.]. Из современных исследователей на культурно-психологический аспект при рассмотрении специфики петербургской школы указывает С.В. Чирков: «Однако при всех различиях между собой «малых» школ [имеется в виду «школа Платонова» и «школа Лаппо-Данилевского». – В.Т.] их объединяло общее противопоставление петербургской школы московской исторической школе. Здесь наглядно выступает наибольшая актуальность при формировании самосознания научной школы антиномии отчетливо социально-психологического порядка: „мы и они“. Такое противопоставление Б.Ф. Поршнев считал основой самосознания этноса, но ведь научная школа тоже „культурная общность“»[35 - Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX – начале XX века // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. М., 2005. Кн. 1. С. 116.]. К сожалению, ни С.Н. Валк, ни С.В. Чирков не развили эти интересные и плодотворные мысли, не насытили их конкретно-историческим материалом. Между тем, мы находим достаточно много фактов, позволяющих трактовать данный вопрос в том числе и как культурную проблему.
Культурные мифы, к которым, без сомнения, относится и дихотомия «Москва – Петербург», являются важным компонентом формирования социальных групп, построенных на четком разделении «своих» и «чужих». Можно предположить, что во многом именно на противопоставлении столиц основывался антагонизм Московской и Петербургской исторических школ.
Московские историки, вобравшие в себя научные идеи своих учителей, вместе с тем были воспитаны в атмосфере противопоставления университетов обеих столиц. Старший представитель поколения московских историков второй половины XIX – начала XX в., П.Н. Милюков, будучи в эмиграции, в своих мемуарах писал следующие строки: «По-прежнему университет, журнал, газета, наука занимали в Москве то первое место, которое в Петербурге принадлежало дворным, сановным и военным кругам. Это, так сказать, самодавление Москвы создавало больше уверенности в себе, больше душевного равновесия и спокойствия в среде интеллигенции, чем в вечно тревожном и нервном, вечно куда-то спешащем Петербурге»[36 - Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. С. 156.]. В другой работе, посвященной сравнению петербургского историка С.Ф. Платонова и московского историка А.А. Кизеветтера, есть похожие мысли: «Петербург официален, Москва вольнолюбива. Петербуржец – формалист, москвич всегда склонен доискиваться причин и „смотреть“ в корень. В Москве хоть отбавляй оригинальности: она выдумывает, не боясь грешить отсебятиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз продуманное он мастер приводить в порядок»[37 - Он же. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер // Современные записки. 1933. № 51. С. 314.].
Таким образом, П.Н. Милюков отчетливо проводит разграничительную линию между Москвой и Петербургом. С его точки зрения, московский социум строится на неформальных общественных началах, где преобладает самоорганизация. Если Москва – культурная столица, то Санкт-Петербург – административный центр империи. П.Н. Милюков подчеркивает, что отличительной чертой москвичей является самостоятельность мышления, способность к глубокому анализу, в то время как петербуржцы склонны к систематизации, опасаются выдвигать смелые идеи. Московские интеллектуалы, по мысли П.Н. Милюкова, более независимы в отношениях с властью, в то время как петербургские научные круги склонны к компромиссу с «дворным, сановным и военным кругами».
В указанных строках П.Н. Милюков выказал то отношение к петербуржцам, которое бытовало в московском интеллектуальном сообществе. Очевидно, что данные высказывания относились и к петербургским историкам, с которыми, кстати, у П.Н. Милюкова сложились вполне хорошие отношения. Причем эти колкие замечания в адрес столицы Российской империи в неформальных беседах были, очевидно, более резкими. В письме к матери тогда еще начинающего историка-петербуржца А.Е. Преснякова, который приехал в Москву для работы в архивах летом 1892 г. и по рекомендации С.Ф. Платонова посетил П.Н. Милюкова, мы находим описание следующего эпизода: «Милюков принял меня очень радушно… У него я встретил еще каких-то причастных к науке субъектов – и про всех можно сказать, что действительно от головы до пяток есть московский отпечаток. Мне как-то сразу стали понятны слова Платонова, что в Москве люди себе цену знают. Сразу поразил какой-то твердый решительный и, пожалуй, даже слишком самоуверенный тон, не избегающий резких выражений и, в частности, довольно-таки пренебрежительное отношение к Петербургскому университету»[38 - Пресняков А.Е. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 34.].
В письме к своей жене Пресняков еще в более резких тонах описывает произошедшее: «Москва все та же, старая и грязная Москва, и люди все такие же, довольные своими уголками, самоуверенные. Если бы Вы слышали, как пренебрежительно третируют здешние доценты наш Петербургский университет. Один даже сказал что-то вроде того, что интересно было бы сосчитать, сколько идиотов (?!) между петербургскими профессорами. Хороши мальчики, нечего сказать. Можно подумать, что они сами-то великие люди»[39 - Там же. С. 412.].
В приведенных выше цитатах наглядно видны различия в менталитете. Если Милюков с гордостью подчеркивает «оригинальность» москвичей, то Преснякову это кажется самоуверенностью. Причем Пресняков указывает на это как на характерную черту («от головы до пяток есть московский отпечаток»). Задело Преснякова и пренебрежение к его родному университету. Ценно указание на предостережение С.Ф. Платонова, который готовил своего ученика к столкновению с людьми, которые «себе цену знают». Таким образом, можно констатировать, что в петербургской научно-исторической среде сложилось стойкое представление о москвичах как заносчивых и резких людях. Тем не менее Пресняков отмечает, что в этой браваде есть и положительные стороны: «А все-таки хорошо, что люди так бодро на вещи смотрят, как здешние, и что себе цену знают, хотя бы и преувеличивают ее»[40 - Там же.].
Справедливости ради нужно указать, что в письме другого петербургского историка, С.В. Рождественского, впечатление о московских профессиональных историках совсем иное. «В двухчасовой беседе, посвященной московским и петербургским злобам дня, ничего обидного для петербургского самолюбия выслушать мне не пришлось»[41 - Цит. по: Корзун В.П., Мамонтова М.А., Рыженко В.Г. Путешествия русских историков конца XIX – начала XX века как культурная традиция // Мир историка. XX век. Омск, 2002. С. 97.], – писал Рождественский. Впрочем, как утверждают авторы статьи: «Значимым для Рождественского является взгляд москвичей на петербургских историков, его ухо улавливает малейшие нюансы таких оценок, и практически каждое его письмо содержит такую информацию»[42 - Там же.]. Это указывает на то, что Рождественский был изначально готов к разного рода колкостям со стороны москвичей, поэтому он и отмечает тот факт, что их не было.
Если петербуржцы считали москвичей слишком самоуверенными, то мнение о Петербурге как столице чиновников и придворных, где невозможно свободное научное творчество, было весьма распространено в московских кругах. С.В. Веселовский, которому долгое время не давали преподавать в Московском университете, после того как возникла возможность получить научное звание в Санкт-Петербурге и начать там свою педагогическую карьеру, отказался от этого предложения. В своем дневнике он следующим образом объяснил это решение: «Мне представляется, что в П[етербурге] меньше оригинальных людей и независимых характеров, чем в Москве, но средний уровень культуры много выше московского. Нельзя же считать научной средой чиновников от науки, группирующихся около университета, курсов и т. д.»[43 - Веселовский С.Б. Дневники 1915–1923, 1944 г. // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 106.]. Он написал это в 1916 г.
В 1918 г., в эпоху тотальной ломки привычного мира, уже другой московский историк, Ю.В. Готье, рассуждал в том же направлении. Категорический противник большевиков, он считал, что стремление петербургских историков сотрудничать с новыми властями есть проявление их менталитета, сформированного близостью научного сообщества в Петербурге к власти вообще. «Несколько раз пришлось видеться с петербургскими историками Пресняковым и Полиевктовым. Раньше это не осознавалось, но теперь, при обострении жизни, как все-таки ясно чувствуется разница в психологии Петербурга и Москвы. Они легче приспосабливаются к Р.С.Ф.С.Р. и оптимистичнее смотрят на настоящее, чем мы – трудно это сразу объяснить: не то наследие питерской бюрократии, не то налет эсеровщины, уживающийся с тем же бюрократическим духом бывшей столицы»[44 - Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1991. № 8–9. С. 156.].
Поразительно как представление Веселовского и Готье о Петербурге и петербургских историках совпадает с записями Милюкова. Очевидно, что это указывает на общий стереотип, существовавший у московских историков.
Вообще московские историки ревностно относились к проникновению в свою среду чужаков, представителей других университетов. Характерную позицию занимал М. М. Богословский. После того как в 1911 г., в знак протеста против вмешательства министра народного просвещения Л.А. Кассо в университетскую автономию многие университетские преподаватели подали в отставку, а А.А. Кизеветтер отказался занять кафедру русской истории, Богословский принял предложение возглавить историко-филологический факультет, мотивируя это тем, что иначе наследие В.О. Ключевского достанется М.В. Довнар-Запольскому, выходцу из Киевского университета. Похожие настроения наблюдались и у М.К. Любавского. «Любавский очень осторожно относится к появлению в Москве беглецов из чужого университета»[45 - Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 662.], – отмечал А.Е. Пресняков.
В этом смысле иная позиция была присуща петербургскому научному сообществу. Там традиционно находили пристанище представители различных университетских центров. Достаточно вспомнить К.Н. Бестужева-Рюмина и Н.И. Кареева, окончивших Московский университет, а также Н.И. Костомарова, воспитанника Харьковского университета. Все это привело к относительной аморфности Петербургской исторической школы.
Среди петербургских историков наиболее обстоятельные рассуждения о Москве и Петербурге и научно-исторических сообществах обеих столиц как культурных противоположностях мы находим у А.Е. Преснякова. Он не был коренным петербуржцем, но долгое время прожил в столице, учился в местном университете. Как специалисту по допетровской Руси ему было необходимо ездить в Москву, чтобы работать в архивах, где он часто сталкивался и с московскими историками. В своих письмах он фиксировал многие впечатления от знакомства со второй столицей.
Первое знакомство с майской Москвой 1892 г., которое мы находим у Преснякова, имеет весьма негативный оттенок: «Идя по Москве, я был действительно поражен видом белокаменной: грязь потрясающая. Кажется, в этой белокаменной белено только было, что мой китель»[46 - Там же. С. 34.]. Но первое негативное впечатление вскоре сменилось симпатией к своеобразному колориту Москвы: «Делать нечего, и теряешь много времени. Трачу я его на хождение по Москве, которая все больше и больше нравится мне своей характерной физиономией и оживленностью. Я вполне понимаю, как скучен Петербург для москвичей, как бесцветна и скучна петербургская толпа сравнительно с здешней»[47 - Там же. С. 36.]. Именно разнообразие и неформальность социокультурного мира Москвы начинают привлекать автора процитированных строк. Люди здесь кажутся более раскрепощенными и оригинальными: «Вообще в Москве, кажется, не переводятся живые люди»[48 - Там же. С. 39.]. В противоположность грязной, но колоритной и неоднообразной Москве, Петербург уже представляется историку скучным: «В общем, Петербург такой же скучный и скверный, как всегда, несмотря на хорошую погоду»[49 - Там же. С. 144.].
Пресняков во многом был согласен со своими московскими коллегами в оценке петербургской атмосферы. В письме матери от 4 марта 1894 г. находим следующие рассуждения: «Миклишевский, очень симпатичный и знающий человек, – без места. Его, впрочем, вызвали в министерство, поручили какое-то дело и, верно, оставят его здесь, хотя ему очень тяжело расставаться с Москвой. Сильно не по душе ему наша питерская атмосфера, и я вполне разделяю его мнение»[50 - Там же. С. 129.].
Преснякова не устраивала соглашательская позиция по отношению к властям, которая была традиционно присуща представителям Петербургского университета. Комментируя события 1894 г., когда 42 московских профессора во главе с А.А. Остроумовым подали петицию с прошением о смягчении участи высланных из Москвы после волнений студентов, он пишет: «Молодцы москвичи, у нас ничего подобного быть не может»[51 - Там же. С. 168.]. С годами симпатия и любовь к Москве только росли. Пресняков начал все больше ценить ее неповторимую «провинциальность». «А воздух чистый, свежий. Так хорошо дышится после города. И сама Москва не производит на меня такого „городского“ впечатления, как Петербург. Как-то тут свободнее, проще… И люди московские – другие, в трамваях, на улице… Спокойные, веселые, никуда не торопятся, не суетятся». Но при этом историк отмечал и разительные перемены, происходящие с Москвой: «А вместе с тем Москва растет, меняется, пожалуй, больше, чем Петербург… Правду говорят, „что город, то норов“»[52 - Там же. С. 618.].
В 1909 г., в письме к жене, Пресняков признается, что Москва ему нравится больше, чем Санкт-Петербург. «Право, помимо пристрастия, хороший город. Гораздо шире, красивее Петербурга. Я рассказывал тебе, что тут и магазины много эффектнее, и как-то все крепче и свободнее. Очень бы хотел тебе Москву показать. И как-то боязно, что тебе моя милая Москва совсем не понравится. Ведь она довольно неряшливая и во многом все-таки купчиха. Не то, что элегантная, бойкая Варшава. Но по-своему она мне гораздо больше нравится. Тут мне, вероятно, и жилось бы хорошо, шире и свободнее, чем в Петербурге. Тут в жизни больше энергии и меньше суеты»[53 - Там же. С. 626.]. Примечательно замечание автора о том, что в Москве «больше энергии и меньше суеты». Как это разительно отличается от мнения петербуржцев первой половины XIX в., которые считали Москву патриархальным и нединамичным городом, столицей дворянского гедонизма[54 - Figes O. Natasha’s dance. A cultural history of Russia. London, 2002. P. 162.]. На смену праздному московскому дворянству пришла деловитая буржуазия.
Итак, отношение Преснякова к Москве было более чем положительным. Но, несмотря на искреннюю любовь к Москве и симпатию к московскому менталитету, именно Пресняков сформулировал тезис об особом статусе Петербургской исторической школы, во многом отличной от московской. На защите докторской диссертации «Образование Великорусского государства» в 1918 г. он произнес речь, в которой разделил Московскую школу, как школу, основанную на отвлеченном теоретизировании, и петербургскую, где господствует власть факта. «Я определил бы ее [петербургской школы. – В.Т.] характерную черту как научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном, непосредственном отношении к источнику и факту, вне зависимости от историографической традиции»[55 - Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 6.].
Здесь Пресняков как бы поставил с ног на голову тезис Милюкова: «В Москве хоть отбавляй оригинальности: она выдумывает, не боясь грешить отсебятиной. Петербург осторожен насчет выдумки, зато раз продуманное он мастер приводить в порядок». Если Милюков видел превосходство Москвы именно в смелости мысли, то теперь Пресняков усмотрел преимущество Петербургской школы в осторожности и обстоятельности, отказе от априорного теоретизирования.
Итак, из приведенного выше видно, что противостояние, которое было характерно для исторических школ в конце XIX – начале XX в., во многом основывалось на культурных стереотипах (которые нередко вполне могли совпадать с реальностью). Петербуржец – формалист, следовательно, и петербургский историк в первую очередь будет заниматься не осмыслением полученных исторических фактов, а их проверкой и первичной систематизацией. Москвич же – «оригинал», он предрасположен к осмыслению истории, к анализу первопричин и созданию смелых концепций.
Из изложенного материала можно сделать вывод, что различия между двумя научными сообществами скрывались не только в научном творчестве, но и в менталитете, сформированном культурной средой Москвы и Петербурга. Дихотомия «Москва – Петербург» наслаивалась на взаимоотношения научно-исторических сообществ обеих столиц, создавая предпосылки для разграничения «своих» и «чужих», формировала фон для рефлексии об особенностях двух научно-исторических сообществ.
3. Младшее поколение историков Московской школы: предварительные соображения
Существование различных поколений в рамках одной школы – до сих пор слабо изученный вопрос. Как справедливо иногда замечают специалисты в области историографии, жизнь исторических школ довольно коротка – одно-два поколения исследователей[56 - Лаптева Л.П. Владимир Иванович Ламанский // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 271.]. Но институциональным центром Московской исторической школы был историко-филологический факультет, что позволяло школе «самовоспроизводиться» в течение длительного времени. Это привело к тому, что в Московской школе можно выделить несколько поколений. Впрочем, в литературе проблема поколений московских историков отличается неопределенностью. Интересно отметить, что в рамках Петербургской исторической школы уже неоднократно выделялись разные генерации[57 - Жуковская Т.Н. Некоторые размышления о Петербургской исторической школе // Третьи мартовские чтения памяти С.Б. Окуня: Мат-лы науч. конф. СПб., 1997. С. 10–12; Ростовцев Е.А. Указ. соч. С. 58.], что также подтверждает значение университета как институционального центра школы, позволяющего формировать несколько поколений ее представителей.
Так или иначе, но существование нескольких поколений учеников Ключевского признается многими исследователями. Так, еще П.Н. Милюков указывал на бытование в рамках Московской школы старшего и младшего поколений[58 - Трибунский П.А. «Школа Ключевского» в оценке П.Н. Милюкова // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. Вып. 1. М., 2005. С. 401.]. Более того, он сам поражался, насколько следовавшие за ним студенты того же историко-филологического факультета отличаются от его поколения менталитетом[59 - Милюков П.Н. Мои университетские годы // Московский университет. Париж, 1930.]. Схожие наблюдения на эмпирическом уровне присутствуют в работах Н.Л. Рубинштейна[60 - Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.; Л., 1941. С. 500–502.], Т. Эммонса[61 - Эммонс Т. Ключевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 11. С. 46.], Т.И. Халиной[62 - Халин Т.И. Михаил Михайлович Богословский // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 426.]. Н.Л. Рубинштейн наиболее отчетливо провел разделение учеников Ключевского на два поколения. По его мнению, к старшему поколению относились П.Н. Милюков, М.К. Любавский, Н.А. Рожков и М.М. Богословский, к младшему – Ю.В. Готье, В.И. Пичета, С.В. Бахрушин, А.А. Кизеветтер, А.И. Яковлев. К сожалению, автор не указал, по каким критериям была проведена эта градация, что значительно снижает эвристическую ценность этих наблюдений. Современный исследователь А.Н. Шаханов выделяет сразу три поколения в Московской школе[63 - Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века. Московский и Петербургский университеты. М., 2003. С. 249.].
Разграничение учеников В.О. Ключевского прослеживается и в работах В.П. Корзун. Так, она выделяет ядро школы, куда включила П.Н. Милюкова, М.К. Любавского, М.М. Богословского, А.А. Кизеветтера и Ю.В. Готье. Кроме ядра она выделила «второй круг учеников» в составе М.Н. Покровского, А.И. Яковлева, В.И. Пичету, С.В. Бахрушина, С.К. Богоявленского, В.А. Рязановского, М.М. Карповича и Г.В. Вернадского. Очевидно, что под «вторым кругом» подразумевается младшее поколение историков Московской школы[64 - Корзун В.П. В.О. Ключевский и его ученики // Очерки истории отечественной исторической науки XX века. Омск, 2005. С. 41.]. Впрочем, оба специалиста ограничиваются умозрительными наблюдениями, произвольно относя одних историков к одной генерации, а других – к другой.
Е.А. Ростовцев, рассматривая типичные черты Петербургской исторической школы в ее отличии от Московской, выделил несколько поколений среди московских историков: первое и второе поколение – это Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, В.И. Сергеевич, В.О. Ключевский, третье – это П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, М.Н. Покровский, М.М. Богословский, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин[65 - Ростовцев Е.А. Указ. соч. С. 57.]. Предложенное разделение, с нашей точки зрения, отличается крайней размытостью. Наверное, сложно говорить о существовании научной школы в 1830–1840-е гг. Это был еще период, когда индивидуальное творчество играло определяющую роль. Не случайно ни Т.Н. Грановский, ни С.М. Соловьев, ни К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин не имели прямых учеников. Кроме того, в ряды этих ученых почему-то не попали историки-славянофилы, хотя они формировали лицо Московского университета не в меньшей степени, чем упомянутые Ростовцевым ученые-западники. Представляется, что Московская школа начала свое формирование во второй половине XIX в., когда обозначился переход к коллективистским формам наукотворчества и возникли потребность науки в монографическом изучении русской истории и, как следствие, потребность в кадрах, объединенных общей идей (методологией) и изучающих множество частных проблем (что не под силу отдельному исследователю). Кроме того, в третьем поколении оказались объединены слишком разные ученые, например, М.Н. Покровский и П.Н. Милюков, что также не добавляет схеме убедительности.
В научной литературе в последнее время наблюдается повышенный интерес к проблеме поколений. По замечанию авторитетного специалиста в области социологии поколений В.В. Семеновой, в современной социологии произошел отход от биологической трактовки категории «поколение» к социокультурной. Теперь «на первое место выдвигается компонент группового своеобразия (самосознания) каждого колена – индивидов, родившихся в одно время и имеющих схожий опыт, общие интересы и взгляды»[66 - Семенова В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М., 2009. С. 7.]. В этом контексте ключевым критерием выделения генерации становится так называемый «исторический опыт» возрастной группы. Можно с уверенностью сказать, что для сообщества ученых целесообразно выделить не только «исторический опыт», безусловно, сильно влияющий (в особенности на историков), но и «научный опыт», т. е. уникальные черты научной практики. В поколениях ключевую роль играют «возрастные (поколенческие) образцы, или паттерны», которые определяются как «типичные формы социальной активности поколения»[67 - Там же. С. 21.] и являются основой культуры поколений. По отношению к научно-историческому сообществу такими паттернами следует признать как социально-политические стратегии поведения, так и образцы решения научных вопросов, принятые в генерации.
Между тем, учитывая все выше сказанное, для демаркации генераций в исторической науке, кроме конкретно-исторического подхода, можно предложить следующие критерии: 1) изменение методологии, а в случае школ уместнее говорить о методике исторического исследования; 2) трансформация социально-политической обстановки, в которой растут молодые исследователи, что, в свою очередь, может скорректировать тематику научной работы; 3) переход старших коллег от роли учеников к роли учителей, что способствует кристаллизации тех новшеств, которые были ими внесены в историографическую традицию; 4) самосознание младшего поколения, осмысление своей, с одной стороны, зависимости от мэтров школы, а с другой – понимание особых черт в своем научном творчестве; 5) коммуникативные характеристики, заключающиеся в предпочтении круга общения, поскольку замечено, что историки одного поколения и схожих взглядов более тесно сотрудничают друг с другом; 6) внешние по отношению к имманентному развитию школьных традиций факторы (например, влияние других школ или отдельных личностей, научных парадигм и т. д.), которые также приводят к формированию особых черт нового поколения. Совокупность этих критериев, по нашему мнению, позволяет говорить о принадлежности ученого к тому или другому поколению.
Большинство указанных критериев невозможно проверить в одной главе из-за слабой изученности младшего поколения московских историков (это будет сделано, по возможности, далее). Но одно позволит выделить представителей младшего поколения, сформировав тем самым предмет исследования. Таким критерием является факт ученичества у более старших коллег. По нашему мнению, к старшему поколению можно отнести историков, писавших свои диссертации непосредственно у Ключевского, а к младшему – тех, кто учился не только (да и не столько) у Ключевского, сколько уже у его учеников. Именно они и стали представителями нового поколения московских исследователей. К ним следует отнести Ю.В. Готье, который занимал связующее положение между старшим и младшим поколениями, а также С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.Б. Бахрушина. Научная деятельность этих историков позволяет наглядно проследить эволюцию и трансформацию Московской исторической школы. Казалось, было бы естественно включить в этот круг и такого выдающегося ученого, как В.И. Пичета, окончившего Московский университет в 1901 г., но его творчество представляется скорее сплавом московской и киевской традиции и является слишком специфическим, чтобы рассматривать его в рамках данной работы. Своеобразную архивоведческую направленность приобрело творчество и другого представителя этого поколения – С.К. Богоявленского. Тем не менее стоит отметить, что многие черты, присущие выделенным в качестве объекта исследования ученым, были свойственны и В.И. Пичете, и С.К. Богоявленскому.
4. Литература о жизни и творчестве Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина
В отечественной историографической литературе до сих пор отсутствуют работы, в которых творчество Готье, Веселовского, Яковлева и Бахрушина рассматривалось как нечто цельное. И все же анализу их жизни и научной деятельности посвящен внушительный комплекс работ. Условно этот массив литературы можно разделить на несколько частей: 1) учебники и учебные пособия, а также обобщающие труды по истории исторической науки; 2) работы, в которых указанные историки рассмотрены в рамках крупных историографических проблем; 3) монографии и статьи, освещающие индивидуальное творчество.
Первый пласт литературы, благодаря своей распространенности, заслуживает особого внимания. Пособия, в силу относительно невысокого количества историографических работ, также должны активно использоваться в историографических исследованиях. Первой в этом ряду стоит известная работа Н.Л. Рубинштейна «Русская историография». Автор рассматривает Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.Б. Бахрушина как составную часть «школы Ключевского». Готье, Бахрушина и Яковлева он причисляет к «младшим представителям» этой школы, у которых «экономическая проблематика выступает отчетливее [чем у их старших коллег. – В.Т.] и еще более приближает их работы к современности»[68 - Рубинштейн Н.Л. Указ. соч. С. 500.]. В целом, их творчество было оценено как эволюция Московской школы. Отдельно анализируется Веселовский, которого автор причисляет к историко-юридическому направлению. Он отмечает блестящее знание Веселовским актового материала, но при этом пишет: «Все его [Веселовского. – В.Т.] попытки перейти к реальной интерпретации исторических явлений остаются в рамках основной историко-юридической концепции, обращены к крайним положениям исторической схемы Ключевского»[69 - Там же. С. 513.]. Таким образом, Веселовский все-таки рассматривался в рамках «школы Ключевского», которого Рубинштейн также считал синтезатором исторического экономизма и наследия историко-юридической школы. В данном случае видимая разница оценок объясняется тем, что Ключевского нередко относили (и относят) к государственной школе, в то время как многие (в том числе и автор этой работы) историографы считают, что Ключевский сумел выйти за рамки государственной школы.
Немало внимания уделено Ю.В. Готье, С.Б. Веселовскому, А.И. Яковлеву и С.Б. Бахрушину в фундаментальных «Очерках истории исторической науки в СССР». В них творчество историков также не рассматривается как целостный феномен, но автор раздела об исторической науке начала XX в. Л.В. Черепнин указал, что «из „школы“ Ключевского вышел ряд историков, которые впоследствии отдали свои знания делу развития советской исторической науки (Ю.В. Готье, В.И. Пичета, С.В. Бахрушин, А.И. Яковлев и др.)»[70 - Очерки истории исторической науки в СССР (далее – ОИИН). Т. III. С. 317.]. Данное издание представляет интерес благодаря оценкам (впрочем, нередко устаревшим) отдельных работ ученых. На высоком историографическом уровне Л.В. Даниловой написан раздел, касающийся изучению феодализма в V томе «Очерков…». Анализ работ Готье, Бахрушина и Яковлева, проделанный исследовательницей, до сих пор не потерял своего значения[71 - Данилова Л.В. Изучение истории средневековой России // ОИИН. Т. V. С. 110–187.].
Деятельность исследуемых ученых затрагивалась и в известном пособии по историографии под редакцией В.Е. Иллерицкого и А.И. Кудрявцева. Один из авторов, И.К. Додонов, отметил «известное влияние воззрений Ключевского» на Ю.В. Готье и С.В. Бахрушина[72 - Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Иллерицкого, А.И. Кудрявцева. М., 1961. С. 316.]. Большое количество оценок отдельных работ Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.Б. Бахрушина можно найти и в учебнике под редакцией И.И. Минца[73 - Историография истории СССР. Эпоха социализма / Под ред. И.И. Минца. М., 1982.]. Характерной чертой данных учебных пособий, кроме их, безусловно, положительного значения для развития и пропаганды историографии в тех конкретных условиях, являлись идеологическая заданность, априорное осуждение наследия «буржуазной» исторической науки, что наложило свой отпечаток на оценку работ представителей Московской исторической школы.
Во многом в рамках советской историографической традиции было написано учебное пособие А.Л. Шапиро[74 - Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. СПб.; Тверь, 1993.]. Тем не менее данная работа отличается стремлением к объективистскому подходу и содержит ряд очень ценных наблюдений и замечаний касательно представителей младшего поколения московских историков. К категории обобщающих трудов относится и известная книга русско-американского историка Г.В. Вернадского[75 - Вернадский Г.В. Русская историография. М., 2003.], впервые опубликованная в России в 1998 г. В ней даны краткие очерки жизни и деятельности большинства наиболее заметных историков России. Большим недостатком работы является то, что Вернадский писал ее в эмиграции, будучи удаленным от необходимых ему источников, многие вещи он записывал по памяти, что привело к множеству ошибок. Интересующие нас историки расположены в издании под рубрикой «Ученики Ключевского».
Заслуживает внимание и пособие С.П. Бычкова и В.П. Корзун, где отдельная глава отведена теме «В.О. Ключевский и его ученики»[76 - Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в отечественную историографию XX века. Омск, 2001. С. 77–96.]. Продолжение эта проблема нашла в коллективной монографии «Очерки истории отечественной исторической науки XX века», где В.П. Корзун также высказывается по вопросу поколений в Московской исторической школе[77 - Корзун В.П. В.О. Ключевский и его ученики // Очерки истории отечественной исторической науки XX века. Омск, 2005. С. 41.] (см. с. 000 данного издания).
Вторым комплексом литературы являются монографии, посвященные тем или иным проблемам развития отечественной исторической науки, где затрагивается научное наследие изучаемых историков.
Хронологически первой в этом ряду можно поставить монографию Г.Д. Бурдея, освещавшую развитие советской исторической науки в годы Великой Отечественной войны[78 - Бурдей Г.Д. Историк и война. Самара, 1991.]. Монография насыщена конкретным материалом, позволившим автору поставить ряд важных и новых вопросов для того времени. В книге подробно разобрана организация научно-исторических институтов в годы войны, а одна из глав посвящена проблеме влияния Сталина на советскую историографию. На стыке исследования, публицистики и мемуаров написана книга известного историка В.Б. Кобрина[79 - Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992.]. Особый интерес в ней представляют воспоминания о многих выдающихся историках.
На высоком историографическом уровне написана уже упоминавшаяся монография А.Н. Шаханова «Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX в. Московский и Петербургский университеты». Несмотря на то что она большей частью касается более ранних периодов развития отечественной исторической науки, в ней немало верных общих замечаний и конкретных наблюдений касательно и младшего поколения Московской школы. Он заметил, что «младшему поколению учеников Ключевского… принадлежит приоритет в широкой постановке вопросов социально-экономической истории XVII в.»[80 - Шаханов А.Н. Указ. соч. С. 219.].
Большой интерес представляет монография Т.И. Хорхординой, посвященная развитию архивоведческой мысли в России[81 - Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М., 2003.]. В ней большое внимание уделено анализу взглядов Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского на отечественное архивное дело. В монографии А.М. Дубровского затрагивается важная проблема для развития исторической науки 1920– 1950-х гг. – взаимоотношение историков-профессионалов и властвующих структур[82 - Дубровский А.М. Историк и власть. Историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005.]. Беспристрастный анализ отечественной историографии, посвященной изучению феодальных аграрных отношений, можно найти в нарочито объективистски написанной книге Н.А. Горской[83 - Горская Н.А. Русская феодальная деревня в историографии XX века. М., 2006.]. Автор воздержалась от обобщающих оценок, но конкретный разбор научной литературы в большинстве случаев представляется сделанным на высоком уровне и адекватным реальности. Заметным событием стала публикация исследования Л.А. Сидоровой о взаимоотношении в середине XX в. трех поколений историков. Ученики Ключевского были отнесены к «старшему поколению»[84 - Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века. Синтез трех поколений. М., 2008.].
Важнейшей частью историографии темы являются исследования, освещающие индивидуальную жизнь и научную деятельность историков. Рассмотрение ее стоит начать с работ о самом старшем из указанных ученых, Ю.В. Готье. Жизни и творчеству Ю.В. Готье посвящена довольно обширная литература. Колоссальное значение в изучении научной биографии историка принадлежит до сих пор единственной библиографии (конечно же, неполной) трудов ученого, составленной Н.М. Асафовой при участии самого Готье[85 - Асафова Н.М. Ю.В. Готье: Мат-лы к библиографии ученых СССР. Серия: История. Вып. 1. М., 1941.].
Отправной точкой изучения наследия академика стал вечер памяти, прошедший в Отделении истории и философии АН СССР 28 марта 1944 г. На нем выступили с докладами С.В. Бахрушин, С.К. Богоявленский, Б.А. Рыбаков и В.П. Любимов[86 - АРАН. Ф. 457. Оп. 1-а (1944). Ед. хр. 36.]. Выступления Бахрушина и Богоявленского стали основами их последующих статей о Готье.
Первая серия публикаций, освещавших научную биографию ученого, вышла после его смерти. Уже эти работы, в которых рассматривались различные аспекты деятельности Ю.В. Готье, были ориентированы на серьезный анализ научного наследия академика[87 - Бахрушин С.В. Ю.В. Готье // Исторический журнал. 1944. № 2–3. С. 74–79; Богоявленский С.К. Академик Ю.В. Готье // Известия. АН СССР. Сер.: История и философия. 1944. Т. 1, № 3. С. 109–115; Пичета В.И. Академик Ю.В. Готье // Вестник АН СССР. 1944. № 3. С. 123–126; Он же. Академик Ю.В. Готье // Исторические записки. М., 1945. Кн. 15. С. 301–314; Он же. Труды Ю.В. Готье по истории Литвы // Московский государственный университет: Доклады и сообщения исторического факультета. М., 1945. Вып. 1. С. 17–20; Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог // Там же. С. 21–24; Новицкий Г.А. Академик Ю.В. Готье // Там же. С. 13–17; Юрий Владимирович Готье (1873–1943) // Вестник древней истории. 1946. № 1. С. 215; Рубинштейн Н.Л. Памяти академика Ю.В. Готье // Ученые записки МГУ. 1946. Вып. 87. С. 156–160.].
В своей статье С.В. Бахрушин, друг и коллега покойного, писал, что «Ю. В. Готье являлся живым звеном между прошлым и настоящим русской исторической науки, между лучшими традициями этого прошлого и новыми научными достижениями советских историков»[88 - Бахрушин С.В. Ю.В. Готье… С. 74.]. Автор смело относит Готье к представителям «школы Ключевского», отмечая его большое влияние на Готье. «Ученик и последователь В. О. Ключевского, Ю.В. Готье воспринял от своего учителя все самые сильные стороны его исследовательского метода: строго критический подход к источникам и тщательную их разработку, исчерпывающую документацию, детальное изучение фактов»[89 - Там же.]. Автор отмечает устойчивость методики исторического исследования, присущей Готье. Следование научной традиции, по мнению Бахрушина, позволило ученому оставить след в самых различных сферах исторического знания[90 - Там же. С. 77.].
Другой автор, не менее близко знавший Готье, чем Бахрушин, В.И. Пичета, также отмечал широту научного поиска историка[91 - Пичета В.И. Академик Ю.В. Готье… С. 303.]. Он заметил, что тематика работ Готье определялась «общим состоянием русской исторической науки»[92 - Там же.], тем самым указывая на актуальность его научного творчества и оправдывая недостатки трудов Готье. По мнению Пичеты, «Ю.В. Готье должен был стать в ряды тех исследователей, которые ушли от традиций историко-юридической школы и сосредоточили свое внимание на изучении вопросов экономического быта»[93 - Там же. С. 304.]. В этой связи особое место в творчестве ученого занимала монография «Замосковный край в XVII веке», в которой, впрочем, по мысли Пичеты, «материал дается в отрыве от глубоких социальных процессов, от острой классовой борьбы»[94 - Там же. С. 304–305.].
Серия статей о жизни и творчестве Готье была помещена в сборник «Московский государственный университет. Доклады и сообщения исторического факультета». Здесь авторы касались самых различных сторон деятельности историка. Так, Пичета рассмотрел его работы по истории Русско-Литовского государства[95 - Пичета В.И. Труды Ю.В. Готье по истории Литвы // Московский государственный университет: Доклады и сообщения исторического факультета. М., 1945. Вып. 1. С. 17–20.]. А.В. Арциховский проанализировал вклад ученого в археологию, отметив, что «одной из главных научных заслуг академика Ю.В. Готье является объединение истории и археологии»[96 - Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог… С. 21.].
Большой интерес, в силу глубины историографического анализа научного наследия Готье, представляет статья Н.Л. Рубинштейна[97 - Рубинштейн Н.Л. Памяти академика Ю.В. Готье // Ученые записки МГУ. 1946. Вып. 87. С. 156–160.]. Он отметил сильное влияние на историка не только его непосредственного учителя В.О. Ключевского, но и П.Г. Виноградова. По словам Рубинштейна, работы Готье, несмотря на широту тематики, были написаны на самом высоком уровне. Автор выделил три характерные черты научного творчества Готье: 1) «мобилизация новых источников и предельная интенсивность их использования»; 2) «конкретность исследования, достигаемая путем внешнего ограничения объектов изучения»; 3) «указанная конкретность исторического изучения при первом, поверхностном знакомстве с работой историка иногда воспринимается как господство факта, частного, отказ от обобщения. В действительности, служа предельной интенсивности изучения материала, она, напротив, соединяется с большой полнотой и широтой научного обобщения»[98 - Там же. С. 157–159.]. В заключении Рубинштейн написал, что Готье как историку была свойственна социальная направленность исторического исследования.
В 1973 г. в связи со 100-летием со дня рождения историка в МГУ им. М.В. Ломоносова была проведена конференция[99 - Борисов Н.С. Столетие Ю.В. Готье // История СССР. 1975. № 4. С. 231–232.], участники которой (Б.А. Рыбаков, П.А. Зайончковский, Ю.А. Поляков и др.) отметили весомый вклад Готье в развитие отечественной исторической науки. Тогда же, в связи с юбилеем, в печати появились статьи Т.А. Смелой и В.В. Галахова о научно-общественной деятельности ученого, а также сообщение С.Б. Филимонова об обнаруженных в отделе рукописей РГБ тезисах доклада академика «Историческое значение Московской губернии и задачи ее изучения» (от 1 мая 1925 г.)[100 - Смелая Т.А. Академик Ю.В. Готье (к 100-летию со дня рождения) // Советские архивы. 1973. № 4. С. 42–45; Галахов В.В. Историографические материалы в фондах академика Ю.В. Готье // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 236–237; Филимонов С.Б. Рукопись Ю.В. Готье // Советские архивы. 1973. № 4. С. 102.].