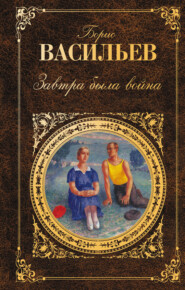скачать книгу бесплатно
Тут надо сказать, что одна я осталась. Родные все в оккупации погибли, брат без вести пропал, и я на фронте только от раненых да от подружек письма получала. И в госпитале то же самое: даже плакала, так обидно мне было, ей-богу. Всем письма идут, записки, посылки, а я одна-одинешенька, лежи да слезу роняй.
И вдруг… Нет, это ведь не объяснишь, не расскажешь, что это вдруг означает!.. Вдруг приносит мне нянечка посылочку и записку. В посылке, как сейчас помню, клубника была – только пошла, первая самая! – шоколад американский, галеты немецкие и семь кусочков сахару. А в записке сказано, что долго, мол, искал, насилу нашел и теперь уж не потеряет. Что ждать меня будет, что навещать каждый день будет, что готов всю жизнь на меня положить, какая осталась, но то не ему одному решать, а мне одной, потому что если есть у меня любимый человек, то он все понимает и просит, чтоб только помогать позволила. А подписано было так: «Командир 2?го батальона 436 сп капитан Скулов Антон, которому ты жизнь спасла 6.03 сорок пятого года в лесу тридцать семь километров севернее озера Балатон. Дождь еще с утра шел, помнишь?»
Всю ночь я тогда не спала и все вспоминала, кто он такой, капитан Скулов? Шестое марта помнила, дождь помнила, танковый прорыв, атаку, бой без перерыва, без передыху бой, ад какой-то – и то помнила. И что я в том бою восьмерым, что ли, помощь оказала, а какой из них капитаном Скуловым оказался – вот это я никак не могла вспомнить. И когда назавтра он опять пришел, так и написала: не помню, мол, и не ошибаетесь ли вы насчет меня, товарищ капитан? А он ответил, что восьмым был. Последним.
Вот так и началось, и ходил он каждый день и записки через санитарок передавал, и я ему отвечала, а сама и представить не могла, какой же он из себя, и подумать боялась, какая я. Ну что ноги у него нет, это я знала, это он в подробностях описал, но мужчина без ноги это ведь совсем ничего. Разве не правда?
Это я потом узнала, что он на вокзале жил, ночным сторожем работал, подрабатывал где мог, на себе экономил, ел через день, чтобы мне – клубнику с базара. Потом уж, а тогда ничего не знала, ничего не понимала и в собственное счастье не верила, долго не верила, очень боялась верить. А потом поверила и такая счастливая была, такая счастливая…
Пока не выписали. Вывела меня нянечка в вестибюль, а у меня и одежды-то никакой, в халате вышла. Стоим, никто на нас не смотрит, а я вижу – офицер демобилизованный на протезе с палочкой, и знаю, что он это, Скулов, который мужем моим себя считал с моего на то счастливого разрешения. И когда он понял, что я – это я, Аня Ефремова, он ко мне бросился и палочку уронил. Схватил за руки, говорил что-то, руки тряс, а я обмерла. Обмерла, и все во мне погибло, перевернулось все.
Подвал вспомнила…
И ужас такой перед ночами во мне поднимался, что думала, не пересилю. Не пересилю, не отблагодарю его за доброту, за то, что все он мне отдал, все, что имел. А ему ведь тоже нелегко было: он ведь поначалу не от любви шел, а от ума, от внушения, что обязан мне, я-то чувствовала, женщину не обманешь. Да и что кроме двадцати лет было-то у меня после госпиталя? Вот так и шли друг к другу: я – от ненависти через пропасть, он – от совести через насилие над собой. А как пришли, – не привыкли друг к другу, нет, и не думайте так-то! – как влюбились друг в дружку, парнишка в подружку, так и полной вершины достигли. Медленно шли, будто ощупью, а как доползли, так все в один миг уложилось, будто прозрели, будто пелена с глаз. Бросились, обнялись, я в голос реву, а он кричит: «Анечка моя, Анечка моя…» Вот когда медовый-то месяц нас нашел: через три года после первой ночи. Долго шли, и пути наши не сравнить никак, потому что он первым пришел, он ждал меня, он быстро влюбился: я это сразу почувствовала, женщину ведь не обманешь.
Да что это я – все про любовь да про чувства. Суду ведь не чувства нужны, а факты. Показания, а не признания.
А факты такие, что Тоша был женат и от законной своей супруги Нинели Павловны имел дочь Майю сорок первого года рождения и сына Виктора сорок четвертого. Не подумайте чего: в начале сорок третьего Тошу второй раз ранило, он после госпиталя отпуск получил, к жене съездил и жил в своей семье целых пять дней, почему и мальчик родился. Но он того мальчика никогда не видел, потому что в марте сорок пятого нас судьба свела, и все он ради меня из души вычеркнул, даже детей. Осуждаете? Осуждайте, ваше полное право.
Ну, а что касается жизни, то мы вскоре от Родионовны ушли. Надолго ее не хватило, опять пить начала, безобразничать, и мы ушли в общежитие кожзавода, на котором Тоша экспедитором устроился. Конечно, комнаты нам не дали, но Сеня – морячок безногий, севастополец, который меня вместе с Тошей встречал, – Сеня нам бывшую кладовку выпросил в пять квадратных метров без окна. А потом я немного окрепла, в заводскую поликлинику пошла работать. Тоша повышение получил, его в президиумы стали выбирать как хорошего работника и заслуженного фронтовика, и директор нам жилплощадь гарантировал, как двум инвалидам войны. И не случись нечаянной радости, жили бы мы в Сызрани и по сей день, и не было бы ни домика по Заовражной, семнадцать, ни моих цветов, ни Тошиной двустволки. Вот ведь как оно бывает: несчастье мне любовь принесло, вершину жизни, а счастье с той вершины сбросило в пропасть.
Меня разыскал родимый брат Иван. Он младше меня на целых семь лет, и, когда я на курсы уехала, он с родителями оставался, а потом, когда немцы наступление повели, бежал, а родители растерялись и погибли под оккупантами. А Ване тогда десять было, бродяжничал он и тоже бы, наверно, погиб, да подобрала его очень хорошая женщина Александра Петровна Ковальчук и усыновила: детей у нее не было, а мужа на фронте убили. И вот они нас разыскали, приехали и – уговорили. И оставили мы завод и свою каморку без окон и переехали сюда, на Заовражную, семнадцать. Это теперь – город, а тогда был дачный поселок, и дом принадлежал Александре Петровне. Участок при доме имелся небольшой, но ухоженный: тогда кормились с них, с участков. Александра Петровна на железной дороге работала, Ваня еще в школе учился, никого больше не было, и мы впервые по-человечески зажили. И так этой человеческой жизни обрадовались, так отвыкли от нее, что сразу две ошибки сделали. Первая: Тоша не на завод работать пошел, а механиком гаража, чтоб к дому поближе, а вторая – я. От земли я никак оторваться не могла. Вожусь во дворе от зари до зари и плачу от счастья. И тогда Александра Петровна сказала, чтоб никуда я работать не шла: корми, говорит, нас всех, коли так землю любишь. И я обрадовалась ужасно и все там устроила, на участке, все принарядила, прихорошила и цветов понасажала, где хоть пятак свободной землицы был. И пятак тот все рос, потому что жить мы стали лучше, в огороде особой потребности уже не было, а с цветами я никак не могла остановиться, тем более что всем это нравилось и все меня поддерживали и мне помогали. Так и жили: уж Александра Петровна на пенсию ушла, Ваня в Москве учился, мой Тоша завгаром стал, а я все в земле вожусь. Из земли мы вышли, и тянет она нас сквозь асфальт, бетон и годы…
Ваня так в Москве и остался, в большие люди вышел, за границу ездит. Женился, квартиру получил и к нам только раз приехал – на похороны Александры Петровны, названой матери. Домик по закону к нему перейти должен был, но он оформил дарственную на меня и опять уехал. В Бельгию, что ли. А мы с Тошей стали нежданно-негаданно владельцами участка и дома. К тому времени город уж в этот дачный поселок ворвался, кругом дома понастроили, но нашу улицу не тронули, только участки обрезали. И оказались мы в городе, в собственном доме с участочком, на котором грядка умещалась, крыжовник со смородиной и – цветы. Уж такие я цветы к тому времени развела, что даже на выставке в Москве медаль получила. За новый сорт гладиолусов «Александра Петровна». Так он, этот сорт, и в каталоге значится, хотя его долго утверждать не хотели и меня упрашивали, чтобы просто «Александра» назвала, без отчества. Но я настояла, чтобы с отчеством, и очень радовалась, а тут Тоша приходит с работы и говорит, что ему, как коммунисту и фронтовику, предлагают директором рынка и что он уже дал принципиальное согласие, потому что там оклад повыше, а нам дом ремонтировать надо, а денег – одна Тошина зарплата. И я согласилась, и это есть моя самая главная ошибка, из-за которой и начались все наши страдания. И если призовут меня на самый Высший Суд, я скажу, что одна во всем виновата, потому что если женщина любит, то она должна любить за двоих, за троих, за весь мир должна любить и все предвидеть.
Только он как лучше хотел. Он видел, что вся я в этом клочке земли, вся – в цветах да в счастье, а дом скрипит, течет и разваливается, а материалы ой сколько стоят. И пошел на эту должность, а через три года его забрали. Господи, в чем только его не обвиняли, каких только на него грехов не вешали! Но спасибо, адвокат нам достался очень хороший: фронтовик, с головой и с совестью, и все доказал неопровержимо. Тошу освободили, но на рынок не вернули за излишнюю его доверчивость и выговор по партии вынесли. А устроили инженером стадиона – совсем уж работа непонятная, как он говорил, но он очень старался, чтоб выговор сняли, а как сняли, тут же и на пенсию ушел. И стали мы с ним вдвоем цветы выращивать.
Недолго, правда. Сперва нам забор сломали, потом в парничке все стекла камнями вышибли, а позже собаку отравили, Найду мою. Она на руках у меня умерла, а я заболела. Ноги у меня отнялись, и Тоша еще целых полгода со мной мучился.
А потом я умерла. Я уже знала, что умерла, что мертвая я, что рука моя в его ладонях холодеет, а он не знал: мертвые умнее живых. А когда понял, так закричал, что я крик его расслышала. Далекий-далекий, будто с того берега:
– Аня!..
Судья
Муж вернулся поздно, был тих, задумчив, от него попахивало вином и еще чем-то – чем именно, Ирина угадывать тогда не решилась, но потом долго помнила: пахло чужими духами, другой женщиной, иным теплом. Она ни о чем не спрашивала и без конца почему-то говорила о своем – о Скулове, о грядущем процессе, а он молчал, хмурил широкие брови и беспрестанно курил на кухне.
– Случилось что-нибудь?
– Что? – Он точно очнулся. – Иди ложись. Поздно уже.
Ночь принадлежит женщине – эту истину не преподносят ни в книгах, ни в школах, но об этом знает любая девчонка. И когда муж, внезапной замкнутости которого немного испугалась Ирина, сказал, чтобы шла спать, она усмотрела в этом знак обещающий. И, надев самую соблазнительную ночную рубашку, долго читала, разметав по подушкам пышные волосы и прислушиваясь к шагам. А потом как-то незаметно уснула и проснулась оттого, что ощутила взгляд. Открыла глаза, увидела мужа в сером рассвете, потянулась к нему теплыми руками, но заметила, что он в костюме и рубашке с галстуком.
– Почему ты одет как на прием? Сколько времени?
– Подожди. – Он остановил ее руку, которая уже тянулась к выключателю. – Поговорим. Надо поговорить, понимаешь?
– Считаешь, что в темноте разговаривать легче?
Еще ничего не зная, она уже все поняла. О господи, да есть ли создания трусливее мужчин? Почему нельзя объясниться спокойно, трезво, логично? Почему они всегда норовят сбежать в сумерках?
– Что же ты молчишь? Пороху не хватает?
– Извини, я закурю?
Метнулся к светлому прямоугольнику окна, под приоткрытую форточку, закурил, чиркнув зажигалкой. Ирина привычно хотела сказать, чтобы ушел из-под форточки, чтобы поберегся. Совсем было рванулись из нее эти слова, но она вовремя опомнилась: не ей принадлежал собственный муж, не ей принадлежало его здоровье и вообще не ее собственность курила под форточкой. И поэтому она сказала не то, что хотела:
– Отвернись, я встану.
В принципе ей было безразлично, отвернется он или нет, и даже (если уж честно) хотелось, чтобы не только не отворачивался – чтобы глаза пялил. Но слово «отвернись» для женщины означает не физическое действие, а психологическое отрицание, качественный сдвиг отношений. А он и вправду отвернулся, и это окончательно убедило ее, что чемоданы его сложены. И, вспоминая совсем недавнее и внутренне нервно усмехаясь от этих воспоминаний, Ирина не ограничилась наброшенным халатиком, а оделась основательно, неторопливо все натянув, застегнув и приладив. А потом достала из шкафа деловой костюм, в котором появлялась только на процессах, надела его, запахнула теплую постель и зажгла полный свет.
– Можешь обернуться.
Одевалась она, все время думая, что подобная ситуация уже была однажды: четыре года назад. Были сумерки – только не утренние, а вечерние, – были два заранее собранных чемодана, был тот же аккуратный мужчина при галстуке, и только женщина была другой. Женщина была смятой, растерянной, жалкой: у нее вдруг так некрасиво и так некстати заболел живот, и он – такой весь «при галстуке» – рассказывал об этом ей, Ирине. Кажется, они даже смеялись оба: какая мерзость… И вот теперь настал ее черед: «Мне отмщение, и аз воздам» – эпиграф к «Анне Карениной», но откуда взяты слова? «Мне отмщение, и аз воздам» – точно, воздал. Тьфу, какая мерзость: неужели они смеялись над чужим горем?.. Так. Теперь запахнуть постель с теплыми вмятинами тела и зажечь полный свет.
– Можешь обернуться.
Повернулся, даже в глаза глянул – правда, ненадолго. Но с духом собрался и так боялся, что мало его, духу-то этого, что вот-вот уйдет он, исчезнет, растворится без остатка, что сам начал говорить. Торопливо и уже не ожидая наводящих вопросов.
– Ира, ты умная, современная, прекрасная женщина. Я убежден, что ты все поймешь. Чувства не поддаются статьям и параграфам, они живые. Они рождаются, живут и умирают, это естественный процесс, и ты, как человек образованный, это понимаешь и… Это диалектика души, это ее поиск, высшее требование к себе самому. Честность. Нечестность. Справедливость. Несправедливость…
Журчал голос. Уже не в комнате журчал, а, казалось, где-то вне, в ином измерении, а потому и воспринимался отчужденно. И хотя Ирине было нестерпимо обидно, больно и горько, она не плакала, не спорила, не умоляла – она думала, механически продолжая слушать журчание почти неузнаваемого, почти уже чужого голоса.
Что же такое – любовь мужчины? Переход из одной теплой постели в другую, столь же теплую? А любовь женщины? Увлечь, заманить, затащить, превратить лихого кочевника в оседлую рабочую скотинку? Значит, все основано на голом зверином инстинкте: брать, хватать, покорять, подчинять? Не отдавать, а брать, не жертвовать собой, а жертвовать той, третьей? А потом, когда пройдет первая боль, она вспомнит о справедливости, непременно, обязательно вспомнит. Почему же мы вспоминаем о справедливости тогда, когда нам больно? Не тогда, когда мы причиняем боль, а когда нам причиняют боль… Стоп, стоп, ты – судья, ты заговорила о справедливости. Это важно, это почему-то очень важно, не теряй нить…
– …И мы подходим друг к другу. Ты извини, что я об этом, но мне необходимо, чтобы ты поняла…
«Подходим друг к другу», он сказал? Любопытно: не «подходим друг другу», а «подходим друг к другу». Как ключ к замку, как кофта к юбке, как вещи, механизмы, детали, а не людские души: те – подходят друг другу. Подходят – значит, дополняют друг друга, помогают друг другу, поддерживают, радуют друг друга. Вероятно, это и есть любовь. Очень просто: друг другу, без всякого «к». Отдавать друг другу.
Не брать, а отдавать. И радоваться, и быть счастливой оттого, что отдаешь… И все это – мимо, мимо, а достаются одни бездушные автоматы, деловито подбирающие друг к другу отмычки. Подбирающие пару до комплектности, что ли: сравнение, может быть, и не совсем удачное, но оно точно передает этот смысл, который ныне вкладывают в понятие «любовь»…
– …Совсем не потому я решился на этот шаг, что Наташа… Извини, она еще студентка, и нам будет неимоверно трудно жить, особенно когда родится ребенок…
– Что? Ты успел обзавестись ребенком от собственной студентки? Так вот чего ты боишься: карьерка рискует треснуть? А когда лез в постель к девчонке, не боялся? И совесть помалкивала? А теперь вдруг заговорила?
Господи, куда ее понесло? Обвинять, выяснять, срываться на крик – как все пошло. И как противно: увлечь свою же студентку, заморочить ей голову. А потом – животик: девочка оказалась дурой. Или – совсем не дурой. И товарищ доцент, кандидат наук затрясся, как нашкодивший мальчишка.
– Ты собрал свои вещи? Ничего не забыл? Ключи на стол и выкатывайся.
– Но я бы хотел, Ира, чтобы наши отношения…
– У нас нет более никаких отношений. Ключи на стол.
– Ира…
– Убирайся вон!..
Хлопнула дверь, и она разрыдалась. От боли, от обиды, от унижения, от одиночества, наступившего с этой минуты. «Ничего, ничего, – твердила она себе. – Женщины плачут во спасение собственных нервов, только и всего. Это – разрядка, снятие стрессовых напряжений, переключение эмоций, как у детей. И я плачу сейчас, как девочка, которая вдруг обнаружила, что ее любимая кукла – всего-навсего тряпка, набитая опилками…» Она изо всех сил старалась не думать о наступающем одиночестве, о пустоте в доме и пустоте в сердце; она любила мужа, но сейчас, в это первое утро его ухода, почему-то ни разу не вспомнила о любви. Может быть, это происходило помимо ее сознания, может быть, некий спасительный механизм не позволял ей сосредоточиваться на потере, потому что именно сегодня ей предстоял громкий процесс, о котором давно и мно го говорили в городе. И она старательно стала думать о другом, внутренне прекрасно осознавая, что то, связанное с мужем, с ее любовью, с милыми хлопотами, привычкой кормить завтраком и ужином, – то, что так определяло всю ее женскую жизнь, не забыто, не отринуто, а лишь отложено до поры. До того времени, когда она, перестав принадлежать обществу, станет вновь при надлежать себе, вновь, как оборотень, превратившись в женщину, способную выть, рвать на себе волосы и кататься по полу от потери, которую ничем уже не восполнишь.
Значит, так. О любви думать не будем: ее нет и не может быть. Она существует лишь в книгах, песнях, театре, кино, но в нормальной, обыденной жизни абсурдна сама мысль о ее возможности. Есть тела, созданные природой так, чтобы они подходили друг к другу. Либо – не подходили… Стоп, думать надо не об этом, совсем не об этом. Что-то ведь мелькало, что-то очень важное, что следовало не забыть, чтобы додумать… Спокойно, Ирка, спокойно, тебе – тридцать пять, и твой поезд ушел. Только что, кстати, ушел, еще и дым от него не рассеялся, еще чуть слоится по комнате… Хватит!
Ирина решительно встала, сняла деловой костюм, аккуратно повесила его, разделась и прошла в ванную. Долго стояла под сильным душем, делая его то нестерпимо горячим, то нестерпимо холодным. Потом завернулась в банную простыню, вернулась в комнату и села в кресло, отдыхая. Отдохнув, неторопливо оделась, прошла на кухню и долго стояла в растерянности, обнаружив, что ей совсем не хочется ничего готовить. Наспех сварила кофе и потащилась с ним в комнату, может быть, потому, что с мужем они всегда завтракали на кухне.
«Да, справедливость! – неожиданно вспомнилось ей. – Справедливость и несправедливость – Сцилла и Харибда человеческого бытия». Это почему-то хотелось не забывать: в связи с предстоящим процессом, что ли? Справедливость и несправедливость. Что же именно следует помнить при этом?
Получается, что мы начинаем взывать к справедливости, ощутив собственную боль. Вот тогда мы вспоминаем, что справедливость должна существовать, что справедливость гарантирована государственными законами и, следовательно, обязана поддерживать меня в минуту трудную. Существует такая форма обращения к справедливости? Безусловно: это – справедливость эгоизма. Не личная справедливость, а эгоистическая: она ведь может оказаться и не личной, она может представлять каких-то людей, какие-то группы заинтересованных лиц, даже слои населения, и все равно оставаться эгоистической в сути своей. Ибо она есть антипод справедливости человеческой, всеобщей, присущей абсолютному большинству.
Господи, кажется, что заново открываются Америки, а всего-то бабу обидели. «Женщина плачет, муж ушел к другой…» Нет, нет, дело не в том, что тебе дали по носу, а в том, чтобы оградить людей от зла несправедливости, не позволить этому злу торжествовать. Нет, опять запуталась: это же и есть функция суда. Люди создали институт суда для того, чтобы он – и только он! – решал, что справедливо, а что несправедливо для данного конкретного случая… «Но я же о другом, совсем о другом, но о чем же, о чем? О том, что суд призван нести высшую справедливость, а это предусматривает прежде всего его авторитет. Авторитет суда – основа веры в его непогрешимость и, следовательно, в справедливость вообще… Кажется, я додумалась до смелого утверждения, что лошади едят овес и сено.
И все эти размышления только из-за того, что муж ушел к другой? – Ирина невесело усмехнулась. – Смешно, но это так и есть. Если бы мы только представить могли, насколько сложен жизненный путь каждого, насколько перепутаны наши отношения с миром, с себе подобными, с обществом, его учреждениями и институтами, с семьей, основанной не только на любви, но и на законах человеческого общения, а закон есть идеальная формула справедливости. Так плетется сеть, многоосевая система координат, в которой существует человеческая личность, и если нарушить равновесность этих координат… К чему это я? Ах да, когда-то хотела написать статью об этом, но отговорили: сор из избы. Хорошая хозяйка выметает сор из избы, а не прячет его под ковром… Любопытно, что больше всех тогда отговаривал муж. То есть бывший муж, ныне ушедший с двумя чемоданами. Он – большой специалист в вопросах, что можно, а чего нельзя, он всю жизнь провел между этими пограничными понятиями, всю жизнь нарушал их демаркационные линии и всю жизнь страшно боялся этих нарушений: он и сегодня удрал не от любви, а от страха… От страха – вот любопытный аспект нашего общественного поведения: мы куда чаще совершаем поступки не из любви к ближнему, а из страха перед обществом. Своеобразное антирыцарство, расцветшее в двадцатом веке, суть которого элементарна, как ругательство: наказание стало неизмеримо страшнее преступления. Настолько страшнее, что мы очень многие преступления как бы изъяли из восприятия: они заменены страхом и сами по себе без страха наказания уже как бы и не существуют. Ну, например, можно обмануть девчонку, и если сошло с рук, это не порок, это – доблесть, ею бравируют. Можно стянуть с завода моток провода: не поймали, значит, это просто практичность. Можно ударить ребенка, изругать последними словами женщину, сбить с ног старика – это не преступления, если не схватили за руку. Господи, как же велик он, этот страшный перечень того, что наш повседневный быт уже перестал считать преступлением! А ведь еще совсем недавно считал, и мы знаем, что считал, тому есть масса доказательств. Еще до войны, например, многие предприятия не имели охраны, а ведь никому не приходило в голову таскать дрожжи, пряжу или лекарства. Что же случилось с нами? А ничего, просто муж ушел к другой…»
Ирина усмехнулась: господи, опять – муж. Странно все же устроена пресловутая женская логика: она узорна, в отличие от прямолинейной логики мужчин. Она плетет вязь из тысяч нитей, три четверти которых давно бы отбросил привыкший все упрощать сильный пол. Но ведь сколько раз именно многоконцовая вязь женской логики оказывалась куда содержательнее искусственно упрощенной логики мужчин. И в данном случае то, что муж ушел к другой, вылилось в ткань рассуждений отнюдь не от обиды: ведь все с чего-то начинается и чем-то заканчивается. Все имеет свои начала и свои концы.
Давно известно, что невозможно заставить человека совершить преступление под гипнозом. Человека можно привести в сомнамбулическое состояние, но в тот миг, когда будет отдан приказ совершить нечто противозаконное, гипноз перестанет действовать. Это проверено многократно, и вывод звучит аксиомой: границы нарушения закона определяются нравственным багажом личности. Не знанием Уголовного кодекса – профессиональные преступники знают УК не хуже любого юриста! – а необъяснимым, невидимым, но так легко ощущаемым порогом нравственности. И поэтому то, что муж ушел к другой, имеет самое непосредственное отношение к вопросам преступления и наказания. Все начинается с первого шага – и путь на Джомолунгму, и дорога на эшафот. Например, у этого… да, у Скулова тоже был когда-то первый шаг.
Кстати, пора в суд. Пора прятать личное, теплое, женское под строгим деловым костюмом: сегодня Ирина Андреевна Голубова судит убийцу.
Суд
– …Признаете себя виновным в…
– Признаю.
Даже стандартную формулировку договорить не дал: так ему тягомотно было, так хотелось поскорее в камеру, от людей подальше. Эх, дали бы Скулову такое право: признаться, попросить самого тягчайшего наказания – и всё, кто по домам, кто по камерам. Судья, например, – молоденькая, но что-то уж слишком на себя суровость напускающая – от радости, что отпустили, поди, вприпрыжку бы домой помчалась, к мужу и к деткам. Да и все бы обрадовались, кроме разве что публики. Эти ведь зрелища жаждут, подробностей, последних слов и предсмертных хрипов.
Кого-то вызывают, кто-то встает, кто-то плачет, говорят какие-то слова, читают какие-то списки. Зачем все это? Зачем же столько времени, столько процедур тягостных, люди? Что тут разбирать, что проверять, что уточнять, когда все давным-давно ясно. Ну убил, не отрицает же этого Скулов? Нет, не отрицает, все точно, еще хоть двадцать раз готов подписать.
– Ничего не имею. Ни отводов, ни вопросов, ни пожеланий.
Плохо, что всякий раз вставать приходится. Как отвечать, так и вставать, а нога болит. Не эта, здоровая, а та, которой нет. Которая в Венгрии осталась, в сапоге и в шерстяном носке: он портянку перед боем накрутить не успел, больно уж быстро все произошло. Вот и валяется она без портянки в тридцати семи километрах севернее озера Балатон, а мозжит здесь, проклятая. Видать, потому, что без портянки…
Скулов поудобнее, половчее пристроил свой обрубок и огляделся, но никого в переполненном зале не увидел. Ни одного лица в отдельности, а просто – лица. Лица, лица, лица…
Ну, теперь фотографии затеяли разглядывать. Видал их Скулов, объяснял следователю, что помнил: где стоял, когда именно ружье схватил, кто куда прыгал да кто куда падал. Хватит уж, насмотрелся. А они – смотрят, обсуждают, спорят чего-то, а про него пока забыли, и то ладно. Уши, жалко, не заткнешь, а глаза закрыть можно.
Он закрыл глаза, на мгновение всполохи увидел и подумал: «Трассирующими бьют…» И тут Аня все заслонила, заулыбалась ему, заулыбалась…
Очнулся вдруг:
– …в присутствии гражданки Коробовой Ольги Сергеевны, а также граждан Трайнина Игоря Александровича, Самохи Виктора Ивановича и Русакова Дениса Радиевича выстрелом из охотничьего ружья…
Какая там еще Ольга Коробова? Вот эта, молоденькая? Не было ее там, ей-ей, не было, и следователь о ней ничего не спрашивал. А она, оказывается, свидетель…
– Где вы стояли, свидетельница?
– На дороге.
– Одна?
– Нет. С Игорьком… То есть с Трайниным.
– Расскажите по порядку, как было дело. Что вы видели, что слышали.
– Ну мы от Русаковых возвращались, часов одиннадцать вечера, что ли, было. Я впереди шла с Игорьком… то есть с Трайниным. Тут Эдик догоняет и говорит: хочешь, говорит, я тебе цветы преподнесу? Невиданной, говорит, красоты…
Невиданной красоты. Махровые розовые хризантемы, еще не занесенные ни в какой каталог. Последний сорт, который начала выводить Аня, а заканчивал он. Неумело заканчивал, трудно, но очень старался, очень хотел – и вывел. Невиданной красоты розовые махро вые хризантемы. Аня мечтала показать их на выставке в Москве и назвать «Антон». Он тоже хотел показать их и послал заявку: «Розовые махровые хризантемы с изменчивой окраской лепестков от густо-красного в центре соцветия до нежно-розового на концах. Наименование сорта: “Аня”. Вот в этом единственном он нарушил ее волю, потому что в центре соцветия были темно-красными, как ее кровь там, тридцать семь километров севернее озера Балатон…
– У меня вопрос. – Адвокат карандаш поднял. – Скажите, свидетельница, вы пили у гражданина Русакова?
– Я рюмки две выпила, не больше.
– Не больше?
– Ну, три, какая разница…
– А мужчины по сколько рюмок выпили?
– Прошу данный вопрос снять, – поспешно вклинился прокурор.
– Суд снимает вопрос. Прошу защиту задавать вопросы, касающиеся свидетельницы непосредственно.
– Извините. – Адвокат улыбнулся почти с торжеством. – Значит, вы находились на дороге вместе со свидетелем Трайниным. И что же вы делали?
– Ну… Ну как то есть что делала?
– Повторяю вопрос. Что вы делали на дороге вместе с Трайниным, когда остались одни?
– Ну, это. Целовались, что же еще?
По замершему залу прошелестел шумок. Где-то глупо захихикали девчонки, но сразу же смущенно примолкли.
– А потерпевший Эдуард Вешнев любил вас? – выдержав паузу, негромко спросил адвокат.
– Эдик-то? – Ольга Коробова шмыгнула носом, но от слез удержалась. – Ну, говорил. Даже письмо такое прислал.
– Значит, любил вас Вешнев, а целовались вы с Трайниным, – как бы в задумчивости повторил адвокат. – А где был в это время потерпевший?
– Как где? – неприязненно переспросила свидетельница. – За цветами полез, говорила уже.
– Конкретнее, пожалуйста. Вы видели его?
– Видела. И слышала. Они… Ну, это, сам Эдик, значит, и Самоха с Дениской колючую проволоку рвали.
– Вопрос! – тотчас же ворвался прокурор. – Какую колючую проволоку?
– Которая поверх забора натянута была, чтоб никто перелазить не мог. Эдик полез, да напоролся и ругаться стал. Сидит на заборе и ругается, а остальные…
Все точно: сидел на заборе и крыл во всю глотку матом, а под забором, выходит, стояла его любимая, которую Скулов и не видел, но ради которой этот… потерпевший, так, что ли?.. и полез за цветами. Будущего сорта «Аня»… Нет, не будет, никогда уже не будет такого сорта. Как это пелось – Аня еще этот романс любила – «Отцвели уж давно хризантемы в саду…».