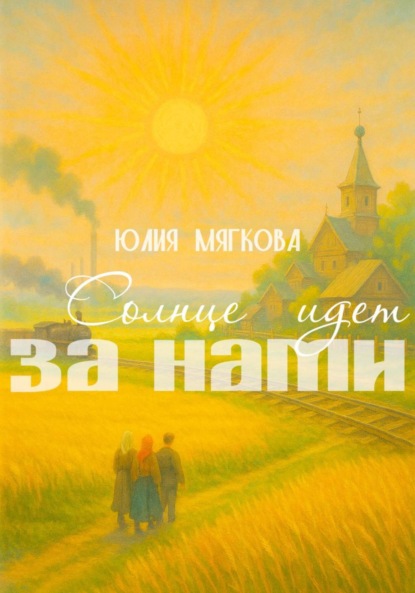
Полная версия:
Солнце идёт за нами
На следующее утро, встав спозаранку, Санька пешком отправился из Уфалея за сорок с лишним вёрст. Выглянуло солнышко, заблестела от росы придорожная трава. Весело защебетали птицы, приветствуя рождение нового дня. Зашумели от утреннего ветерка вершины высоких сосен, а по небу медленно поплыли причудливые облака. Но Санька не мог любоваться красотами природы: в голове настойчиво звучал вопрос:
– Что скажут в районе?
Видел-то он, действительно, плохо, но его могут направить на строительные работы: рыть окопы, сооружать блиндажи. Да мало ли что еще потребуется от рудокопа? Ну что ж! Он привык к тяжелому труду. Только жаль оставлять мать с больным отцом.
Осмотрев нездоровые Сашкины глаза и проверив зрение, врач вынес свой приговор:
– Годен с очками к военной службе.
… Но заводское начальство распорядилось по-своему и дало Саньке бронь как незаменимому работнику, выдававшему «на гора» по две-три дневных нормы. Видно, помогла Казанская Богоматерь и отвела слепого от солдатской судьбы.
Павел Менщиков погиб в первые месяцы войны. Получив это известие, Мария Семёновна 4 мая 1942 года ушла на фронт и 12 июня приняла присягу.
Александра Семёнова или, как звали ее в семье, Шурочка трудилась в годы войны на железной дороге станции Верхний Уфалей. Ей как железнодорожнику приходилось не раз сопровождать составы, идущие на фронт. Самая младшая сестра Анастасия работала в швейной мастерской, шила вещи, которые отправляли фронтовикам…
Антип Семёнов тоже, получив бронь, работал на металлургическом заводе, где производили вооружения для танков.
Огненный столб войны своим раскалённым жалом коснулся и обжёг почти каждого человека нашей огромной страны.
Глава 3. В тылу
– Саньк, принёс «конфетку» или опять по дороге съел? – слабо спросил Василий Семёнов, чуть приподнявшись с лежанки, устроенной на русской печи.
После ухода любимой дочери Марии на фронт старик от горя и постоянного недоедания почти не вставал.
– Прости, батя, не донес сегодня «конфетки», иссосал корочку по дороге на радостях-то.
– Василий, постыдился бы объедать Саню-то, ведь не равен час не дойдёт с рудника домой, упадёт от голода на дороге и замёрзнет, – вмешалась в разговор Таисья. И к сыну:
– А что за радость-то у тебя?
– Перевели с Самоцветного-то рудника под самый бок, на Тюленевский. Ходить-то теперь всего ничего: от подстанции до шахты русской подать.
– А каким случаем повезло? – опять подал голос отец.
– Ничего не знаю. Говорят, кто-то из начальства выглядел мою шишку на лбу да ноги в чирьях от простуды, вот и посодействовал.
… Но на Тюленевском руднике тоже не легче, так же приходится махать кайлом да ломом долбить, и вагонетки гружёные с ручной откаткой, да и выдают породу на поверхность в клетьевых подъёмниках…
– Эх, Санечка, видно, доля твоя такая: копать глубже, кидать дальше, возить больше. Нет судьбы тяжелее, чем в шахте, а на другую работу не возьмут: и так плохо видел, а как вагонетка в лоб ударила, чуть совсем не ослеп. –Антипушке-то полегче, все-таки в тепле да сухости. В заводе гранаты против вражеских танков делает, – с гордостью за старшего сына произнесла Таисья, а потом, обратившись к Саньке, вдруг горько заплакала:
– А ты, горемычный, по колено в воде робишь, застудился весь.
– Не плачь, мамонька, – начала утешать ее младшая дочь Анастасия. – У нас вон только Мария на фронте, а остальные хоть и голодные, холодные и больные от работы, а все не под пулями.
И, закутавшись поплотнее в черную козьего пуха шаль, подошла к дверям:
– Пойду встречу Шуру. Поезд их сегодня прибывает, помогу ей уголь дотащить. Смотри: Саньку-то совсем разморило, так и уснул за столом. Не буди его, я сама справлюсь.
Александра работала свердловщицей в депо на железнодорожной станции и выполняла по две-три дневных нормы, была стахановкой. А после смены нагребала каждый вечер ведро угля и несла домой.
– Этот уголь легкий, сорный, для котлов не годится. Ты его просей, просуши и понемногу носи себе, – подсказали ей сердобольные люди, зная, что живет она в холодном каменном доме.
И Шура хоть немного, но помогала семье с топливом.
Но три недели назад её отправили сопровождать эшелон на фронт. Таисья не знала, чем и топить печь: уже и забор пожгли, и сухостой с хворостом, заготовленные осенью. А зима 42-43 года стояла лютая: как говорят, птицы на лету замерзли, да их и не видно совсем, забились в застрехи и всякие трещины, будто и не было их никогда в природе. Снег под ногами хрустко поскрипывал, деревья трещали на холодном ветру. Ветви их, крыши и окна домов, ветхие изгороди, провода – всё покрылось толстым игольчатым слоем инея. Как не утепляй, ни протапливай каменный дом, в нем все равно холодно, даже углы кое-где промёрзли, и выходить на улицу вовсе не хотелось.
Занятая грустными мыслями Таисья вспомнила, что сегодня не ходила на собрание (а их, почитай, устраивали чуть ли не каждый день), и, надев облезлую шубейку прямо на старенький ватник, отправилась к соседям.
Татьяна, хотя и была постарше Таисьи на десяток лет, по-прежнему выглядела бодро и всё про всех знала. У Чемпаловых пили чай из сушёной мать-и-мачехи и гостью пригласили к столу.
– Таисьюшка, я хотела после чая к вам идти, а ты сама легла на помине. Слушай-ка: завтра в каждый дом на постой приведут эвакуированных. Я-то успела двух ленинградских рабочих с «Ленинской искры» взять, а вам, наверняка, иждивенцев подселят, корми их.
Потом Чемпалиха перешла на заводские дела, рассказала, что двенадцатого января одна из бригад на метзаводе установила цеховой рекорд – прокатила две тысячи сто одиннадцать листов железа за смену. Коллектив получил звание «Гвардейской бригады». И сожалела, что Беляев и Лапотышкин обошли её сына. Но ничего, зато Григорий со своими товарищами выступили с почином – предложили перечислять раз в месяц дневной заработок в пользу фронта.
Затем сообщила, что на собрании постановили упаковать посылки с тёплыми вещами для отправки на фронт. От каждых двух-трёх домов – посылка.
Таисья внимательно слушала старшую подругу и мысленно перебирала, что она может отдать из вещей. Очень хотелось помочь, ведь её Машенька тоже где-то воюет. Но тут прибежала младшая дочь Настя, крича ещё со двора:
– Шура, Шурочка приехала.
И все, включая Чемпалиху, кинулись в каменуху Семёновых.
Александра, всегда скромная и работящая, стала главной помощницей в доме. Окончив семилетку, поступила в ФЗУ (фабрично-заводское училище), овладела работой на станках. В школе училась тоже неплохо. Но один случай долго не выходил у неё из памяти. Как-то вместе с подругой Дусей Марковой они никак не могли решить задачу. Учитель математики, отпустив всех по домам, оставил Шуру и Дусю после уроков, а сам вышел куда-то по своим делам. Долго мучились девочки надо задачей, но решение не давалось, очень хотелось есть… «А учитель, наверное, обедает сейчас», – подумали они и от обиды вместо решения задачи на доске написали стишки, пришедшие на ум:
Учитель, ты учитель,
Сидишь только за книжкой
И ничего хорошего
Не делаешь детишкам.
Вернувшись в класс, пожилой математик прочитал это незатейливое стихотворение, внимательно посмотрел на девочек и отпустил их домой. Стыдно стало Шуре за свой поступок, и она расплакалась.
А теперь жизнь предлагала задачи посложнее.
Увидев дочь, Таисья крепко обняла её и зарыдала. У Шуры тоже на глаза навернулись слёзы.
– Да дай ты ей сесть, отдохнуть с дороги. Чай девка не с гулянки – с фронта вернулась. А то ревут обе, ничего от них и не узнаешь, – загудела Чемпалиха, и, шмыгая носом от нетерпения, пробасила:
– Рассказывай уже, Санька, скорее новости!
– Александра, – подал голос с печки Василий, – паёчек-то дали тебе?
– Конечно, папаня, – засуетилась Шура. – Вот тебе самый сладкий кусочек- корочка! Сейчас настоящий чай заварю с сахаром.
– Кипяток-то поспел, – заулыбалась Таисья.
Татьяна от предложенного угощения деликатно отказалась, согласившись лишь на чай. Ей не терпелось узнать, как там.
– Я вам случай расскажу про медсестричку, с которой дорога свела, – начала Шура. – Попросилась к нам девушка, белобрысенькая такая, глазастая, хромает. Мы говорим, что не положено, а она плачет: от своего санитарного поезда отстала и если не догонит, то её дезертиром объявят. Пожалели бедолагу, взяли с собой, и девчонка рассказала: сдали раненых в маленьком уральском городке и в обратный путь отправились. Работы в тот день было много по транспортировке больных. Очень устала, и в вагоне душно: спёртый запах от гниющих ран и йодоформа резко бросался в нос. Вышла в тамбур подышать свежим воздухом, а потом присела передохнуть и ноги вытянула от усталости. И не заметила, как рядом товарный состав застучал. На платформах что-то большое в серое укутано, часовые стоят с винтовками. На последней платформе листы то ли железные, то ли стальные торчали, и как поравнялся их вагон с ними, так и стащило её из дверей. Девушка болезненно поёжилась и продолжила: сбросило её, боль нестерпимая, полный валенок крови, хлюпает. Ощупала – нога на месте, кое-как перетянула бинтом (благо, санпакет с ней был) и заковыляла на станцию, авось помогут. Доползла до станционного домика и стучится. А в дверях – мужик с синей бородой лопатой. Вдруг перед глазами всё медленно поплыло и сознание помутилось. Синяя борода привиделся со страху и от боли. Девчонка-то почти ещё школьница, недавно только за партой сидела, уроки учила да сказки читала, а тут фронт: кровь, смерть, раненые…
Всё перепуталось в голове: реальные и сказочные образы. Вот таких молоденьких, ещё не оперившихся юнцов закружила война в своём страшном огненном вихре, оторвав от родного дома, разъединив с самыми близкими и дорогими людьми. А когда очнулась, увидела перед собой пожилого бородатого мужчину, который сказал ей, что сейчас будет ещё один состав, товарный. Здесь небольшая остановка. Может, и возьмут её, горемычную.
Догнали мы санитарный поезд, подсадили сестричку, а она нам сквозь слёзы: «Спасибо родные! Никогда не забуду вас!»
Спохватившись, что уж очень увлеклась рассказом, Шура затормошила мать:
– Буди скорее Саньку, ведь так за столом и спит сердечный. Я ему водочки налью и хлебца посолю закусить.
– И мне ещё «конфетку», – требовательно раздалось с печи.
– Сейчас, папаня, сейчас, – опять заспешила Шура. И к Таисье:
– Как там у Катерины дела? Обошлось или нет?
Катя, вторая дочь Семёновых, вышла замуж ещё до войны за Александра Кириллова. Поселились они в доме по улице Сакко и Ванцетти на берегу речушки Каменки, что впадает в Уфалейку. Смешная речушка и звонкая, больше на ручей похожа, журчит и бежит себе по камушкам, оттого и такое название получила. Дом деревянный, на три окошечка, которые смотрят прямо на весёлую речку. Но жизнь у Кати стала безрадостной после ареста мужниной младшей сестры Таси. Работала она кассиром, и ревизия выявила у неё недостачу – на двадцать лет осудили девчонку. Та и сама не поняла, как так получилось, денег казённых она не брала. Александр, муж Кати, так перенервничал, что в припадке гнева стал кусаться, если кто к нему с расспросами да с «охами» – «ахами» подойдет. А самого трясёт всего. Так-то здоровеем слаб, тщедушный, маленького роста, и силы недостаёт, а это событие совсем подкосило его.
– Не обошлось, Шурочка. Посадили Тасю. Вот Библию её Катя принесла и вела спрятать и хранить.
Таисья показала Шуре объёмную, в темно-синем переплёте, немного потёртую книгу со множеством картинок во всю страницу, изображавших деяния святых. Катя с детства была очень богомольной девчонкой и теперь побоялась: вдруг у золовки обыск произведут и заберут священное писание.
– Жаль, очень жаль девчонку, – проговорила Таисья. – Старшей-то сестре Валентине еще ничего не отписали в Ташкент, а от нее недавно посылку с сухофруктами Катя получила.
Здесь вмешался Санька. Он встал и показал здоровенный синяк на плече и стал оправдывать зятя за его нервный срыв:
– Он ведь нянчился с сестренкой, любил ее, а тут такое – без права переписки. Я не помню, что сказал ему, а он и укусил меня в плечо.
– Скорбные дела, неутешные, – горестно вздохнув, запричитала Чемпалиха. – Что с людьми делается! У меня тоже племянница Нюрка, письмоносица которая, объявила вдруг ни с того ни с чего, что ее Кирой-Марой зовут. Откуда это у нее, ничего не понимаю. Чем ей собственное-то имя не понравилось? Видно, с головой что-то у нее по временам случается, за своих сильно переживает, все письма-треугольники, трясясь, осматривает.
Потом, показав глазами на печь, тихонько спросила:
– А твой-то супружник, смотрю, совсем плох?
Таисья вытерла платком глаза:
– Не встает уже, заговаривается, все подарок какой-то сулит. Тоже ничего не разберу. Ну ладно, Татьянушка, прощевай покуда. Мне Настьке помочь дошить надо: норму она вчера недовыполнила. Не успеем – накажут ее. Слышала небось: за самовольный уход с работы могут от пяти до восьми лет дать, за опоздание – уголовное наказание. А здесь норму недовыполнила – мало ли что?
– Ой, да я помогу вам, всю жизнь на людей шила.
– Спасибо, – хором ответили обрадованные женщины.
И четыре головы склонились над серым сукном. Но, не успев сделать и строчки, вздрогнули. Пьяненький Санька запел со своей лежанки: сил залезть на палати не было, и он спал на двух сундуках, сдвинутых вместе:
Все по плану, все по плану:
Ср…ть велят по килограмму.
Как же выср…шь килограмм,
Если хлеба двести грамм?
Все переглянулись и на минутку притихли. Чемпалиха засмеялась первая, за ней облегченно остальные.
***
На следующий день Татьяна пришла к Семеновым рано – только печь протопила – заступиться за соседей, чтобы к ним поменьше подселили людей, определенных на постой. Им самим-то есть нечего. Таисья, увидев за спиной уполномоченного почтальоншу с брезентовой сумкой через плечо, быстро подписала бумагу. Она с самого утра почувствовала, что получит весточку с фронта. Так и есть, материнское сердце не обмануло: пришло первое письмо от Марии.
– Васенька, письмо от Машеньки, – позвала Таисья, влезая на печь, не обратив внимания на женщину и девочку, скромно стоящих у порога.
Мария Семенова была призвана в мае 1942 года. Вместе с подругой Фросей Попковой они оказались на северо-западном фронте и попали в 21-й отдельный батальон – ВНОС. Их часть приравнивалась к полку. Машу назначили начальником поста в 2-й роте, ей присвоили воинское звание сержанта. Товарищи уважали Марию и избрали комсоргом первичной комсомольской организации, считали ее стойким, выносливым, дисциплинированным бойцом Красной Армии. Об этом написано в ее характеристике командиром политической части В/ч – 741 капитаном Миловым и комсоргом – младшим лейтенантом Осиповой.
Задача девушек – следить за вражеской авиацией и передавать сведения. Маша стоит на вышке и ведет наблюдения. Вокруг так тихо, что тишина кажется осязаемой, предметной и ее можно пощупать. Но это состояние обманчивое: где-то уже зарокотали моторы. Ей вспомнился случай, как она так же стояла на вышке и во время бомбежки взрывной волной накрыло находившуюся внизу девушку и та погибла у нее на глазах.
Но обо всем этом Маша не писала родным. «Жива, здорова. Настроение бодрое». И еще стихотворение, переписанное из газет:
Иди вперед, назад ни шагу!
Запомни это навсегда.
И сохрани в душе отвагу,
Не падай духом никогда!
А главное – фотография. С нее смотрит молодая, с ясными серыми глазами, коротко подстриженными вьющимися волосами девушка в гимнастерке, туго затянутой ремнем, совсем не похожая на прежнюю Марию.
На обратной стороне фотографии мелким почерком написано: «На память любимой маме. Северо-западный фронт. 1942 год».
– Ну слава Богу, весточку от Марии получил, можно и помирать. Таисьюшка, возьми-ка вот, – и протянул рукав от старой рубахи, завязанный на конце узлом.
Таисья, ничего не понимая, развернула: в импровизированном мешочке лежали «конфетки» – засушенные сухарики, что давал старику Санька. Таисья заплакала в голос…
– Будет, будет, – ласково говорил Василий, силясь поднять руку и погладить любимую ненаглядную жену, но рука не поднималась, шевелились только пальцы, красные, с опухшими суставами.
Увидев это, Таисья прислонилась лбом к ладони мужа, а потом покрыла её поцелуями:
– Спасибо, Васенька, всю жизнь я была за тобой как у Христа за пазухой, ни разу не поднял ты на меня руку, слово дурным не назвал, всё Таисьюшкой навеличивал. И завыла в голос, от души, от сердца, а не как по бабьему обряду полагается.
… Если бы не те кусочки, не пережил бы Санька весну 43-го года.
***
Василий прожил еще неделю. Саньку на похороны не пустили – некем заменить. Могилу и ту выдалбливали ночью. Эвакуированные из Мончегорска мать с девятилетней дочерью сплели красивый пихтовый венок – так завязалась между постояльцами и Таисьей крепкая дружба, три года жили одной семьей.
По вечерам за какой-нибудь работой – штопкой, вязаньем – вспоминали довоенную жизнь, родных и знакомых. Аглая и Инга (так звали квартировавших) рассказывали, как добираясь они от далекого Мурманска до Урала.
– Ехали на поезде долго, на каждой станции людей подсаживали. Досталась нам верхняя полка одна на двоих с дочерью. А внизу какая-то дама, видно, что побогаче: и часики на руке, и колечко, крепко уснула. Вдруг видим, как к ней подбирается бочком парень, в пальцах что-то поблескивает. Пригляделась – бритва. А он между тем под подушку рукой нырк и тихонько сумочку вытягивает. Что делать? Поднять тревогу – до беды недалеко: полоснет по глазам. Случайно догадалась – уронила шпильку из волос на лицо женщины. Она и проснулась, за сумочку схватилась, а бандит – деру.
– Да, всякого народу хватает, – покачала головой Таисья. – Натерпелись вы.
А потом спросила:
– А места у вас какие? Я ведь дальше Каслей нигде не и не бывала.
– Мончегорск наш небольшой, в 37-м году стал городом, а раньше был рабочий поселок Монча, что значит по-саамски «губа». Коренное население – самоеды. Мы ведь за полярным кругом живем на Кольском полуострове, на горном склоне Мончетундры. Озера у нас красивые – Имандра и Лумболка. Имандра – очень глубокое, до 60-ти метров доходит, и само огромное. Островов на нем много. Говорят, что больше ста. Сто сорок что ли?
– А эвакуировали вас почему?
– У нас открыли медно-никелевое месторождение, начали его разработку, построили завод. А с началом войны немцы стали бомбить город, разрушили много домов. Наш дом тоже пострадал. Вот нас и эвакуировали, тех, кто остался совсем без жилья.
Женщина помолчала, а потом заговорила снова:
– Смотрю: леса у вас на Урале высокие, густые. Конца и края не видать. Поднимаешь вверх голову, и сквозь вершины едва небо виднеется. А у нас березки карликовые в тундре.
– Как это карликовые? – удивилась Таисья. – Никогда про такие не слыхала.
– Они очень низкие, стволы у них не прямые, а вовсе искривленные и по земле стелются. По легенде, карликовые березки – это помять о маленьких человечках, живших под землей. Все у них было маленькое: и олени, и деревья, и домики, и орудия труда. Но вот пришли в те места большие люди, все их подземные ходы засыпали; маленькие человечки и животные погибли. Лишь деревца проросли, но с тех пор они к земле так и клонятся, будто вспоминают о подземных жителях.
Таисья внимательно слушала, старалась представить перед собой другой мир и другую природу. Она думала про себя: «Земля большая, всем места хватило бы. И зачем это люди воюют, убивают друг друга, калечат? Жили бы в мире и согласии, трудились да растили детей. Как бы хорошо было без войны-то».
Постояльцы, мать с дочерью, старались изо всех сил помогать Таисье по хозяйству: мыть, стирать, топить печь, носить воду. Так и до весны дожили.
Аглая пошла работать в швейник. А девятилетняя Инга, худенькая, узкоглазая, с тоненькими косичками – хвостиками, сидела дома и ждала Саньку. Она кидалась к порогу, заслышав, как застучат ворота, и спрашивала:
– Дядечка, ты мне че-нить принес?
И Санька подавал ей маленькую черную корочку хлеба. Но как-то в начале лета он, придя домой, рассказал:
– Сегодня не обедал. Пришли мы в столовую, а нам говорят, что обед бесплатный. Продукты не подвезли, так поварихи пиканов нарвали и суп из них сварили. «Наливать ли?» – спрашивают. Мы им: «Наливайте».
Попробовал я и, как ни голодный был, но есть этот суп не мог. Вышел из столовой и пошел на отвалы, где молодые сосенки растут, поел пленок (так новые побеги называют у нас на Урале) и с тем снова в шахту спустился. Так что тебе, девонька, нечего мне дать на этот раз.
– Так и у нас ничего нету, – печально вымолвила Таисья. В этом году Семёновым картошки не хватило. Свой большой огород засаживали глазками, осторожно срезая их с маленьких сморщенных клубней; остальная часть шла на пропитание.
Такими суровыми и тяжелыми были сороковые военные годы. И здесь, в далеком тылу, шла своя борьба с голодом, болезнями, с тоской по родным, которые сражались на фронте.
Глава 4. Егорий Храбрый
Радиостанция РБ (3-р) заботливо укутана мешковиной и спрятана в сено; рядом с ней в санях лежит тяжелораненый. Василий Лежнев вел лошадь по узды, ему было поручено любой ценой сохранить единственное средство связи батальона с внешним миром.
Декабрь был на редкость холодным, и хмурое солнце, казалось, мерзнет в своей небесной постели и все не хочет взойти и обогреть измученных отступающих бойцов. Но солдаты были рады, что в воздухе висит серая хмарь, только прятали лица от сухой, колючей поземки – в такую погоду не будет авианалета, и, может быть, дойдут они до леса, чернеющего темной, бесформенной массой далеко на востоке. Василий тихонько подгонял уставшую лошадь, а сам все вспоминал коротенькие строчки письма, давно уже присланного матерью:
– Сыночек, а Фиму-то сразу, как пришла из Чебаркуля от тебя, забрали в трудармию, а потом и вовсе шофером на фронт отправили.
Растравляя себя, он живо представил, как полуторка Серафимы тщетно буксует, зарываясь все глубже в снежно-грязные колеи дороги.
– А что если понесла она тогда? Ведь скинет ребеночка, скинет. Любит он, любит молодую жену, выбранную ему суровым отцом. Но как помочь ей? Встретятся ли они когда-нибудь? А брательник жив или нет? Узнает ли он о его судьбе? Ведь черты его уже забываться стали. А сам он? Вдруг они не выйдут из окружения и попадут в плен? Нет, ни за что!
Он нащупал в кармане бритву, опасную, бабочкой, выменял на папиросы у одного сиделого, – живым он фрицам не достанется.
К действительности его вернул жалобный стон раненого. Василий поправил под его головой клок сена, напоил водой из фляжки нагретой на груди, и, услышав шепот «холодно», решился снять с рации толстую мешковину и укрыл ей лежавшего бойца.
Вот уже несколько дней Василий взял негласное шефство над товарищем: отдавал свой скудную порцию еды, поил выпрошенным у медсестры Ниночки спиртом, а вчера разорил у дороги стожок сена и устроил ему постель поудобнее.
Рядовой Тит Титыч был ранен в голову и грудь, когда прикрывал отход батальона. Два дня назад ему стало лучше, и медсестричка сказала, что выкарабкается солдат, поправится. Он рассказал Василию про свою большую семью: трех дочерей-подлеток и старшего женатого сына, про дом, рубленный в лапу и поднятый перед самой войной, про саморучно сложенную русскую печь, на которой теперь спит старуха мать, и про «голландку», единственную в их деревне «заморскую» печку, которую он тоже сварил сам. Говорил Титыч, что отвоевался и чувствует, что скоро после госпиталя выдадут ему белый билет и он поедет домой…
– Воздух, воздух! – закричали впереди идущие солдаты.
– Как не вовремя, – ругнулся Василий, услышав тягучий звук моторов.
Он въехал на шаткий скользкий мост, бойцы прижались к его хлипким перилам, давая ему дорогу – все знали, что без связи батальону грозит гибель. Но первый же взрыв увлек лошадь и сани с моста в образовавшуюся полынью. Испуганное животное с налитыми кровью глазами, хрипя и брызгая пеной, пыталось выбраться из ледяной западни. Острые обломки летели во все стороны, сани почти полностью погрузились в воду. Еще чуть-чуть, и их совсем затянет в бездонную чёрную дыру. Василий не раздумывая подполз к ее краю, лед трещал и грозил обвалиться – миг, и бившаяся лошадь отколола большую льдину, и связист оказался по пояс в обжигающей холодом жиже. Он лихорадочно ощупывал сани, его руки наткнулись на раненого. Василий попытался вытащить несчастного, но вся повозка резко пошла вниз. «Рация…», – мелькнуло молнией в его голове, и он в последний момент ухватил драгоценную ношу и, с силой оттолкнувшись от увязших саней, тем самым придав им ускорение погружения и невольно лишая утопающего шанса на спасение, отбросил рацию в сторону, а сам вцепился в кромку льда и почувствовал, что раненый схватил его за ноги и тянет вглубь. Василий инстинктивно попробовал освободиться, но руки, изрезанные в кровь, онемев от холода, отцепились, и он медленно стал сползать в воду.



